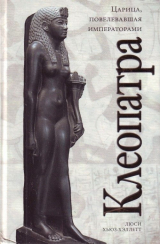
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Люси Хьюз-Хэллетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
5
ЛЮБОВНИЦА

Не плачь.
Дороже мне одна твоя слеза
Всего, что я стяжал и что утратил.
Один твой поцелуй все возместит.
У. Шекспир
Антоний только что потерпел полный разгром при Акции, бесславно бежал, потерял власть над провинциями, покрыл себя несмываемым позором. И всё же, оказавшись в объятиях египтянки, он утирает её слёзы.
Современная аудитория рыдает от таких проявлений бездушной любви. Современники Шекспира, напротив, были полностью шокированы и приходили в ужас оттого, что великий человек мог заниматься такими глупостями.
«У Клеопатры в груди горел всеочищающий огонь любви» – так писал Виктор Гюго в 1868 году. «Что искупает Антония, – пишет Уильям Тарн уже в нашем веке, – это то, что под конец жизни он смог отдать полцарства за любовь». Примерно таково мнение теперешней критики. Однако уважение к любовным чувствам появилось сравнительно недавно. Любовь Клеопатры могла быть очищающим и облагораживающим чувством для Гюго, но для Петрарки в XIV веке это был «бесцельный жар», который не только не облагораживает, но сжигает её своими жестокими лучами.
Для мыслителей эпохи Возрождения страстная любовь – бедствие, сопровождаемое умственным расстройством или помешательством, она унижает человека. Лекари Средневековья считали, что её надо лечить, как и другие физические или умственные заболевания. Насмешники высмеивали любовные чувства. Так, Томас Хайвуд писал, что «нет ничего глупее влюблённых, которые тратят понапрасну своё время и силы и попусту транжирят жизнь в рабском и смешном ухаживании». Философы оплакивали несчастных горемык. «Упавший со скалы пострадает не больше, чем те несчастные, которых захватывает поток любви», – пишет Роберт Бартон. Этимологически слово passion – страсть – происходит от латинского корня со значением «страдать», с чем было полностью согласно большинство авторов XVI и XVII веков. Вергилий в своё время восклицал по поводу влюблённости Дидоны: «Жарко пылает любовь в груди безумной Дидоны». Точно так же реагировали и средневековые мыслители, соревнуясь с античными авторами в неприятии столь жестоких пламенных чувств. Для Шекспира и его современников Клеопатра – прежде всего возлюбленная, и её история – это описание духовных и житейских опасностей, порождаемых неумеренностью страстного чувства. В пьесе Жоделя Антоний называет себя «стократ несчастным», поскольку слепая любовь к Клеопатре безвозвратно погубила его репутацию, заставила покинуть жену и детей и бросила в объятия «смертоносной змеи». Он проклинает свою любовь, называя её сумасшествием, отравой, жестоким огнём, наказанием, напущенным ревнивыми богами, решившими довести его до горя и бесчестья.
Несчастна ты! До горестных пределов
Ты довела сама себя!
Такими словами героиня Джеральди Цинтио оплакивает свою судьбу, проклиная день и час, когда она повстречала впервые Антония, поскольку именно с того момента началось «плачевное крушение» её жизни.
Шекспир в «Антонии и Клеопатре» подчёркивает драматический конфликт между разумом – надёжной и мудрой опорой личности и его противоположностью – страстным и сексуально окрашенным чувством. В шекспировской пьесе страсть героев подана ярко, но хотя он живописует их чувства – соблазнительные, блестящие и красивые, – тем не менее они не получают его авторского одобрения. Критик Франклин Диккей отмечает, что Шекспир выставляет Антония и Клеопатру не для нашего восхищения, а в качестве «печального и сурового примера, который вызывает и жалость, и желание, чтобы с нами этого никогда не произошло». Строфы, где описывается любовь Антония и Клеопатры, настолько завораживающи, что читатель, привыкший к романтической традиции, где страсть облагораживает героев, бывает при первом чтении Шекспира немало изумлён и разочарован, обнаружив по ходу действия, что главные действующие лица отнюдь не отличаются благородным поведением.
В самой первой сцене Антоний, обнимая Клеопатру, говорит:
Пусть будет Рим размыт волнами Тибра!
Пусть рухнет свод воздвигнутой державы!
Мой дом отныне здесь. Все царства – прах.
Земля – навоз, равно даёт он пищу
Скотам и людям. Но величье жизни —
В любви!
Современниками Шекспира подобное утверждение, безусловно, должно было восприниматься как ошибочное: большинство сочло бы такое заявление морально недопустимым и абсолютно всё – неверным. Какое-то представление о том, как приблизительно могли оценивать люди во времена Шекспира подобные утверждения, мы можем получить, вообразив себе, что в современной пьесе слова его героев произносят наркоманы, вкалывая себе героин. Герой такого «модернового» Шекспира (или Бодлера, или Рембо) может быть и героичным, и обаятельным. Его пристрастие к саморазрушению может быть окрашено героикой бескомпромиссного отказа от банальности и пошлости обыденной жизни. Сложное положение главного героя может вызвать симпатию и жалость у аудитории. Пользуясь необходимым красноречием, он может убедить зрителей, даже вопреки их собственным взглядам, что минуты блаженного экстаза, пережитые им в состоянии наркотического опьянения, не сравнимы ни с какой скучной текучей обыдёнщиной и являются для него наиболее ценным опытом его жизни. Однако любой зритель будет отдавать себе отчёт, что герой совершает ошибку, он действует неправильно и его ждёт плачевный конец, если только он не сойдёт с этой гибельной дорожки. Вот примерно так и воспринимал зритель в XVII веке слова Антония о любви. И хотя величие столь всецело поглощающего чувства и могло затронуть сердца, но не настолько, чтобы желать присоединиться и попробовать испытать нечто подобное. Такие крайние чувства заслуживали в лучшем случае сострадания.
То, чего так опасались мыслители Возрождения, было именно переживание стойких и сильных чувств, но отнюдь не сексуальное влечение. Брак, как союз, обеспечивающий экономические интересы, необходимость воспроизведения рода, желание домашнего уюта и дружелюбной симпатии, – это было безопасно и одобрялось. Брак, а не любовь, предполагается как счастливое окончание шекспировских комедий, и среди свадебных масок в «Буре» мы не найдём Венеры и Купидона. И когда в некоторых пьесах герои не очень подходят друг другу по характеру и кажется, что они сведены вместе просто для удачного рассказа, – это как раз вполне укладывается в рамки брачных отношений, как они тогда понимались. Брак был опорой государственного устройства. Один из проповедников времён королевы Елизаветы I видит в семейных отношениях одну из тех связей, что обеспечивают единство всего общества: «Короли и... подданные, священники и миряне, господа и слуги, отцы и дети, мужья и жёны, богатые и бедные – все нуждаются друг в друге, ибо таким образом во всех вещах восхваляется и одобряется правильный божественный порядок». Однако если брак есть один из узлов, что скрепляют невод общественного порядка, то страсть грозит прорвать эту сеть. «Разве есть адская язва страшнее, чем эта?» – вопрошает мудрая и мужественная Октавия в «Письмах Октавии к Антонию» Сэмюэля Брендона:
Как много светлых душ,
Какие города,
Какие царства пали,
Погребены в руины страстью!
Это отвращение к страстям отличалось от морального или общественного осуждения внебрачных связей. Во времена Шекспира и скромная матрона, и проститутка равно стремились держаться подальше от того, чем грозила буря чувств. «Что касается влюблённости и любви, – писала младшая современница Шекспира Маргарет, герцогиня Ньюкасла, – то это – недомогание, или страсть, или то и другое вместе, и я знаю о них только понаслышке». Другая леди, жившая в XVII веке, Дороти Осборн, которая вышла замуж против желания семьи и питала нежную привязанность к своему мужу, пишет с негодованием об «этой неразумной страсти, которая всегда приводит к разрушению всё, чего бы ни коснулась». Их осуждение не имеет отношения к сексу. В трагикомедии «Добродетельная Октавия» Сэмюэль Брендон, чтобы подчеркнуть безупречность главной героини, вводит для контраста «беспутную женщину» Сильвию, которая точно так же боится стрел Купидона, как и Октавия:
Влюблённость? Нет, мне это не знакомо,
Ведь это в рабство путь прямой.
Сильвию ужасает во влюблённости возможность потерять самоконтроль, а следовательно – независимость и свободу воли. Она, возможно, и беспутна, но в этом вопросе полностью согласна с любой добродетельной матроной. В той же пьесе хор горестно укоряет Антония за то, что, дав волю любви к Клеопатре, он тем самым позволил одержать победу над собой «монстру» и «дикому зверю», который
все наши чувства поглощает
И замутняет разум.
Для мыслителей эпохи Возрождения разум, умеренность и самоконтроль были краеугольными камнями культуры. Вмешательство эмоций грозило разрушить стройное здание. Действительно, условности куртуазной рыцарской любви предполагали, что на влюблённого поклонение и подчинение объекту чувств должно действовать возвышающе, подобно тому как на верующего действует очищающе поклонение Богу. Однако та любовь, что описана у Шекспира, совершенно иная: Антоний и Клеопатра, не стесняясь, похваляются забавами на мягкой постели в Александрии. Законы жанра куртуазного рыцарского романа о любви предписывали определённые правила рыцарской чести. В действительности рыцарь не должен был обладать дамой своего сердца: «Когда это становится реальностью – это уже не любовь».
Любое обсуждение мировоззренческих позиций другой исторической эпохи, а в особенности в вопросах секса и эмоций, наталкивается на языковую многозначность и неопределённость. То же самое слово использовалось для описания самых разных чувств, начиная с жаркого юношеского томления Ромео и вплоть до бескорыстной всеобъемлющей любви к Богу. На протяжении веков неоднократно делались попытки отличить истинную, «правильную» любовь от других, менее респектабельных импульсов – вожделения, чувства собственности, ревности, – которые неистребимо ей сопутствуют. У Платона предлагается утончённый идеал любви, который возвращает все сексуальные желания к их небесному источнику. В провансальской куртуазной традиции любовь действительна, если только рыцарь не переходит к делу. Средневековый клирик писал, что существует две богини любви – изящная Венера, которую некоторые называют Астреей и которая является покровительницей земной музыки, пения и других искусств, и другая – «постыдная Венера, богиня чувств... мать всякого блуда».
Мыслители эпохи Возрождения упорно боролись за то, чтобы утвердить различия между раннехристианской агапой, то есть бескорыстной любовью (caritas), которая, как говорил апостол Павел, «не ищет своего», и Эросом – сексуальной страстью (cupiditas), приносящей чувственное удовольствие. Странно, что вообще возникает потребность их различать, ведь на первый взгляд эти две концепции совершенно не схожи. Но, очевидно, подспудно они всегда непонятным образом объединялись в человеческом сознании или подсознании. Зигмунд Фрейд более определённо высказывается на этот счёт, объясняя почти двухтысячелетнюю традицию тем, что Эрос, принцип удовольствия, всегда скрыто присутствует в человеке, лежит в основе подсознательной мотивации остальных сторон человеческой деятельности. В статье «Неудовлетворённость культурой» он пишет «о культуре как об особом процессе, захватывающем людей в своём течении... этот процесс служит Эросу, стремящемуся объединить сначала отдельных людей, затем семьи, затем племена, народы, нации в одно большое целое – человечество». Философы эпохи Возрождения признавали определение вселенской любви, данное Фомой Аквинским, который называл её virtus iinitiva. Но они прилагали все усилия к тому, чтобы отделить её от эгоистичной жестокости обычной страсти. В XIII веке Иоанн Дунс Скотт писал: «Amor [любовь] – это верёвки и цепи, которые скрепляют вместе все вещи универсума в невыразимой симпатии и в нерушимом единении». О том же говорит один из учёных-гуманистов: «Ничто другое, кроме любви, не способно связать воедино духовные вещи, ничто другое не может образовать единое из многого». Однако такая мировая абстрактная внеличностная любовь, как небо от земли, далека от профанической разрушающей страсти, о которой Шекспир говорит как о жестокой, дикой, грубой, той, что приводит к гибели духа:
Издержки духа и стыда растрата —
Вот сладострастье в действии. Оно
Безжалостно, коварно, бесновато,
Жестоко, грубо, ярости полно.
Чувственная страсть разрушает способность здраво рассуждать и тем самым ведёт человека в пропасть – последующие бедствия неминуемы. Карикатурист XVII века Гаспар Исаак изобразил на гравюре трёх знаменитых женщин – Клеопатру, Елену Троянскую и Лукрецию – в виде беззубых и уродливых старух. У Лукреции свисает грудь, у Елены из носа текут сопли. Подпись гласит:
Рим не страдал бы от нашествия Тарквина,
Антоний не нашёл бы смерть в Египте,
Приаму не увидеть пламень в Трое,
Коль в юности вы столь бы неприглядны были.
Гравюра может служить наглядной иллюстрацией аналогичного мнения Блеза Паскаля: «Тому, кто желает в полноте постигнуть природу человеческой глупости, достаточно только поразмышлять о причинах и результатах любви. Причина – это «je ne sais, quoi»[10]10
Не знаю почему (фр.).
[Закрыть], а результаты – чудовищны. Это <-je ne sais, quoi», этакая безделица, на которую даже и внимания не обратишь, способна поколебать землю, королей, армии и заставить трястись целый мир. Будь у Клеопатры нос чуть покороче – и картина мира могла быть иной».
Паскаль не мог видеть монеты с профилем Клеопатры. На самом деле укорачивание её носа вряд ли могло повредить её красоте – скорее уж наоборот. Однако он дал выразительное описание того отношения к любви, которое лежит в основе большинства произведений той эпохи. Для него страстная любовь – это абсурд, вызванный столь эфемерной и незначащей вещью, как физическая красота, причём абсурд опасный и грозящий разрушением.
Чувственная любовь – враг разума. В 1598 году Джон Марстон пишет о своих современниках: «Куда исчез блеск нашей интеллектуальной элиты? Беспутство погрязших в любовных удовольствиях и оскорбительном волокитстве загрязнило красивейшие порывы нашей души».
Чувства, считает гуманист Марсилио Фичино, «настолько порывисты и иррациональны, что они нарушают спокойствие ума и выводят человека из состояния равновесия». Стабильность, спокойствие и равновесие – это высоко ценимые качества. Зрители могли получать удовольствие от эмоционального накала трагедий Сенеки, но такое психическое насилие, пусть и интересное и захватывающее, не являлось всё же предметом восхищения – скорее сожаления. Воспевание чувств, культ чувств, романтический герой – всё это появилось лишь в XVIII веке, тогда же стала цениться и чувствительность, сердечная ранимость. До этого идеал был – прочность, надёжность, и шла ли речь о герое или о политике, ценными качествами считались ровность, осторожность и предусмотрительность. Из этого естественным образом вытекало, что человеку лучше всего не поддаваться непредусмотренным желаниям. Гамлет говорит:
...благословен,
Чьи кровь и разум так отрадно слиты,
Что он не дудка в пальцах у Фортуны,
На нём играющей. Будь человек
Не раб страстей – и я его замкну
В средине сердца, в самом сердце сердца...
Он желает иметь перед собой пример личности, не подверженной страстям, однако современный читатель часто воспринимает его как невротика – человека, который сам не в состоянии справиться с сильными эмоциями и нуждается в помощи других. Для первых слушателей пьесы это было совершенно обычное и разумное замечание, некое всеми разделяемое убеждение. Для эпохи Возрождения, так же как и для Рима начала империи, характерна глубокая убеждённость в том, что только таким способом можно обезопасить себя от антисоциальной разрушительной силы чувств. Только бесстрастный человек, человек, не поддающийся эмоциям, может вести себя достойно и не в ущерб другим. Только под руководством подобного типа людей культурные достижения западной цивилизации будут сохранены и переданы потомкам. И только такой мужчина (либо женщина с мужской душой, подобная королеве Елизавете) способен управлять государством. В прологе к «Клеопатре» Джеральди Цинтио пишет: «Только тот может править долго и хорошо, кто берёт в проводники свет разума и знает, как управлять самим собой». Управлять собой и своим сердцем. Один из персонажей «Сна в летнюю ночь» Шекспира говорит: «...в наше время любовь и благоразумие редко ходят рука об руку».
Каждое поколение по-своему открывало для себя эту истину. Люди, восхвалявшие стабильность и опору на разум, жили в очень нестабильном и алчном мире. Гарнье, пожалуй самый выдающийся из драматургов XVI века (до Шекспира), выводит Клеопатру героиней трагедии «Марк Антоний». Пьеса писалась во Франции, раздираемой гражданской войной. Впервые она была поставлена на сцене в 1574 году, ровно спустя два года после официально санкционированной резни гугенотов – Варфоломеевской ночи. К моменту выхода в свет печатного издания пьесы война с гугенотами возобновилась. Это были не те времена, когда отказ от политической ответственности из-за порывов страсти мог вызывать восхищение. Гарнье, находясь на официальной службе у Валуа, имел перед глазами достаточно примеров того, к каким ужасам может привести в реальной жизни потакание необузданным личным желаниям. Про Генриха III, занявшего трон в том же году, когда вышел в свет «Марк Антоний», говорили, что он знаменит пустым тщеславием, мрачным настроением и извращёнными наклонностями. Оппоненты его считали, что столь экстравагантный и порочный человек не может быть королём. Он был убит в возрасте тридцати восьми лет. Таково было историческое реальное окружение, на фоне которого Антоний в трагедии Гарнье горько сетует на свои личные чувства, на любовь к Клеопатре, которая затмила его разум, оказалась сильнее чувства чести и общественного долга:
Как жирный боров плещется в грязи,
Так я погряз в порочной страсти.
Поправши долг и честь,
Я потерял себя...
Он потерял не только себя, но и все права на мировое господство.
Не столь опасен волк отаре,
Колосьям зрелым – дождь и град,
Как наслажденья сладкий яд
Крушит судьбу земного государя.
Влюблённый правитель – это негодный правитель. «Тот не может быть властителем, кто является рабом своего греха», – пишет Октавия Антонию в пьесе Сэмюэля Брендона, пытаясь отвратить его от недостойной привязанности к Клеопатре. Фульк Тревиль, современник Шекспира, сжёг свою рукопись об Антонии и Клеопатре из боязни, что Елизавета I заподозрит сходство в характерах главных героев, «которые в силу склонности к ребячеству и распущенности» могут быть восприняты как намёк на неё и герцога Эссекского, бывшего фаворита. Эссекс был в опале, и трогать эту тему было небезопасно: королева чувствительно относилась к любой критике. Поэтому Тревиль рассудил, что не время публиковать драму, в которой правитель «забывает о делах империи в погоне за удовольствиями». Ни один из монархов XVI века не счёл бы за комплимент, если бы ему сказали, что у него (или у неё) чувствительное сердце. Этому есть практические объяснения. Пока «принц утопает в наслаждениях», бесчестные узурпаторы пользуются шансом и поднимают восстания.
Творят без страха разбой, и преступленьям несть счёту,
Следом за тем и мятеж свою поднимает главу.
Но это побочная тема. Основной всё же остаётся мысль, что неумеренность любовных чувств грозит разрушением установленного социального порядка на символическом уровне. Попустительство чувственным желаниям враждебно организованному и упорядоченному устройству мира. Царства рушились «из-за грехов их правителей, что предавались разврату», писал Джон Лидгейт. Царь или король является правителем и персонификацией вверенного ему государства. Как говорит анонимный автор «Зерцала магистратов», из-за распущенности и плотских грехов правителя «страна приходит в упадок, беспорядок растёт и ширится, повсюду воцаряется хаос». Любовь, с её отказом от прагматизма, идеализацией объекта чувств и безудержным ему поклонением, нарушает иерархию ценностей и государственных институтов. Она крадёт у государства присущую ему прерогативу устанавливать должный порядок в мире. Абсолютизм чувств, особенно когда он ведёт к отказу от материализма и рационалистического соблюдения собственных интересов, – это анафема любой мирской власти.
«Все царства – прах», – заявляет Антоний в драме Шекспира, и слушателю XVII века начинает казаться, что земля колеблется у него под ногами. Это утверждение опрокидывает все привычные представления о власти и порядке. Именно за проповедь о том, что земное царство – прах, подвергались безжалостным гонениям первые христиане. И даже когда церковь стала обладательницей земной власти, христианские традиции отрицания «мирской власти» сохранились, например, у францисканцев.
Чувства, переживания способны ужасать. Это глупость и анархия. Влюблённые подрывают основы своего собственного существования. Для мышления XVII века быть влюблённым – сумасшествие. В английском сленге того времени влюбиться означало «быть пропащим».
Связь между свободой сексуальных нравов и подрывом государственных устоев очень хорошо понималась во времена Шекспира. Это послужило темой многих поэтических произведений той поры, посвящённых истории Клеопатры. «Сильнее множества армий и вооружённых врагов войну против имперского владычества ведут радости и наслаждения, что выходят за рамки обычных правил» – так писал Джеральди Цинтио в своей «Клеопатре». Эта связь в XX веке была прояснена французским философом Жоржем Батаем. Он выводит чувственную страсть из «экстравагантности» природы, которая производит такое множество живого только для того, чтобы позволить ему умереть. Избыточная непрекращающаяся репродукция живого, утверждает Батай, непереносима для мыслящего разума, который видит в этом незначительность отдельного человеческого существования и необходимость умирания каждого поколения, чтобы освободить путь следующему. Таким образом, сексуальным действием (которое, несмотря на контрацепцию, по сути всё равно является репродуктивным актом) отдельный человеческий индивид подтверждает, или допускает, возможность своей собственной смерти. Однако неприятие смерти в человеческом сознании по крайней мере столь же сильный мотив, как и потребность в любви, и в результате стремление к индивидуальному выживанию приводит к созданию того, что Батай называет «миром работы». «Мир работы» – упорядоченный, эффективный, организованный – противостоит природным силам и наделяет человека чувством собственной значимости. Таким способом с помощью табу преодолевается жестокая двойственность секса и смерти. «Природное требует идти, сокрушая всё на своём пути, прошибая головой стены, навстречу собственной смерти. Человеческое вступает в силу в тот момент, когда, справляясь с головокружительной дурнотой, человек пытается сказать «нет» в ответ». Пытается, но проигрывает, поскольку секс обольстителен, а смерть непреодолима. Человеческое общество, по мнению Батая, основано на стремлении исключить из сознания то, что исключить невозможно. Отсюда та тревога, которую на протяжении всей истории человечества испытывают правители любого государства по отношению к сексуальному поведению. Те, кто поддаётся страсти, пробивают брешь в стене, что выстроило общество для самозащиты. Разрушается государственный порядок. Рушится «мир работы». Следуя чувственной страсти, считает Батай, мы скорее расходуем, чем получаем, отрицая экономику и игнорируя политику. «Мы хотим, чтобы мир перевернулся вверх дном и вывернулся наизнанку. Истинный эротизм – это государственная измена».
Большинство современников Шекспира с готовностью присоединились бы к мнению Батая (хотя не приняли бы его антиавторитарных выводов). «Природа», как соглашаются леди в пьесе Сэмюэля Брендона, могла разжечь Антония и заставить его влюбиться в Клеопатру, но чувство гражданского долга и религиозные обязанности должны были взять верх, поскольку:
Воистину, лишь Бог – творец,
Он дал нам мудрость подавлять желанья
И дал нам светлый разум, чтобы положить конец
Болезненным страстям, «природа» – чьё названье.
Те, кто не использует дарованный им свыше разум, кто следует вопреки рассудку «природе» и «страстям», не только разрушают себя, но и ввергают в гибель всех, кто их окружает. Египетский хор у Сэмюэля Деньела считает излишества и пышность царского двора Клеопатры причиной своей погибели и коварно предлагает римлянам взять с собой из Александрии на родину всё, что они хотят, рассчитывая, что и Рим падёт жертвой этой роскоши и неги. Чувственный экстаз рассматривался как пятая колонна и возможная причина падения царства.
Шекспировский Рим – точное описание того, что Батай называет «миром работы». Разговоры при дворе Октавия вращаются вокруг военных походов, государственных советов, гражданских обязанностей. Взаимоотношения между людьми напряжённые, каждый старается продвинуться за счёт другого. Большое значение придаётся положению и репутации. Лепид тщетно пытается что-то узнать у Октавия. Секст Помпей готов начать военные действия, поскольку ему не были возданы должные почести за то, что он сделал для Октавия. В этой атмосфере непристойно потерять своё положение, поскольку выдвижение зависит от демонстрации силы. Рим представляется обширным учреждением, где люди могут быть сослуживцами или приятелями, но не настоящими друзьями. Их отношения между собой определяются их положением в служебной иерархии и энергичностью, проявленной ими в работе.
При таком раскладе нет и не может быть речи ни об эмоциях, ни о чувствах. Им не находится места. Октавий, вспоминая прошлые заслуги Антония, когда он ещё «истинным был воином», перечисляет как подвиг лишения, которые тот пережил в военном походе:
Жестокий голод за тобою гнался.
Ты не гнушался жажду утолять
Мочою конской и болотной жижей,
Которую не пили даже звери.
Ты, как олень зимой, глодал кору...
Физические лишения трактовались римлянами как подвиги, а удовольствия от мягкой постели и хорошей еды презирались, поскольку эта обстановка располагает к чувственным утехам. В пьесе ни у кого из римских воинов, за исключением Антония, нет ни жены, ни любовницы. Единственная римлянка – сестра Октавия, «чьё целомудрие и добронравье красноречивее, чем все слова». Она редко вступает в разговор, а если говорит, то о деле или о долге перед мужем или братом. Среди шекспировских римлян также нет никого, кто проявлял бы гомосексуальные наклонности: мужчины не любят и друг друга. Рим в драме Шекспира – исключительно мужской мир, в котором нет ни намёка на секс.
Александрия, по контрасту, – это тот самый «мир, вывернутый наизнанку», о котором говорит Батай. Это царство беспорядка, где всё наоборот, всё перевёрнуто, как рассказывает Энобарб, вернувшись к друзьям в Рим: «Вставали так поздно, что дневному свету становилось стыдно за нас. А бражничали до тех пор, пока ночь не бледнела от смущения».
Это место, где всё невозможное становится возможным. В первой же сцене Антоний объявляет о своей безграничной любви к Клеопатре. Продолжая свою речь, он добавляет: «Пусть каждый миг несёт нам наслажденье». Так и поступает. Ведь Александрия – город, который не подчиняется правилам земного разума. Катерина Клемент пишет: «Сумасшедшие, женщины, невротики всех видов... уходят в своё воображаемое царство, представляя себе то, что невозможно и недостижимо для них в настоящий момент». Двор Клеопатры – это и есть такое воображаемое царство, место, где царят женщины, место, не подчиняющееся строгому римскому порядку и долгу, не знающее ни удержу, ни границ, населённое странными обитателями – клоунами, лжецами, женщинами, которые беспрерывно нарушают привычные рамки и правила, которые могут шутить, играть, лгать, вести себя несообразно.
Если шекспировский Рим – учреждение, то его Александрия – это бордель. Красивый, чувственный город, в котором царит анархия. Женщины, исключённые из строго упорядоченного мира-учреждения, свободны, поскольку не подчиняются и той иерархии, с помощью которой мужчины наводят порядок в своём мире. Царица в Александрии то капризничает как малый ребёнок, то разрешает вдруг гонцу целовать себя, не считая при этом, что она роняет своё достоинство. Упорядоченность нарушается, но катастрофы не происходит, государство стоит, поскольку государство Александрия основано на совершенно иных принципах, чем римское. Оно держится не на упорядоченности, а на странной и приводящей в недоумение силе – силе секса. Это страна фаллических змей и плодородного ила, где женщины ведут себя распущенно, а мужчины теряют собственную индивидуальность и погружаются в убийственный любовный экстаз. Привычные понятия колеблются, как морские волны, и меняются местами. Обнажённый любовник не перестаёт быть командиром. Публичные дома существуют открыто. Наготу не надо скрывать. В Александрии, городе-гареме, мужчина теряет своё лицо, перестаёт быть таким, каким его привыкли видеть другие мужчины, его сослуживцы по учреждению.
Рим и Александрия. Мужская целеустремлённость и женская вседозволенность. Шекспир воссоздаёт октавиановскую версию Клеопатры, которую он находит в переведённых Томасом Портом «Жизнеописаниях Плутарха». Под его пером легенда становится гораздо более утончённой, в ней меньше цензуры, но все темы, затронутые в античном оригинале, находят полное своё отражение. В Египте, где живёт шекспировская Клеопатра, народ пассивен, на нильской вязкой почве не может сформироваться целеустремлённая личность. Октавий предполагает, что Антоний потерял свою мужественность из-за любви к Клеопатре. Шекспир развивает эту идею. Обманчивая и непостоянная, его Александрия приводит в ужас тех, кто предпочитает римский порядок. Эмоциональность, восприимчивость, сексуальность – все страшные напасти, пугающие римлян, неважно – античных или современных. «Я люблю надёжных людей – мужчин, – писал будущий нацистский офицер Фрейкопс в 1920 году, – таких, у кого не бывает проблем: всегда собранных, спокойных и сильных». В Александрии Шекспира таких людей не было.
Друзья мои, такая тьма вокруг,
Что в мире не найти уж мне дороги, —
говорит Антоний после сражения при Акции. Но задолго до поражения он в корне изменился. Жёсткая личность, отвергающая зыбкость эмоций, не может выжить, будучи перенесена в этот текучий мир.
Для XX века «характер» – понятие во многом искусственное, это продукт обстоятельств, условий и ожиданий. Шекспир излагает эту идею в трагедии. Немецкий романтик Генрих Гейне писал о римлянах: «Они не были великими людьми, но, по их собственному мнению, они были больше, чем любые другие дети земли, по той простой причине, что родились в Риме. Как только они спускались со своего Семихолмья, так становились маленькими». Однако разлад шекспировского Антония с самим собой связан не только с пребыванием римского имперского гражданина на чуждой ему территории и со столкновением с чуждыми обычаями. Это род совершеннейшего замешательства, когда границы между «я» и «не я» смещаются и размываются, все прежние прочные государственные и родовые основы исчезают и Антоний в Александрии уже не может оставаться прежним Антонием. Бормотание и ропот вокруг него и собственные внутренние сомнения рождают страх, что он перестал быть самим собой. Его сомнения основаны на предустановленном мнении о том, что он существует как личность лишь внутри определённого социального контекста. В разговоре со своим слугой он спрашивает:








