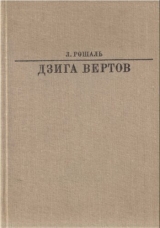
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Эйзенштейн объяснял, что вся сцепа подъема флага построена на статичных крупных планах, не имеющих никакой внутрикадровой динамики. Вертов создает ее искусственно – стремительной монтажной сменой коротких изображений.
Налицо именно монтажное «гримирование» в динамику статичных кусков, – объявлял приговор Эйзенштейн.
Не просто монтажное, а именно монтажное «гримирование» – вывод несомненный, как хороший апперкот.
Но несомненным вывод мог оказаться лишь в том случае, если бы в полемике не потерял Эйзенштейн из виду как минимум два важных обстоятельства.
Важных не для самого спора и выяснения личных отношений, а для опыта кино.
Во-первых, Эйзенштейн упустил из виду, что статика – есть всегда момент – более длительный или менее – динамики, что всякое движение соткано из последовательных моментов неподвижности и что иное экранное изображение, в котором движение как бы на ходу застывало, отмечено гораздо большим внутренним динамизмом, чем движение непосредственное – пусть даже на высочайших скоростях. Сам тот факт, что мальчишки и девчонки, находящиеся обычно в вечном беспокойном перемещении, вдруг замерли вокруг флага, был полон динамического напряжения, оно подчеркивало значительность происходящего. Момент располагался между движением, которое только что прекратилось, и движением, которое вот-вот всколыхнется вновь, и от этого статика не только не превращалась в неподвижность, а, наоборот, достигала некоего гребня движения.
Статичные планы, перебивая движение флага, растягивали реальное время. Они замедляли, тормозили его, но это не уменьшало, а увеличивало ожидание того момента, когда флаг достигнет верхней точки. Замедление вело не к статике, а к усилению внутреннего накала сцепы.
«Гримировать» этот эпизод в динамику у Вертова не было никакой нужды.
Разбивая его на предельно короткие куски, Вертов преследовал совсем иную цель. Ее Эйзенштейн тоже не понял, и это было вторым, пожалуй, еще более существенным обстоятельством, упущенным им из виду.
Через монтаж коротко нарезанных статичных планов Вертов передавал главное – нарастающую динамику чувств и мыслей тех, кто окружил флагшток.
Вверх, вперед и выше, поднимался не флаг – поднималось волнение ребят. Флаг становился образным олицетворением взвившихся ввысь ребячьих чувств. Задирая свои прокаленные солнцем головенки, мальчишки и девчонки вместе с куском кумача на какие-то мгновения воспаряли над обыденным, мысленно уносились высоко-высоко – к захватывающему дух ощущению радости от сегодняшнего дня и от счастья, идущего навстречу из дня грядущего.
Выразить все это словами они вряд ли смогли бы.
Разве можно выразить словами всю полноту ощущений?
Но можно попробовать передать другими средствами, как это попробовал Вертов, – через полифонию эмоциональных оттенков, через некую зримую музыку. Взвивающийся флаг солировал, вел основную тему, ребячьи лица отыгрывали ее множественностью оттенков. А может, правильнее сказать, что множественность оттенков отыгрывалась в солирующем флаге.
В эпизоде происходила насыщенная конденсация личных чувств и их социальных мотивировок.
Конечно же, в более спокойной ситуации Эйзенштейн этого бы не просмотрел.
Такой вывод основывается не на отвлеченном предположении, а на констатации совершенно реального факта: не только лучший эпизод (с сепаратором) в «Старом и новом» (как это верно отметил в книге об Эйзенштейне Шкловский), но и самая знаменитая во всем эйзенштейновском творчестве сцена одесской лестницы из «Броненосца „Потемкин“» построены тем же методом – стремительным монтажом статичных крупных планов.
В «Старом и новом» крестьяне с недоверием, но и с любопытством смотрели на диковинную машину: она сама должна была отделить сливки от молока. Лопасти и шестерни наращивали обороты, росло напряжение на лицах, пока первая густая капля белоснежного продукта не скатилась из специального носика, вызвав всеобщий восторг.
Внутрикадровая статика эпизода (неподвижные крупные планы крестьянских лиц) очевидна, а между тем он предельно динамичен.
Но не за счет быстрой монтажной смены планов. И не за счет внешне выраженного движения в коротко нарезанных кадриках работающего сепаратора.
Монтаж лиц и работающих механизмов передавал возрастающую динамику чувств, они концентрировались в основную эмоционально-психологическую тему эпизода – ожидание.
Одновременно основная психологическая тема внутри эпизода переливалась в проблему всей жизни, в раздумье о том, как жить дальше: единолично хозяйствовать или совместно? Быть или не быть артели? Шло ожидание не отделившихся сливок, а ответа на вековечный вопрос: возможна или нет счастливая жизнь?
Вращались не шестерни сепаратора.
Крутились, убыстряя бег, винтики, гаечки, шурупчики в человеческих головах, пока не достигали пика и одновременной разрядки, дающей новый продукт – сгусток идеи: только машина облегчит хлеборобский труд, только артелью можно приобрести машину.
После того как сливки «пошли», крупные планы ликующих крестьян стали перебиваться цифрами, растущими в размерах: 4… 38… 50 членов артели.
Эйзенштейн писал, что сцена с сепаратором по методу и теме («ожидание») дословно повторяет финальную сцену «Броненосца» – встречу мятежного корабля с эскадрой. В подробных сравнительных анализах этих двух сцен не отмеченным осталось лишь одно: то, что их энергия определялась напряженной монтажной сменой статичных планов (в финале «Броненосца» – это моряки, они замирают у своих орудий в ожидании обстрела царской эскадрой).
В «Броненосце „Потемкин“ сцена на одесской лестнице с особой очевидностью, даже изощренностью, демонстрировала отнюдь не обязательную адекватность физической неподвижности на экране понятию статики и физического перемещения – понятию динамики.
Расстреливаемая в упор толпа металась по лестнице, но самыми динамичными были отрывистые кадры людей, в ужасе застывших перед надвигающейся серой солдатской массой.
Как и в „Кино-Глазе“, лица многих были подняты вверх.
Но если задранные – вослед флагу – головы пионеров передавали воспаряющий взлет чувств, их движение ввысь, то в „Броненосце“ поднятые лица в монтажном сочетании с неумолимо двигающейся сверху тупой окаянной силой означали прямо противоположное: только что парившие над толпой высокие мысли и чувства, вызванные обещанными свободами, свинцовым ударом сверху вгонялись обратно, внутрь, бросались под ноги, выбивались из-под ног и вытаптывались тяжелыми сапогами.
Из ума вышибался ум, наступало безумие.
Мысль, не в силах осмыслить бессмысленность происходящего, металась в безумии и, как коляска с непонимающим младенцем, неслась, никем и ничем не защищенная, по ступенькам вниз – к краю бездны, в омут небытия.
В этом эпизоде все, что было связано с динамикой истинно человеческих переживаний, раскрывалось преимущественно в статичных крупных планах лиц, кричащих ртов, разжавшихся рук. Крупным планом выделялись самые острые моменты переживаний, поэтому статичные кадры были исполнены рвущегося через край динамизма.
И только одно находилось на протяжении всего эпизода в постоянном сомкнутом движении, ни разу не распадаясь на статичные крупные планы, – строй палящих из ружей солдат.
Но их неостановимое, монотонное движение было статично по духу.
Оно было внутренне окаменелым.
Солдаты двигались – шли и шли, – а душа их спала.
В неподвижности оставалось то, от чего зависит динамическая энергия, – мысль.
Крупные планы не требовались, выделять крупно было нечего.
В искусстве статика и динамика – понятия смысловые, они могут быть выражены предметами, находящимися в любом физическом состоянии.
Динамика – это не просто движение, как на минуту показалось Эйзенштейну при воспоминаниях о „Кино-Глазе“, а нарастающее (или ниспадающее) движение.
Статика – это не нарастающая неподвижность (тогда бы это тоже была динамика, только со знаком минус), а неподвижность, не способная к нарастанию (или спаду).
Величие Эйзенштейна в том, что строй солдат у него все время двигался, но без какой бы то ни было смены темпа и ритма.
Ступал строй големов, обученных двум вещам: идти напролом и жать на спусковой крючок (пока, конечно, не встанет на пути грозная сила, но тогда строй рассыплется, а големы, охваченные начатками человеческих чувств, станут превращаться в людей).
Внутрикадровое движение солдат передавало внутричеловеческую неподвижность.
Внутрикадровая статика крупных планов людей, настигаемых пулями, передавала обратное – внутричеловеческую динамику, нарастание эмоций.
Сложнейшие в жизни пересечения статики и динамики в их неожиданных, нередко противоположных обличьях Эйзенштейн гениально прочувствовал у себя, и остается только пожалеть, что он не прочувствовал это у Вертова.
Критика, в том числе та, что восторженно встретила „Стачку“ и „Броненосец „Потемкин““, отмечала очевидное влияние на их документальную стилистику хроник киноков, „Кино-Правды“.
Эйзенштейн не отрицал, говорил, что „Броненосец „Потемкин““ воспринимается как хроника, а действует как драма.
Но он не был бы самим собой, если бы ограничился признанием.
Через признание он тут же шел к отрицанию: да, воспринимается как хроника, похожая на ту, что у Вертова, но действует-то как высокое драматическое искусство. В подтексте следовало понимать: у Вертова подобное воздействие просто невозможно, он ведь искусство отрицает.
Эйзенштейн и Вертов довольно уверенно полагали, что живут в творчестве на разных берегах, если и существует мост, то он постоянно разведен и вздыблен двумя половинами, как в фильме Эйзенштейна „Октябрь“ – внизу только свинец невских вод.
У подлинных художников на самом деле так не бывает, они могут двигаться разными берегами, но мост всегда наведен. В ажиотаже схватки спорщики часто даже не подозревают, что он существует, – все еще мечут громы и молнии, а между тем уже давно и не раз пожимали на мосту друг другу руки.
Сходство ряда элементов метода, идентичность способов построения отдельных сцеп никогда не означала прямых заимствований. Разные художники приходят к разному результату, но, оказывается, исходят нередко из одного и того же. Результат сохраняет всю полноту и обаяние индивидуальности, хотя и налицо сходство отдельных точек отсчета.
Оба периодически публиковали широковещательные объявления о том, что их разводит, а творчество и жизнь их периодически сводили.
С конца двадцатых годов Эйзенштейн начал разрабатывать теорию „обертонного монтажа“. Согласно этой теории на зрителя должно воздействовать не только движение основного содержания фильма, но и сопутствующие движению различные тона (пластические, световые, звуковые и т. д.) – помимо смыслового монтажа идет монтаж всевозможных ощущений, работающих на смысл. Эйзенштейн опирался на опыт музыки (там такие тона называют обертонами), в особенности на опыт двух композиторов: Дебюсси и – чаще всего – Скрябина.
Оказалось, что повышенный интерес к Скрябину был у обоих.
Разрабатывая теорию „зрительного обертона“, Эйзенштейн приходил далее к мысли, что он возможен „только в четырехмерном (три плюс время)“ пространстве и что по-настоящему оперировать этим измерением дает возможность лишь такое „превосходное орудие познания, как кинематограф“. В 1929 году он написал статью, она так и называлась „Четвертое измерение в кино“. В ней Эйзенштейн призывал перестать пугаться этой „бяки“ – четвертого измерения.
А в опубликованном в 1922 году манифесте „МЫ“ к тому же призывал, исходя из специфики кино, Вертов, причем призывал почтив тех же словах: „…в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями (3+время), в поиски своего материала, своего метра и ритма“.
Неожиданные точки соприкосновения возникали не только в каких-то теоретических посылках, но и в конкретных практических намерениях. Эйзенштейн хотел осуществить серию фильмов на общую тему – „К диктатуре!“. „Стачка“ была первой картиной, но так сложилось, что, как и „Кино-Глаз“, она оказалась в задуманной серии последней. Стремясь к предельно обобщенному, синтезированному охвату исторических эпох, Эйзенштейн замышлял экранизацию „Капитала“ Маркса. В упомянутой выше заявке на „Кино-Глаз“ Вертов говорил, что, являясь самостоятельной (как в смысле содержания, так и в смысле формального искания), картина в случае удачи этого опыта предназначается в качестве пролога к мировой картине „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“.
Трудно сказать, какими бы вышли эти фильмы, хотя не трудно угадать, что они были бы совершенно разными. Но масштабы замыслов, их направление – совпадали.
Эйзенштейн повторял, что „Стачка“ – это отнюдь не „Кино-Глаз“, а Вертов, соглашаясь, что „Стачка“ – не „Кино-Глаз“, а только игра в „Кино-Глаз“, утверждал в свою очередь, что „Кино-Глаз“ – это отнюдь не „Стачка“.
По многим свойствам картины были совершенно несхожими.
И все-таки жизнь не случайно находила основания для того, чтобы их ставить рядом.
Париж премирует советских режиссеров.
Согласно сообщению, полученному Академией Художественных Наук, на выставке декоративных искусств в Париже получили награды: режиссер МежрабпомРусь Я. А. Протазанов – почетный диплом (2-я награда), режиссер Госкино С. М. Эйзенштейн – золотую медаль (3-я награда), режиссер Пролеткино С. Д. Бассалыго – золотую медаль (3-я награда) и кинок Д. Вертов – серебряную медаль (4-я награда).
„Кино-газета“, 1925, 17 ноября
Новороссийск до востребования Вертову.
Поздравляю получением серебряной медали Кино-Глаз Парижской выставки много шума Пиши=Лиза.
На этом первом международном киносмотре – еще задолго до появления многих знаменитых фестивальных конкурсов – Эйзенштейн был удостоен медали за „Стачку“, Вертов – за „Кино-Глаз“.
После Парижской выставки картина Вертова стала известна в мире. Под ее влиянием элементы документалистики начали проникать в различные жанры искусства. Американский писатель Дос-Пассос написал роман, в котором вымышленное повествование периодически прерывали блоки документов – рекламные объявления, сообщения газет и т. п. Блоки открывались одним и тем же заголовком: „Кино-Глаз“.
Вертов видел: при всех своих недостатках лепта задевает зрителя, оставляет след в сознании.
Просчеты картины не поколебали основ вертовской позиции.
Но отсутствие сомнений в верности магистрального движения не означало, что в каждом конкретном случае Вертову было все заранее ясно. Скорее, наоборот: каждый раз приходилось начинать все сызнова.
Он выбрал путь для движения, а способы движения всякий раз зависели от многих обстоятельств и не могли быть шаблонными. Да и дорога не давала обязательств быть прямой и гладкой – где-то петляла, где-то легко скатывалась с пригорка, а где-то дыбилась крутым тяжким подъемом.
Понимание главного не исключало всевозможных проб и экспериментальных проверок.
Многое потом отметалось, но оставался опыт.
Он не давался даром.
Но и даром не проходил.
Отдельные, даже сами по себе верные критические замечания часто утопали в потоке поверхностных раздражительных оценок.
Болезненно, остро, иногда доходя до отчаяния (это видно по дневникам) Вертов переживал не критику, а непонимание – оно казалось порой фатальным.
На непонимание отвечал резко. Одновременно старался еще и еще раз объяснить свою позицию.
А на справедливую критику почти никогда не отвечал признанием впрямую просчетов и обещанием исправиться.
Между тем Вертов был человеком редкостной, может быть, даже беспрецедентной, восприимчивости к критике.
Среди людей искусства не просто найти другого человека, который бы с такой же внимательностью взвешивал всю без исключения сумму разнороднейших оценок, делая необходимые выводы.
– Говорят, что я не умею признаваться в ошибках, это верно, – говорил он на одном из киносовещаний в конце тридцатых годов. – Но я стараюсь исправлять свои ошибки на экране…
Эти слова не были просто словами.
На протяжении всего творчества каждый последующий фильм становился, с одной стороны, продолжением предыдущего, развивал его принципиальные липни, с другой – решительным отрицанием предыдущего: и того, что в нем оказалось бесплодным, и того, что было органичным для него, но не было обязательным для других, наконец, каждый новый фильм становился открытием неизведанного, того, чего прежде не было вообще.
Шло постоянное осмысление собственного опыта, оно опиралось в том числе и на трезвый учет всего пестрого конгломерата критических мнений.
Через три месяца после премьеры „Кино-Глаза“ Вертов выпустил новый фильм.
Это была 21-я „Кино-Правда“ (подготовленная киноками к 21-му января 1925 года), но по обработке материала и его объему (три части) лента выходила за рамки обычного журнала.
ЗРАЧКИ АФИШ
(газеты, журналы, рекламные тумбы и щиты)
К Ленинским дням выпускается Ленинская „Кино-Правда“, которая снимается рядом операторов и монтируется Дзигой Вертовым.
„Пролетарское кино“
Новости современной кинотехники
Оператором-киноком М. Кауфманом сконструирован аппарат, при помощи которого он имеет возможность производить увеличение предметов и лиц, снятых задним планом, и показывать их в первом плаве…
„Новый зритель“
Новые портреты В. И. Ленина, помещенные на обложке „Экрана Кино-Газеты“, сделаны оператором-киноком М. Кауфманом для ленинской „Кино-Правды“ путем увеличения с кадров, снятых мелким планом, до величины первого плана.
„Кино-газета“
Ленинская „Кино-Правда“ – временная сокращенная сводка части Ленинского материала для демонстрации в траурные Ленинские дни. Эту работу, как и все последующие на ту же тему, работники „Кино-Глаза“ посвящают угнетенному пролетариату всего мира.
Кроме демонстрации в Ленинские дни Ленинская „Кино-Правда“ предназначена для включения (при известной переработке) в большую киновещь „Ленин“ (прежнее название „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“). Сюда же будет включен избранный материал лучших серий Кино-Глаза.
Вся работа по созданию этого грандиозного кинопамятника В. И. Ленину будет согласована и в общем и в деталях с ЦК РКП.
„Кино-неделя“
ЛЕНИНСКАЯ КИНО-ПРАВДА 21-ая
21 янв. к годовщине смерти
ЛЕНИНУ – КИНОКИ
КУЛЬТКИНО
Центрального Государственного Фото-Кино-Предприятия НКП
ГОСКИНО
Москва, Тверская, 24. Телефоны: 5–17–57, 5–70–71 и 4–87–02.
Закончены и поступили в прокат:
„Ленинская Кино-Правда“
(№ 21) В 3-х частях.
„В сердце крестьянина Ленин жив“ („Кино-Правда“ № 22). В 2-х частях.
Работы Дзиги Вертова.
Двадцать первая, „Ленинская Кино-Правда“ вобрала в себя все накопленное умение.
Вертову не удалось бы так сгустить время, если бы раньше он не искал способы воссоздания синтетической картины эпохи со всей ее сложностью и напряжением.
В рассказе о послеоктябрьском времени не было торопливой беглости. Вертов не обкорнал время, а сжал его под высоким давлением. Как и в действительности, время было в фильме острым, как штык, только с гораздо большим, чем у штыка, количеством граней. В ленте пересекалось множество тематических линий. Но она не разбегалась по ним в разные стороны, а, впитывая их, связывала в жесткий узел.
Просчеты „Кино-Глаза“ Вертов хорошо взвесил.
Множественность граней эпохи не только подчинялась ведущей, ленинской теме, но и концентрировалась вокруг одного героя – случай, тогда редчайший в документальном кино.
Судьбы времени смыкались в движении ленты с конкретной человеческой судьбой.
Время Вертов не сводил к Ленину – давал через Ленина.
Ленина давал через время.
Для этого единства важны были не сами по себе факты личной биографии или факты истории, а смысл их связей.
Вертов включил в фильм немало кинокадров Ленина, снятых при его жизни.
Но „Кино-неделя“ ошиблась, сообщая, что „Ленинская Кино-Правда“ – это сводка части ленинского материала.
Кадры живого Ленина входили в ленту не для того, чтобы отметить тот или иной факт его жизни: вот он выступает на празднике Всевобуча 25 мая 1919 г., а вот – на II Конгрессе Коминтерна 19 июля 1920 года. Чаще всего вообще не сообщалось, к какому событию относится кадр. Общее построение фильма, монтаж документов определялись иной целью – не просто дать сводку фактов, а показать, как ленинская мысль длилась в поступи истории, в движении масс и как поступь истории, движение масс длилось в ленинской мысли.
Ленин – массам, массы – Ленину, фильм передавал динамику и многообразие форм этой неиссякаемой взаимосвязи.
Ленинские изображения находились в смысловом контакте с осевыми событиями истории.
А ее штыковая обостренность оправдывала звучание в картине острой драматической поты.
Грани эпохи, как грани штыка, были обагрены кровью борцов: от безвестного конника до вождя революции.
Единство личной судьбы с судьбой народа скреплялось их кровью.
Картина повествовала об этом с первых же кадров. В ней не было тягучего запева, растянутой экспозиции. Она начиналась резко, как выстрел: на экране появлялась надпись: „Я рабочий завода имени Ленина“, затем возникало лицо рабочего, он работал у станка, а надпись продолжала: „Я задержал стрелявшую в нашего Ильича эсерку Каплан“. Рабочий показывал: „Покушение произошло здесь“ – и добавлял: „Раны Ленина никогда не будут забыты“. Встык с этой надписью стоял крупный план браунинга, стреляли из него…
Такое начало задавало тон повествованию, где история была насыщена драматизмом высокого накала.
Подготовленный киноками к траурным ленинским дням фильм рассказывал о героизме борьбы, о силе духа, о победах народа и одновременно был документом скорби и печали.
РСФСР
Н.К.П.
Заведующий
ГОСКИНО
МАНДАТ
24/I —1924 № 525
Выдан сей Центральной комиссией объединенных киноорганизаций при ГОСКИНО по проведению фото-кино-съемок процесса похорон т. Ленина тов. Вертову в том, что он действительно уполномочен в качестве руководителя в Дом Союзов 3-я смена, что подписями и печатями удостоверяется. Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)
печать
Пропуск 840
Тов. ……………………………………………………
На право прохода в Дом Союзов (партер) и на Красную площадь для участия в похоронной процессии Председателя СНК Союза СССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина).
Председ. комис. ЦИК СССР по организации похорон
Ф. Дзержинский
В сценах похорон Ленина драматическая нота зазвучала с особой пронзительностью не только из-за самого материала, а, скорее всего, потому, что тему никогда не иссякавшей связи Ленина с массами Вертов не прервал здесь, хотя, казалось бы, ее прерывала сама смерть!
Вертов нашел для этой темы неожиданный и точный поворот, выстроив эпизод, теперь вошедший чуть ли не во все кинохрестоматии.
На протяжении первой половины ленты во внутрикадровом изображении Ленин и массы находились в постоянном движении.
И вдруг – все обрывалось…
Вслед за черной проклейкой и строками из некролога стояли (именно стояли!) кадры Ленина в гробу, перебиваемые скорбной лептой людской реки, медленно обтекающей постамент с гробом в Колонном зале.
Кадры сопровождались надписью:
ЛЕНИН
а не движется
ЛЕНИН
а молчит
МАССЫ
движутся
МАССЫ
молчат
Эта надпись не только констатировала жизненное и историческое несоответствие, подчеркивающее всю глубину общественной трагедии.
В надписи были и другие оттенки, они создавали особую эмоциональную атмосферу.
После слов „ЛЕНИН а не движется ЛЕНИН а молчит“ Вертов не поставил никаких знаков препинания, а они могли быть разными: точка констатировала трагедию, восклицательный знак означал бы бурный всплеск скорби, вопросительный – интонацию горького недоумения человека, не пришедшего в себя от потрясения, он не в силах осознать масштабы катастрофы.
Не поставив ни один из знаков, Вертов дал тем самым возможность присутствовать им в этих словах всем вместе.
Завершавшая констатацию точка выражала чувства массы в целом, восклицательная и вопросительная интонации вводили мотив индивидуального переживания.
Глубина общественной трагедии (смерть вождя) познавалась через остроту личной потери (смерть близкого человека).
Интонацией личного переживания – без надрыва, без ложного пафоса – „Ленинская Кино-Правда“ пронизывалась с такой щемящей силой, какой редко достигали другие произведения о студеных днях января двадцать четвертого.
У гроба находились близкие, в почетный караул становились соратники и друзья. Эти кадры Вертов не сопровождал официальным перечислением фамилий, а давал надписи, тоже окрашенные личной интонацией: „Жена… Сестра… Осиротелый ЦК…“ Он оставил в ленте кадры, где были сняты „те, кто не вынес тяжести горя“ – из зала выносили упавших в обморок, оказывали им помощь.
Вслед за кадрами похорон перед деревянным мавзолеем проходили колонны пионеров, а над мавзолеем, над зубцами Кремля появлялся (с помощью двойной экспозиции) живой Ленин. Пионеры радостно аплодировали, а Вертов снова вводил горькую, печальную надпись: „Невыполнимое желание“.
Усиливая эмоциональное воздействие, он впервые окрашивал различные куски черно-белого фильма в различные цветовые оттенки: красный, черный, желтый, оранжевый.
Вертов сумел передать остроту переживаний с такой искренней трепетностью, потому что сам ощущал смерть Ленина как огромную личную потерю. Он понимал ее невосполнимость.
Мечту увидеть рядом живого Ленина смерть неумолимо разрушала.
Но начиналось – бессмертие.
Увидеть живого Ленина на Красной площади теперь уже невозможно, и все-таки его появление перед пионерами не было неожиданным – он остался рядом навсегда.
Не только по приему, но и смыслу кадр действительно строился на принципах двойной экспозиции.
Единение личной судьбы с судьбами времени получало новый поворот: человек – мертв, по судьба его по закончилась. Она продолжается в осуществлении идей, в делах, в движении масс, всколыхнутых революцией.
В траурные дни годовщины двадцать первая „Кино-Правда“ прошла по экранам Москвы, а затем и других городов страны.
4 февраля 1925 года „Правда“ в рецензии на фильм сочла необходимым „отдать должное т. Вертову и его энергичным сотрудникам, что работа, так стройно и логически правильно задуманная, выполнена с большим умением и находчивостью“. Газета отмечала некоторую затрудненность ленты для рабоче-крестьянского зрителя, большую ясность вертовского плана, чем самого фильма, и заканчивала рецензию словами: „Антитезисовый“, разрушительный период своей работы т. Вертов прошел. Пора переходить к синтезу».
Этот вывод чутко угадывал направление творческого развития Вертова, хотя рецензент (Б. Гусман) был не совсем прав, отделяя «антитезисовый» период от периода синтеза. Разрушение, отрицание предшествующего опыта шли у Вертова сразу же рука об руку с созиданием.
Секреты синтеза он уже давно искал.
Пока это были первые поиски. Многое только создавалось и поэтому еще не всегда точно улавливалось и точно оценивалось.
Но без попыток воссоздать синтетическую картину эпохи в октябрьской и пионерской «Кино-Правдах», во время кинопробега, закончившегося октябринами, в ходе не во всем удавшегося эксперимента, поставленного в картине «Кино-Глаз», не было бы того уже достаточно заметного уровня целостного постижения времени, каким была отмечена «Ленинская Кино-Правда».
Настолько заметного, что это дало отнюдь не случайный (именно для данного случая) повод критику заговорить о синтезе в связи с творчеством Вертова.
Не случайно и то, что Вертов, внимательный ко всему о нем написанному, в рецензии, сохранившейся пожелтевшей вырезкой в его архиве, отчеркнул на полях фразу о синтезе красным карандашом.
В 1925 году «Кино-Правду» и «Госкинокалендарь» сменил Всесоюзный «Совкиножурнал» (с начала тридцатых годов – «Союзкиножурнал», сокращенно «СКЖ»).
Новый журнал сыграл важную роль в распространении зримой массовой информации, в приобщении широкого зрителя к могучему потоку фактов, каким была отмечена история последующих лет, в создании кинолетописи нашей страны.
«Кино-Правду» и «СКЖ» часто сравнивали, доказывая преимущества одного перед другим.
Споры возникли сразу же после выхода «Совкиножурнала».
Обозревая первые четыре десятка номеров, «Правда» в июне 1926 года писала, что «СКЖ» по методу пока почти ничем не отличается от заграничной хроники у тамошних парадных подъездов и что такой метод «далеко отстает от прежней „Кино-Правды“». В том же году журнал «Советское кино» подчеркивал: для каждого, кто видел «Кино-Правду», становится ясным, что в качественном отношении «Совкиножурнал» есть движение назад, к дореволюционному, а может быть, и к довоенному времени, к ханжонковскому «Пегасу». В конце 1927 года на коллегии Наркомпроса об этом говорила и Н. К. Крупская: «Все показывает заседания да заседания, тянутся однообразные вереницы делегатов».
В дальнейшем фактический материал «СКЖ» становился более разнообразным, упрек в однообразии терял свою остроту.
Преимущества (как и недостатки) существовали у того и другого журнала.
Но важно иное: журналы были разными. Попытки размышлений о времени в «Кино-Правде» сменились оперативной и насыщенной сводкой новостей дня в «СКЖ». Новости отбирались в «СКЖ» тоже осмысленно, но метод построения журнала был другой.
Когда в 1926 году вдруг прошел слух, что выпуск «Совкиножурнала» возглавляет Вертов, то он счел необходимым сообщить в прессе (через «Правду»), что не имел и не имеет к журналу никакого отношения.
Дело заключалось не в преимуществах одного метода перед другим, а в том, что метод построения «СКЖ» Вертову не был близок.
Это же он повторил снова, когда перед самой войной возникла идея переименовать «Союзкиножурнал» в «Кино-Правду». Вертов объяснял, что с «Кино-Правдой» связаны определенные представления и что приклеивание названия одного журнала к другому внесет только путаницу и неразбериху, иное дело – возобновить «Кино-Правду» как отдельное издание.
Отдельное издание возобновлено не было, вертовская «Кино-Правда» навсегда осталась той, какой выпускалась в первой половине двадцатых годов.
В 1944 году снова встал вопрос о переименовании «СКЖ», его назвали «Новости дня».
Название было выбрано правильно и точно.
А «Кино-Правда», просуществовав три года, потом, казалось бы, навсегда забытая, – не забылась. Она не только помогла кинокам в ходе поисков и экспериментальных проверок утвердиться в верности избранной ими линии, по и заложить первые кирпичи в фундамент одного из тех направлений, по которому пошло советское и мировое документальное кино спустя десятилетия.
Киноки получили точку опоры и дерзнули перевернуть киномир.
Мир не перевернулся.
Но и нельзя сказать, что он вообще не сдвинулся с места.
Киноки не уступили ни грана своей художественной, общественной позиции. Они ни разу не поддались искушению ублажить нэпманов, твердо рассчитывающих если и не завоевать мир, то уж точно – купить его.








