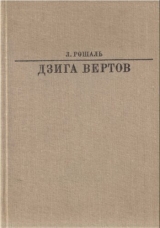
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
«Правда» писала, что представители Моссовета в целом считают картину неплохой, но неприемлемой для них – исполкому нужен отчетный фильм.
Моссовет картину не принял.
И все-таки то, что она была заказной, а заказчиком являлся Моссовет, оказалось для Вертова редкостной удачей, несмотря на сопутствующие реализации заказа сложности.
Удачей не производственно-финансовой (финансы, кстати, были совсем невелики), а творческой.
В «Шагай, Совет!» угадываются многие смысловые мотивы прежних лет – «Кино-Глаза», номеров «Кино-Правды».
Фильм тоже строился на сложном скрещении этих мотивов по параллельным и ассоциативным линиям. Но моссоветовский заказ прочно сбивал весь материал вокруг самой идеи Советов, Советской власти, не давал разбегаться отдельным линиям в разные стороны.
Картина «Шагай, Совет!» вряд ли осуществилась бы (опять жене с точки зрения производственной, а творческой), если бы предложение о ее создании исходило не от Совета.
Заказом как бы выставлялись два условия: известное ограничение инициативы для педантичного исполнения заказа и безграничность инициативы для выхода к обобщениям, как ни парадоксально, но такая безграничность тоже была заложена в самом заказе.
Первым условием Вертов пренебрег, вторым воспользовался.
Размах обобщений в картине созвучен масштабу эпохи.
Это понял заказчик.
Не приняв картину, Моссовет согласился, что ее нужно выпустить в широкий коммерческий прокат.
Соглашение было достигнуто в двадцатых числах мая.
Но то, что понял, проявив объективность, неудовлетворенный заказчик, не понял прокат, хотя такое соглашение, казалось бы, его должно было удовлетворить вполне.
После нескольких просмотров для печати и дипломатического корпуса, после появления первых благожелательных (и даже восторженных) рецензий картина начала демонстрироваться на одном киносеансе и в одном кинотеатре Москвы – «Форуме».
В условиях нэпа, ставя подчас задачи коммерческие впереди социально-политических и эстетических задач, прокат с пренебрежением относился к показу документальных лент, считая это дело заранее обреченным на провал.
Для такой точки зрения у него имелись свои соображения, он часто ориентировался на трясущую мошной нэпманскую публику, а та твердо предпочитала фактам грезы.
На молодую, комсомольскую, вузовскую аудиторию, на рабоче-крестьянского зрителя коммерческое кино тоже оказывало свое влияние. Новый зритель с интересом следил за первыми шагами советского кино, но оно только-только начиналось.
Для того чтобы к нему прививать вкус, привычку, в прокатной политике требовалась смелость, а она нередко уступала место осторожности, иногда похожей на искренний испуг.
Новые эстетические ценности отпугивали зыбкой неопределенностью их стоимостного выражения в рублях.
А вот победительная улыбка крошки Мэри Пикфорд или обольстительное обаяние ее супруга Дугласа Фербенкса оставались по своей рыночной цене товарами до того стабильными, что тут не то что бояться – думать было нечего.
К тому же тогда даже государственный кинематограф строился на акционерных началах, дальнейшее производство зависело от предшествующих сборов. Экономическое положение в стране и в кинопроизводстве было напряженным, многому в действиях проката можно найти объективные объяснения, но они, однако, не всегда могут ему служить объективными оправданиями.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
«Шагай, Совет!» – образец диалектически построенной фильмы. Деятельность Моссовета взята в движении… Эта фильма… пойдет за границу; там она принесет огромную пользу, являясь наглядным опровержением лжи о Советском Союзе, которая там непрестанно распространяется. Но в особенности надо настаивать на том, чтобы наши прокатные организации немедленно бросили эту фильму в самые широкие массы зрителей.
Февральский А. Шагай. Совет! – «Правда», 1926, 12 марта
Вертов на интересном пути к заостренной «картине фактов». Вертов еще спорен, не вполне доказателен. У него страшный враг – равнодушие к нему коммерческого кино… но мы должны найти путь к широкому ознакомлению зрителя с таким ярким представителем советской кинематографии, каким являются киноки.
Ермолинский С. Шагай, Совет! – «Комс. правда», 1926, 29 июня
«Шагай, Совет!» – за границу.
Торгпредство СССР в Берлине запросило у Культкино список выпущенных им фильм, характеризующих жизнь СССР, имея в виду подобрать картины для демонстрации на германских ярмарках. Из целого ряда фильм, описанных в присланном списке, торгпредство выбрало одну – «Шагай, Совет!»
«Правда», 1926, 13 июля
Около двух месяцев назад в ряде московских газет и журналов появились отзывы о фильме «Шагай, Совет!»… Все отзывы признавали большое политическое значение картины и высокое мастерство, вложенное в нее. Тем не менее до сих пор «Шагай, Совет!» не появился ни на одном экране; мало того, до сих пор не приступлено к печатанию картины. В то же время кинотеатры наводняются такими «образцами» производства разных советских кинофирм, как: «Чужие», «Карьера Спирьки Шпандыря», «Соперники», «Глаза Андозии» и пр… Поэтому мы просим Госкино ответить ясно и просто: почему до сих пор не принято мер для печатания и продвижения фильмы «Шагай, Совет!» на экран и когда же, наконец, это будет сделано?
«Правда», 1926, 16 мая
«Форум». Садово-Сухаревская, 14, телеф. 5–72–20.
Вся Москва сегодня смотрит «Шагай, Совет!» из жизни и деятельности Моссовета. Только в 1-м сеансе.
«Фантастическая Индия». Начало сеансов 8 и 10. Касса с 6 ч.
Газетная информация
Вкратце…
Известная работа Дзиги Вертова «Шагай, Совет!» на тему о деятельности Моссовета наконец-то появилась. Но где? И как?
Без всякой рекламы, без фотографий, в кино где-то на Сухаревке.
И это, несмотря на глубокий, совершенно органический интерес к этой работе.
Несмотря на запросы в «Правде», «Известиях» и других газетах. Когда же, наконец, у нас начнут показывать лучшие советские картины так, как они того заслуживают?
«Кино-газета», 1926, 27 июля
Пройдут многие годы, некоторые историки кино напишут, что «Шагай, Совет!» был, по-видимому, слишком сложен для массового зрителя, потому он на картину не пошел.
Вывод лишен оснований, следствие не опирается на действительную причину. Массовый зритель не то что не пошел, а просто-напросто не получил возможности пойти на фильм.
Ситуация чувствительно воздействовала на Вертова. Но поддаваться обстоятельствам, опускать руки Вертов не умел и не желал.
Тем более что в руках он держал пленку с драгоценными кадрами, снятыми по всему Союзу.
Теперь их предстояло превратить в поэму о стране.
В ранних документах, связанных с госторговским заказом, есть не очень четкие, глуховатые упоминания о съемках не одной, а двух больших картин под условными названиями «Госторг» и «СССР».
Возможно, поначалу планировалось отделить выполнение рекламного заказа от реализации художественных замыслов.
В дальнейшем, особенно когда подоспело время монтажа, речь уже шла только об одной полнометражной картине.
На два фильма, скорее всего, не хватало материала, киноэкспедиции работали в чрезвычайно сложных не только климатических, но и производственных условиях, часто в долгом ожидании пленки, денег.
В дневниковой записи октября двадцать пятого года Вертов спрашивает: сможет ли он из рывками накопленного материала сделать достаточно крепкую киновещь и хватит ли у него сил провести переливание крови из себя в обескровленную картину?..
Если он сомневался в успехе подобной операции по отношению к одной картине, то говорить о двух не приходилось подавно.
У Вертова могли возникнуть опасения, что, отдав все силы ленте об СССР, он чисто формально выполнит задание Госторга.
Выполнять какую-либо работу формально он тоже не умел и не желал.
Предъявляя киноадминистрации претензии в необдуманном руководстве работой его группы, Вертов в одной из докладных писал, что ни он, ни его товарищи не имеют желания, подавив всякие внутренние побуждения, спекульнуть, как «хорошие» коммерсанты, на доверии Госторга и сбыть ему под шумок (благо деньги выданы) моток разного хлама, согласно условленному метражу.
Чтобы моток не был захламлен, чтобы он был чист и честен, Вертов два фильма соединил в один.
Но долго искал точку пересечения.
Понимал: факты экспортно-импортного обмена будут сталкиваться с патетикой обобщенного повествования об СССР.
Слиться два потока могут лишь в створе социального и нравственного осмысления времени.
Тогда процесс обмена одухотворится пафосом обобщающей идеи.
В обдумываниях ее Вертова все больше захватывала не технология обмена, а его смысловой итог: во имя чего!
Вертов писал, что картину, которую они сейчас делают, следовало бы назвать «Женские панталоны или трактор?». Если бы не было монополии внешней торговли, размышлял он на страницах дневника, то привычки, вкусы и навыки буржуазии проникли бы к нам вместе с цилиндрами, бюстгальтерами, порнографическими журналами, парфюмерией, косметикой, фокстротом и прочим.
Вопрос ставился им бескомпромиссно – или – или: монокль или объектив для киноаппарата, бюстгальтер или физкультура, духи «Coty l'arigent» или разбивка садов, посадка цветов и деревьев, кокаин или электрический вентилятор, женские панталоны или трактор, заграничная пудра или искусственные удобрения для полей… Импорт сельскохозяйственных машин, тракторов, станков, инструментов вместо импорта моноклей…
В этих противопоставлениях виден жесткий максимализм эпохи.
Но и ее нравственная чистота: личное бессребреничество многих перед необходимостью немедленного умножения общественных богатств.
В список изделий, отражающих, по мнению Вертова, буржуазные привычки и вкусы, попали и такие, которые вряд ли несли в себе пугающую заразу политического и морального разложения.
Но, как уже говорилось, вещь шла на вещь.
Для понимания замысла, к которому шел Вертов, важно другое: в каждой паре предметов, разделенных Вертовым, по одну сторону «или» стояли вещи личного обихода, по другую – коллективного пользования.
Физкультура обеспечивала здоровье и бодрость широчайших масс, красивенький бюстгальтер удовлетворял индивидуальные потребности.
Не только «Coty l'arigent», пудра, панталоны – трактора, станки, удобрения для полей по своему происхождению были в данном случае изделиями буржуазными, они ввозились из-за границы.
Но трактора и станки способствовали росту общественного могущества, помогали осуществлению планов, которые ставила перед собой страна.
В вертовском противопоставлении вещей было немало наивного и прямолинейного, а смысл за всем этим стоял отнюдь не наивный и не прямой.
Стремлению поскорее удовлетворить свои потребности противостояла жажда удовлетворения коллективных интересов.
Но удовлетворение коллективных интересов начиналось с индивидуальных усилий.
Не с ввоза станков и тракторов, гораздо раньше.
С меткого выстрела безвестного таежного охотника, снявшего соболя с хмурой разлапистой ели.
С выловленной безвестным сибирским рыбаком рыбины.
С хлебного поля, выращенного крестьянином.
С овечьих, «каракулевых» стад, пасущихся под присмотром задумчивых пастухов на пастбищах Дагестана и Туркмении.
С той незаметной, повседневной работы, плоды которой вступали в оборот внешнеторгового обмена.
На всех широтах огромной страны люди с разными темпераментами, обрядами, поверьями, с несхожим обликом, разрезом глаз, с неодинаковыми песнями и танцами, одеждами, угощениями и лакомствами скромно делали свое привычное дело, но впервые привычное дело каждого становилось частицей общего труда во имя лучшей жизни для всех.
Между ткнувшимся в снег соболем и новенькими тракторами, разгружаемыми в Новороссийском порту, пролегли тысячи километров.
А на самом деле расстояния между ними не было. Как его не было между каракулевой шкуркой и товарным составом с заграничными станками.
Самой логикой новых отношений труд каждого поднимал могущество страны, вливался в труд всей республики, хотя охотники из безмолвной тундры, рыбаки с дальних северных рек, пастухи Дагестана и Туркмении, хлеборобы Кубани, льноводы Полесья, сборщицы кавказского винограда, наверное, об этом и не догадывались.
Значит, надо сделать в картине все, чтобы они догадались.
Значит, надо показать, как обыденный, повседневный труд отдельного человека соучаствует в общем строительстве повой жизни и как человек труда становится ее хозяином, распорядителем судеб шестой части мира.
От мотива противопоставления вещей Вертов отказался, он звучал только в самом начале, Вертов рассказывал о труде огромного большинства в странах капитала, в колониях на потребу сытости, уюта, комфорта немногих.
Но заложенная в противопоставление тема коллективного созидания, складывающегося из множества отдельных усилий, постепенно вырастала в главную идею ленты.
Она давала возможность поиска новых форм спрессования пространства и времени.
Пробег Кино-Глаза сквозь СССР имел, как и когда-то в «Кино-Правде», не географический, а социальный смысл, хотя охватывал географию всей страны – от края до края.
Вертов все отчетливее понимал, что перед ним возникает небывалая по размаху и сложности творческая задача: поднять обыкновенного человека до масштабов хозяина шестой части мира в минуту его обыденной жизни. Нельзя было допустить, чтобы обыденность ушла из ленты, тогда между экраном и жизнью установятся искусственные отношения.
Картина должна быть сплетена, как кружева, тончайшим образом из множества рядовых мгновений человеческой жизни, и прежде всего человеческого труда, снятых операторами на всем пространстве Советской земли.
Но необходимо найти способ выведения этих рядовых мгновений из обыденного ряда.
Требовалась такая мощь обобщений, какая возможна и оправданна, пожалуй, в одном виде искусства – поэзии.
Может быть, еще – в музыке.
Появятся только самые первые рецензии после самых первых, закрытых просмотров, а они уже сразу запестрят словами «поэма», «симфония».
Недавний сокрушитель этих традиционных жанров творчества протестовать не станет.
Нет, он не принимался за картину «Пробег Кино-Глаза сквозь СССР» с мыслью, что на этот раз сложит поэму, сотворит киносимфонию.
Но его привела к этому логика замысла.
Своеобразие судьбы этого художника связано с одним довольно редким обстоятельством в искусстве – у него никогда не было прямых и непосредственных учителей.
Существовал, конечно, опыт других видов художественного творчества, он не прошел для Вертова бесследно.
Но учителей в той области, в которой он работал (учителей не ремесла, а методов художественного осмысления фактического киноматериала), не существовало, потому что не существовало самой области, не было предшественников.
Однако прекрасный материал для обучения давал собственный опыт.
Вертов отнюдь не варился в собственном соку.
Был внимателен к другим видам искусства и смежным видам кинематографа, к тому, что происходило в документальном кино.
Многое в нем Вертова не устраивало, в особенности нетворческое отношение к организации снятого материала.
Но плодотворность самоанализа заключалась в том, что многое его не устраивало и в собственном опыте.
Во всяком случае, свое предшествующее он никогда не считал незыблемым для своего настоящего – все зависело от конкретного материала и вызревающей в нем идеи.
Вертов никогда не ходил в учениках, но никогда не забрасывал учения.
Он приходил к лирико-поэтическим, художественным жанрам, которые отрицал.
На самом деле он отрицал не жанры, а старое их понимание.
Он пришел к старым жанрам, но понял их по-новому.
Им высмеивался механический «синтез» искусств на экране.
Ко времени «Шестой части мира» Вертов ощутил в себе силы, способные создать условия для органического взаимодействия различных искусств.
К тому же стремление к смысловому синтезу естественно вело к синтезу средств выражения.
Полифония смысловых оттенков в разнообразных кадрах, концентрирующихся вокруг ведущей темы, движение материала по параллельным и ассоциативным линиям в сочетании с выверенным метром и ритмом вызывало ощущение могучих музыкально-поэтических звучаний.
И во все это вплетался еще один, самый существенный компонент – слово.
Здесь Вертов вступал в полемику с собой не только прошлым, но и будущим.
Никогда слово не приобретало в его лентах такого значения, какое приобрело в этом фильме.
Дело не в количестве надписей, в «Шагай, Совет!» их было не меньше.
Но новая картина выдвинула новые условия.
В прежнем фильме надписей было много, но предельное смысловое слияние с изображением делало их присутствие почти незаметным.
В «Шестой части мира» слово не таилось, не старалось полностью войти в плоть изображения, растворясь в нем, а открыто летело с экрана навстречу зрителю.
Надпись переставала быть обычным титром, она как бы вытеснялась за скобки фильма.
Вертов называл картину опытом уничтожения надписей через их выделение в слово-радио-тему.
Написанное слово превращалось в слово произнесенное, произнесенное как бы за кадром, хотя в условиях немого кино оно, конечно, появлялось на экране в виде надписей в кадре.
Но строй надписей, их интонационная основа делали написанные слова звучащими.
Не случайно Вертов говорил о выделении надписей в слово-радио-тему.
Зрительское ощущение слышимого симфонизма ленты во многом предопределялось ощущением звучащего с экрана слова.
Вертов не информировал, не пояснял, не комментировал, а открыто ораторски обращался в зал.
В частных моментах он предпринимал подобные попытки и прежде – начиная с первого номера «Кино-Правды» («Спасите голодающих детей!!!») и кончая последним перед «Шестой частью мира» опытом «Шагай, Совет!» с митингом автобусов и выступлением оратора.
Но впервые это стало принципом строения целого фильма.
Верный себе, Вертов не подменял словом изображение, не подчинял ему монтаж.
Стягивая множество фактов в один узел, монтаж подчинялся основной смысловой задаче: выявлению генеральной линии страны на строительство новой жизни при всеобщем участии народа, берущего свою судьбу в собственные руки.
Монтаж кадров строился в виде внутреннего монолога (разрозненные картины сближаются друг с другом мысленно).
Монтаж слов, сочетавшийся с монтажом изображений, был монологом, произнесенным вслух.
Но и тот и другой подчинялись логике единой мысли, она выражала логику объективных жизненных закономерностей.
Вне ее вся эта поистине грандиозная конструкция рухнула бы.
Однако открытая патетика обобщений оправдывалась не только точным соотнесением их смысла с глубинной сутью жизненных явлений.
Мера и способ обобщения оправдывались и точно понятыми закономерностями избранного жанра.
Откровенности пафоса соответствовал открыто-лирический строй ленты – надписей прежде всего.
Призыв, брошенный с экрана в зал в первой «Кино-Правде», принадлежал и автору, и еще тысячам и миллионам, они спасали умирающих от голода детей.
Клич передавал эмоции всех и каждого, но был лишен индивидуального выражения.
На митинге автобусов слова, разносившиеся по площади в утренней тишине, принадлежали главному персонажу эпизода – оратору.
В «Шестой части мира» все, что было произнесено, принадлежало автору.
Поэту.
Или, правильнее, – лирическому герою его кинопоэмы.
В строе надписей прежних картин тоже всегда чувствовалось: слова пропущены автором через свое Я.
Но на этот раз автор все слова не только пропустил через свое Я, он их и высказал от своего Я.
Начиная с первого произнесенного в картине слова: «Вижу…» Поэт видел тяготы людей труда в странах капитала, показывал увиденное зрителю, делился с ним своими переживаниями.
Кадры сменяли друг друга, каждая надпись соотносилась со смыслом определенного изображения, и в то же время надписи входили в сцепление друг с другом, складываясь в поэтические строки белого стиха.
Вижу
Золотая цепочка капитала
Фокстрот
Машины
И вы
Вижу вас
На золотой цепочке
Попы
Фашисты
Короли
И вы
И вы
И вы
Вас вижу
На службе у капитала
Еще машины
Еще
И еще
А рабочему все так же
Все так же
Тяжело
Стихотворная ритмика надписей, их поэтический лад вовлекали зрителя в лирическую стихию повествования.
Лиризм ленты, однако, не давал повода к парению в заоблачных далях.
Информацию поэзией Вертов заменил, но не отменил.
Поэзия потребовала емкого слова, от этого информационная насыщенность картины не уменьшилась, а возросла.
Лирические чувства, высокие эмоции рождались из документальных фактов.
Их видел не только лирический герой, но и зритель.
Один из таких зрителей, участвуя в обсуждении фильма на страницах «Комсомольской правды», писал: после нескольких минут просмотра авторское «вижу» он повторял про себя уже как свое – я сам вижу.
Но зрителей и поэта сближала не столько общность зрения, сколько общность чувства.
Переходя к рассказу о шестой части мира, о складывающейся повой жизни, не похожей на ту, которой живет остальной мир, Вертов постарался прежде всего обнажить это чувство. Поднять, может быть, еще не для всех ясные, подспудные ощущения на высоту до конца осознанных эмоций.
Он перебрасывал зрителя из края в край огромной страны. Кадры были разными, потому что разными были люди, их труд, быт, среда, окружающая природа.
А надписи строились одинаково.
Вы, купающие овец в морском прибое
И вы, купающие овец в ручье
Вы
В аулах Дагестана
Вы
В Сибирской тайге
Ты
В тундре
На реке Печоре
В океане
И вы,
Свергнувшие в Октябре власть капитала,
Открывшие путь к новой жизни
Прежде угнетенным народам страны
Вы
Татары
Вы
Буряты
Узбеки
Калмыки
Хакасы
Горцы Кавказа
Вы коми из области Коми
И вы из далекого аула
Вы
На оленьих бегах
И вы
На празднике козлодранья
Под гудки пароходов
Под зурну и барабан
Ты с виноградом
Вы за рисом
Вы, которые едите оленье мясо
Обмакиваете в еще теплую кровь
Ты, сосущий материнскую грудь
И ты бодрый столетний
Мать, играющая с ребенком
Ребенок, играющий с пойманным песцом
Ты, запрягающая оленей
И ты, стирающая ногами белье
Надписи с одинаково повторяющимся началом («Вы…», «Ты…»), казалось, должны были утомить зрителя однообразием.
Но Вертов действовал в согласии с точными композиционными расчетами.
Форма словесных повторов соединялась с неповторимостью зрительной: то стужа тундры, то жара Кавказа, то виноград, то оленье мясо, то младенец, сосущий грудь, то столетний старец – в монтаже Вертов неукоснительно придерживался резких зрительных смен.
Но расчет был и на другое – на множественность словесных повторений, на их неторопливое, длительное накопление.
Долгие повторы утомляют, а сверхдолгие, когда зритель начинает понимать, что это неспроста, наоборот, постепенно возбуждают интерес: что бы это значило?..
Тем более что Вертов этот интерес усиливал, все больше увеличивая размеры слов «ВЫ», «ТЫ», акцентируя на них внимание публики и как бы подтверждая: да, неспроста!
А когда интерес достигал наконец своего пика, то он находил возможность поднять его еще выше.
Вслед за словами «И ты, стирающая ногами белье» (на экране женщина на берегу горной реки барабанила пятками по мокрому белью – таков был древний способ стирки) шла надпись: «И вы, сидящие в этом зале».
В длинную цепь повторов Вертов включал зрительный зал. Объединял сидящих в нем с теми, кто был на экране.
Со всей страной.
А потом уже поэт объяснял, что всем этим хотел сказать.
Вы
По колено в хлебе
Вы
По колено в воде
И вы, прядущие лен на посиделках
Вы, прядущие шерсть в горах
Вы
Все
Хозяева
Советской
земли
В ваших руках
ШЕСТАЯ
ЧАСТЬ
МИРА.
Последние три слова стояли в кадре во весь экран.
Экран сближал людей, живущих в разных уголках Советской земли.
Монтажом показывалась и одновременно преодолевалась географическая и этнографическая пестрота жизни во имя понимания ее новой социальной цельности.
Монтаж закладывал зрительную основу обобщений.
Надписи довершали их словесно.
Слово высвобождало скрытую в документе энергию.
Факты прогонялись через слово, как через атомный реактор.
Получали мощный заряд пафоса.
Превращались, как любил говорить Вертов, в экстракт выводов.
Дело, естественно, было не только в слове – в общем строе ленты, в монтажной системе размышлений, сочетающейся со словом.
Но слово трудилось в фильме неутомимо.
Рефренное «Вы…», «Вы…», «Вы…» придавало репортажно снятым кадрам простой, обыденной жизни сначала оттенок загадочности, потом все возрастающей многозначности и в конце концов поднимало людей, совершающих в кадре каждодневные действия (купают овец, охотятся, прядут шерсть, кормят детей, стирают белье, смотрят в зрительном зале кино), на высоту нового понимания человека и его общественного предназначения.
Предметы в кадре, говоря словами Эйзенштейна, выходили из самих себя. Из своего обычного состояния.
Они обретали новые качества, получали новое измерение.
Жизнь, ограниченная своим привычным микромиром, становилась частицей макромира.
Рефрены меняли характер изображения: хроника становилась зрелищем – ярким, необычным, острым.
Вертовские поиски способов обострения обыденного, выведения заурядного из рядового состояния смыкались с поисками новаторского искусства тех лет, с идеями «остранения», «очуждения» действительности, преломленной искусством.
В этом Вертов оказывался близок даже театру, исканиям Мейерхольда, начинаниям Брехта.
С Мейерхольдом Вертова познакомил Февральский. Вертов ходил на спектакли, смотрел с интересом.
Театр Мейерхольда издавал своеобразный журнал-программу «Афиши ТИМ».
В третьем номере (ноябрь 1926 г.) была помещена короткая, но емкая статья, спорящая со сделанным в это время заявлением Эйзенштейна о гибели театра перед лицом кинематографа. В ней довольно убедительно доказывалось: многие сцены «Потемкина», в частности финальная (встреча с царской эскадрой), воздействуют на зрителя потому, что повторные движения орудий, тень от судна на воде, движение стрелок манометра являются не натюрмортами, а живыми участниками игры, становятся снимками не фактической, а театральной данности, театрального воздействия. Это обеспечивает успех кинематографии Эйзенштейна с такой же закономерностью, с какой отсутствие театральности, замечал безвестный автор (имя его не было указано), до сих пор мешало успеху Дзиги Вертова.
Вывод относительно Вертова был несколько поспешным. То, что касалось сцены «Потемкина» с ожившими благодаря игре предметами, присутствовало во многих лентах Вертова, в том числе в застучавших сердцах машин после митинга автобусов.
Театральность возникала не как впрямую поставленная цель, а как объективно возникающий эффект воздействия – воздействия разворачивающегося, разыгрывающегося на глазах зрителя зрелища. Кино беспредельно расширило возможности игры (по сравнению с театром) за счет введения в игру не только актера, но и предметов, не только актера, но и неактера – живого, подлинного человека.
Люди, втянутые в орбиту «Шестой части мира», оказались сближенными игрой – монтажом, словом.
Все это способствовало созданию необычайного, отстраненного зрелища.
Игра преломляла действительность, но не переламывала ее.
Отстраненность зрелища в «Шестой части мира» помогала обострению мысли – не отвлеченной, вытекающей из суммы реальных жизненных обстоятельств.
Может быть, поэтому автор статьи отметил, что отсутствие театральности мешало успеху Вертова «до сих пор», статья была написана как раз в пору нарастающего успеха «Шестой части мира».
Не случайно этот же номер «Афиш ТИМ» напечатал не безоговорочную, но в итоге благожелательную рецензию на фильм Вертова.
У Вертова не было прямых учителей.
Но у него были свои стойкие привязанности.
«Шестая часть мира» несла на себе отсвет одновременно трех его поэтических пристрастий, верность им он сохранял всю жизнь.
В стремлении рассказать о времени через себя и о себе через время, в желании воспеть шестую часть мира, в пафосе прямых ораторских обращений к массам, чеканном ритме поэтических кадров и строк – во всем этом жила любовь к Маяковскому.
Вертов не «продолжал» и не «развивал» Маяковского, не шел за ним «вслед», как писали позже некоторые критики, справедливо улавливая их близость.
Вертов шел самостоятельно.
Спустя полтора десятка лет, в войну, он говорил:
– Маяковский любил меня за то, что я не Маяковский. А Кацман не любит меня за то, что я не Кацман.
Кацман был редактором, в вертовские работы он постоянно вносил поправки.
Вертов шел самостоятельно – не к Маяковскому, а к себе.
Но понимание целей, методов искусства было предельно сближенным.
Творческая атмосфера, в которой жил Вертов, постоянно озарялась маяковскими молниями.
Существовал настрой на единую волну.
Кино двадцатых годов, в том числе Вертова, нельзя понять без Маяковского.
Но и поэзию тех лет, в том числе Маяковского (может быть, его в особенности), нельзя понять вне кинематографических явлений, в том числе и такого, как Вертов.
Октябрьская поэма «Хорошо» была написана через год после выхода «Шестой части мира».
Маяковский и Брик восторженно рассказывали о фильме немецкому писателю Ф.-К. Вейскопфу, приезжавшему в Москву в 1926 году.
Маяковский числил Вертова среди лефовцев, печатал его в своем журнале.
Вертов считал, что Маяковский в искусстве – Кино-Глаз, видит то, чего обычный глаз не видит, часто делал выписки из Маяковского, подтверждающие это: «Осмеянный у сегодняшнего племени, как длинный, скабрезный анекдот, вижу идущего через годы времени, которого не видит никто».
Выписку Вертов сделал в тридцать пятом году, подчеркнув слово «вижу».
Этим словом девять лет назад начиналась «Шестая часть мира».
В другой раз Вертов записал:
Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
Оставьте!
О нем это,
об убитом телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!
Глаза газет – здесь тоже было что-то киноглазовское.
Вертов вспоминал: Маяковского он полюбил сразу, без колебаний. С первой прочитанной книжки.
Книжка называлась «Простое, как мычание».
Он знал Маяковского наизусть. Защищал его, как мог, от ругани, разъяснял.
Когда впервые увидел поэта в Политехническом музее, не был разочарован – представлял его именно таким.
Позже они познакомились, встречи всегда были короткими: на улице, в клубе, на вокзале, в кино.
Вертову нравилось, что Маяковский называл его Дзига.
– Ну, как Кино-Глаз, Дзига? – спросил Маяковский однажды. Это было где-то в пути на железнодорожной станции, их поезда встретились.
– Кино-Глаз учится, – ответил Вертов. – Кино-Глаз – маяком на фоне шаблонов мирового кинопроизводства…
В последний раз они встретились в Ленинграде, в вестибюле гостиницы «Европейская».
Маяковский увидел Вертова, сказал:
– Надо поговорить без спешки. Поговорить серьезно. Нельзя ли сегодня устроить «полнометражный» творческий разговор?








