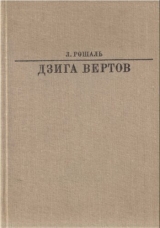
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Гнев, во всяком случае на первый взгляд, был справедливым от начала и до конца.
Еще бы!
МЫ приглашаем:
– вон —
из сладких объятий романса,
из отравы психологического романа,
из лап театра любовника,
задом к музыке,
– вон —
в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями
(3 + время), в поиски своего материала, своего метра и ритма.
«Психологическое» мешает человеку быть точным, как секундомер,
и препятствует его стремлению породниться с машиной.
Слова били прямо в темечко, поражая читателя наповал.
Но едва ли не самое поразительное в этих словах заключалось в призыве:
– Задом к музыке!..
К этому призывал человек, наделенный (о чем большинство читателей не подозревало) незаурядными музыкальными способностями, посвятивший своему любимцу Скрябину самые пылкие поэтические строки. Рассказывают, что если Вертову тот или иной скрябинский отрывок впервые наигрывали пальцами на столе, то он, внимательно прослушав, тут же воспроизводил его на рояле.
С начала двадцатых годов желание смести старое классическое искусство громогласно декларировалось чуть ли не на каждом перекрестке. С корабля современности предлагалось в самом срочном порядке сбросить то театр, то музыку, то живопись, то балет (с балетом хотелось бы особенно поспешить), то Александра Николаевича Островского (с ним тоже особенно тянуть не рекомендовалось), то Александра Сергеевича Пушкина.
В своих ранних заблуждениях Вертов не был одинок. Но (что не менее важно) он не был одинок, когда утверждал необходимость поиска форм фактического отражения действительности для становления нового кинематографа в условиях становления новой культуры.
Сбросить Пушкина призывал, как известно, Маяковский – ситуация, аналогичная вертовской: Маяковский был влюблен в поэзию Пушкина, мог читать на память «Евгения Онегина» главу за главой.
Первомайский номер журнала «Леф» за 1923 год опубликовал написанные Маяковским призывы к единению левого фронта искусства, в призывах режиссеры именовались «так называемые режиссеры», поэты – «так называемые поэты», художники – «так называемые художники».
Это говорил поэт, постоянно писавший для театра, для режиссеров и бывший по первоначальному призванию (и образованию) художником.
Вскоре он напишет книжку с объяснением «как делать стихи?»: нужно накапливать лирические заготовки (на улице, в трамвае, ночью при бессоннице, везде), постоянно вырабатывать чувство ритма, выстраивать строки «лесенкой» и т. д.
Маяковский знал: можно объяснить, как делать стихи.
Но из книжки хорошо видно, что объяснить, как творится поэзия, не мог даже Маяковский.
Стихи можно делать и не будучи поэтом.
Но творить поэзию, не будучи поэтом, нельзя, даже если поэта именовать «так называемым».
Это Маяковский тоже знал. Знание зиждилось на большой поэтической культуре.
Разрушители благоговейно охраняемых художественных реликвий сходились даже во фразеологии. Вертов тоже писал – «так называемая кинематография», «так называемые режиссеры». А самым ругательным было слово «романс», им обобщенно клеймилась обывательщина, ее дух вползал не только в повседневный быт, но и в искусство.
Ниспровергателями часто оказывались почти мальчики – семнадцати, восемнадцати лет, не многим более двадцати.
И тот 1922 – год, когда был опубликован манифест «МЫ», свою платформу изложили будущие кинематографисты, объединившиеся в группу под названием ФЭКС – Фабрика Эксцентрического Актера.
Один из организаторов ФЭКС – семнадцатилетний Григорий Козинцев – объяснял интересующимся, что гудки, выстрелы, стук пишущих машинок, свистки, сирены – это и есть эксцентрическая музыка и что начало нового ритма – чечетка. «Двойные подошвы американского танцора нам дороже пятисот инструментов Мариинского театра».
Другой организатор – двадцатилетий Леонид Трауберг – предупреждал: если на них попробуют насильно натянуть калоши (которые служат теперь признаком зажиточности и хорошего тона и в которых сегодня зашагали все: люди, вещи, идеи, театры), то эксцентрическая калоша сорвется с ловкой ноги и полетит «в кривые рожи достойных».
Третий зачинатель ФЭКС – семнадцатилетний Сергей Юткевич – выражался в том же духе:
«Изделия фирмы „Искусство“ не годны к употреблению.
Все должны убедиться:
Лучшая фирма в мире – „Жизнь“.
Остерегайтесь подделок!
Жизнь нужна нам, надо сделать, чтобы мы были нужны жизни».
Удивительное дело: впереди тех, кто потрясал пьедесталы искусства (разумеется, «старого»), шли молодые люди, взращенные искусством (и, разумеется, прежде всего «старым», так как нового еще не существовало).
Впитавшие искусство чуть ли не с материнским молоком.
На мыслящие вне искусства своего существования.
Достаточно сказать, что «фэксами» очень интересовался Эйзенштейн, принимал участие в их начинаниях, для чего приезжал в Петроград.
Мальчики быстро прослыли необыкновеннейшими задирами.
Но задиристость, фрондерство, эпатаж не служили, как это нередко бывает, прикрытием верхоглядства, темной доморощенности. Несмотря на молодость, они уже были прекрасно образованны. Недаром эти мальчики, как многие другие из их поколения, шумно возвестившие инфляцию старых культурных ценностей, впоследствии оказались в авангарде передовой культуры века и, кстати говоря, взяли на себя сохранение и развитие традиций культуры прошлого.
Но почему же в ту пору именно они вступили на путь несомненного самоотречения, причем вступили без всякой тоски и надлома – весело, задорно, дерзко?
Почему, например, именно Сергей Юткевич, преданный живописи, уже замеченный театральный художник, в своей декларации 1922 года утверждал, что старая живопись умерла, ей на смену должны идти лубок, плакат, уличная реклама, моментальные шаржи и карикатуры, и утверждал с той же страстью, с какой влюбленный в музыку Вертов предлагал повернуться к ней задом?
Ответов существует немало, они даны теми, кто сам пересекал эту буферную полосу между старым и новым искусством, а также исследователями их творческих судеб.
В этих объяснениях есть и утверждение новаторских путей, ему всегда сопутствует отвержение пройденных дорог. И известное воздействие распространившихся тогда ошибочных «пролеткультовских теорий» создания новой культуры, вполне свободной от духовных богатств, накопленных человечеством.
Но среди этих (и ряда других) причин есть одно обстоятельство, на которое меньше обращалось внимания, а оно-то как раз прямо связано с высоким, как бы теперь сказали, культурным уровнем многих молодых сокрушителей.
Великое классическое искусство они знали так же хорошо, как и то, что это искусство на протяжении веков не сделало широкие массы счастливее. Служа «верхним десяти тысячам», оно не оказывало решительных изменений в бедственном положении миллионов и миллионов людей. Искусство не делало жизнь этих миллионов сытнее, грамотнее, чище, они просто-напросто его не знали.
Пришел Октябрь, и не художники, мнившие себя не раз всемогущими богами, вознесенными над толпой, а рабочие, мужики из бесчисленных медвежьих углов России, солдаты совершили то, что обещали поэты, – распахнули врата царства свободы.
Искусство обязано было спуститься на землю. Оно должно было не только стать доступным миллионам. Оно должно было помочь им выбиться из нищеты, преобразить их повседневное существование, их быт, закрепить завоеванные свободы.
Частый спутник революционного порыва – нетерпение.
Вместе с революцией в глаза заглянуло «светлое завтра».
Сияние было ослепительным. Это не всегда давало возможность во всех деталях разглядеть контуры завтрашнего дня. Но свет привлекал к себе великолепием перспектив, хотелось делать все, чтобы ускорить приход грядущего.
Россия начала на невиданных скоростях рваться вперед.
Художники отрекались от старых классических форм искусства и предлагали взамен более, как казалось, действенные во имя непосредственного соучастия в этом штурмующем небо порыве.
Впервые искусство получало возможность служить не десяти тысячам, а миллионам.
Оно обязано было стать непосредственно воздействующим и немедленно воспринимаемым. «Высокие» жанры должны смениться «низкими», площадными. Фэксы поклонялись цирку, аренному трюку. Основой краеугольного теоретического положения Эйзенштейна служил термин, взятый тоже из циркового лексикона – «аттракцион» («монтаж аттракционов»). Юткевич призывал к «бульваризации» всех форм вчерашней живописи. Вертов утверждал, что «психологическое» только мешает.
Все это объяснялось нетерпеливым стремлением немедленно внести свою лепту в общий бег времени. Лепту не столько духовную, а как бы материальную. Способствующую реализации насущных и даже утилитарных потребностей дня.
Сладкозвучные рулады не годились для борьбы с грязью, от которой предстояло отмыть Россию. «Поэзия – обрабатывающая промышленность», – басом провозглашал Маяковский на диспуте в Политехническом музее 19 декабря 1920 года.
Чахоткины плевки можно было слизывать лишь шершавым языком плаката.
И только таким, плакатным, языком можно было осуществить то, о чем писал в своем манифесте Вертов, – породнить человека с машиной. Влюбить, как говорил Вертов, человека в технику, ведь она была силой, способной преобразить жизнь.
Восторг перед техникой, охвативший очень многих молодых (и не только молодых) художников, тоже подогревался стремлением поставить художественный процесс в один ряд с производственным. С тем, который призван создавать материальные ценности, непосредственно влияющие на уровень жизни широких масс. Искусство жаждало участвовать в этом процессе. Как тогда говорили, участвовать в жизнестроении.
– Жизнестроение вместо жизнеописания, – формулировал задачу Маяковский, и эта формула, пожалуй, точнее всего объясняет суть спора, затеянного художниками нового времени со своими предшественниками.
Фэксы назвали свою мастерскую не как-нибудь, а – фабрика.
Эйзенштейн радовался, что цирковой термин «аттракцион» так удачно соединился с производственным термином «монтаж».
Свой первый манифест Вертов не случайно опубликовал в журнале «Кино-Фот», возглавляемом убежденным конструктивистом Алексеем Ганом.
Конструктивизм был явлением сложным, путаным и противоречивым.
Одно несомненно: он в какой-то мере отражал предельно раззадоренную революцией тягу вчера еще темной, отсталой, замордованной России к техническому прогрессу.
Вертовский манифест пел гимн технике, ее пластичности, ритму, точности ее движений.
Да здравствует динамическая геометрия, пробеги точек, линий, плоскостей, объемов,
да здравствует поэзия двигающей и движущейся машины, поэзия рычагов, колес и стальных крыльев, железный крик движений, ослепительные гримасы раскаленных струй.
Восхищение было столь велико, что машина прямо называлась главным объектом внимания.
Стремление Вертова влюбить человека в машину не являлось для него холодно рассчитанной, умозрительной целью. Он сам был безмерно влюблен в технику, восхищался ее киногеничностью, вместе со своими соратниками-операторами снимал плотины электростанций, заводские пейзажи, доменные печи, шахты, работающие станки, летящие локомотивы.
В своем преклонении перед техникой он был мудр и наивен.
Но то и другое отражало желание активно участвовать в жизнестроении (или, как еще иногда говорил Маяковский, в искусство-строении жизни).
Искусство искало способ материализации творческих идей в некие овеществленные формы. Промышленные изделия оно создавать не могло. Но конструктивизм открывал возможность участия в создании изделий, преобразующих одну из самых прокопченных сторон дореволюционной русской жизни – быта.
Наряду с созданием огромного макета памятника III Интернационалу театральными постановками Татлин создавал проекты рабочих кресел, прозодежды. Этим занимались и многие другие художники. Через десятилетия из подобных занятий выросла целая отрасль человеческой деятельности – техническая эстетика, дизайн.
Использование новых вещей, предметов повседневного обихода находилось в то время в центре постоянного обсуждения.
Новый быт объявлял войну старому.
Войсками сражающихся сторон выступали новые вещи (простые, удобные для работы и отдыха) и старые (громоздкие, пышные и, конечно же, располагающие в основном к неге и сладострастию).
Новые вещи хорошо организованным, дружным наступлением должны были принудить старые к капитуляции.
Спор шел о вещах: что надевать и в чем ходить? Как обставить жилье, чтобы в него не проник дух обывательского существования?
При этом спор носил более возвышенный, чем реальный, характер. Нетерпение революционного порыва снова обгоняло имеющиеся возможности. Спор, чем обставлять жилье, шел как раз в то время, когда его обставить ничем другим, кроме вещей старых, нельзя было. Они существовали в реальности, а новые – в проектах. Чертежи отличались законченностью и вкусом, но осуществить их, тем более в массовом масштабе, страна не имела сил.
Пузатые, красного дерева дворянские комоды, многоэтажные буфеты, похожие на Собор парижской богоматери, необъятные «куртизанские» кровати, столы с витиеватыми ножками устояли перед всеми социальными бурями и, невзирая на презрение к себе новых поколений, еще долго служили людям, хотя какая-то ножка могла уже и подломиться (ее подклеивали, подбивали гвоздиками, в конце концов подвязывали веревками), из каких-то дырочек могла сыпаться труха, а в ночной тиши коммунальных квартир, охваченных глубоким сном граждан, слышалось потрескивание – пиршествовали древесные жучки.
Быт был труден, захламлен старьем.
С тем большим нетерпением хотелось создать свой собственный стиль.
Поэтому вещь (пусть в проектах) шла на вещь.
Если бы в то время существовал тип мебели, получивший распространение спустя несколько десятилетий, то можно было бы сказать, что вещь шла на вещь, «стенка» на «стенку».
Выступая 15 июля 1924 года на диспуте «Искусство и быт», Вертов говорил, что его интересует тема: «Быт и организация быта», так как киноки работают именно в этой области и ставят перед собой ближайшую задачу: с одной стороны, улавливать хруст старых костей быта под прессом Революции, с другой – следить за ростом молодого советского организма, сводя отдельные характерные жизненные явления в целое, в экстракт, в вывод.
Но все своеобразие спора о быте, о вещах заключалось в том, что дело было вовсе не в вещах, – в отношении к ним.
Не в стиле одежды, а в стиле жизненного поведения.
Не в материальных выражениях быта, а в духовности бытия.
На благодушном лице того или иного гражданина могла легко обнаружиться презрительная насмешка мещанина, независимо от того, был ли на нем смокинг, или пиджак, или мягкий полувоенный френч.
Ибо вся суть заключалась в другом.
«…И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо».
Вся суть заключалась в этом.
В том, что надо по совести.
Нетерпение революционного порыва возбуждало желание вытеснить старый быт новыми вещами как можно скорее, не медля ни секунды.
Но оказалось, что при всех экономических трудностях потеснить старые вещи новыми все же легче, чем вытеснить старый быт из сознания людей.
На смену нетерпеливому революционному порыву должна была неминуемо прийти тоже революционная, но кропотливая, долговременная работа по воспитанию нового мироощущения.
Утверждение не новых вещей, а новых социальных и нравственных идеалов предусматривало не плакат, не лубок, не цирковой трюк, а тончайшие способы психологического воздействия, свойственного самому высокому искусству. Растущая его необходимость помогала осознать, что и великое искусство прошлого, его демократические тенденции никогда не были безучастны к революционному слому. Не воздействуя прямо на миллионы, классическое искусство оказывало огромное влияние на их лучших представителей, по-своему помогало революционной идее овладеть массами и стать материальной силой.
Развенчание «пролеткультовских теорий» Лениным и партией вызывалось не потребностями академического спора. Эти «теории» вырастали на пути практического осуществления задач духовного преображения народа.
Ленинская критика «пролеткультовщины» и созвучных ей явлений помогла художникам найти верные ориентиры, найти себя, свое место в художественной культуре нового мира.
В своих исходных позициях революция не отвергала истинное искусство, а давала возможность сделать его доступным миллионам.
Она не отвергала и плакатные, площадные, митинговые, лубочные, «низкие» жанры. Но она решительно не принимала превращения их в единственные жанры и замены ими жанров классических, «высоких».
Интерес молодых художников к «низким» жанрам скоро приведет в различных видах творчества к своеобразнейшему слиянию с «высокими», что необычайно расширит жанровые границы и будет способствовать созданию нового в искусстве.
В искусстве, а не вне его.
Но это могло произойти лишь в том случае, если молодые ниспровергатели, предавая искусство анафеме, оставались при всей решительности заявлений всегда ему верны. Даже если сами не сознавали это.
Именно поэтому многие из них сравнительно легко и быстро пересекли буферную полосу между старым и новым искусством. Дальше они пойдут не по пути высокомерного отрицания классических традиций, а их новаторского переосмысления и развития.
Существо происходящего процесса, как всегда, быстрее и глубже других понял Эйзенштейн.
После выхода в январе 1925 года «Стачки», когда критика довольно небезосновательно проводила аналогии между стилистикой первой эйзенштейновской ленты и предшествующих ей картин, журнальных хроник Вертова, то Эйзенштейн, не отрицая известной схожести «во внешней форме построения», тут же поспешил отметить в статье «К вопросу о материалистическом подходе к форме» принципиальное, на его взгляд, отличие: «…„Стачка“ не претендует на выход из искусства, и в этом ее сила».
Прошли два-три года, наполненные творческой работой, размышлениями, и «блудные сыны» начали возвращаться в лоно искусства.
Возвращаясь, они уходили вперед.
Эйзенштейн возвратился скорее других.
Другие это сделали не столь быстро.
Вертов еще продолжал претендовать на выход из искусства, и Эйзенштейн точно угадывал «слабое» место его теоретических воззрений.
Но парадоксальность ситуации заключалась в том, что, претендуя в своих заявлениях на выход из искусства, в своей практике Вертов на это никогда не претендовал.
В связи с этим можно было бы сказать, что Эйзенштейн был прав только отчасти.
Однако он был прав полностью.
Потому что самое замечательное в его статье, спорящей с Вертовым, то, что вслед за словами о «Стачке», не претендующей на выход из искусства, из которых ясно вытекало, что Вертов и его группа претендуют на это, через два крохотных абзаца было написано буквально следующее: «Такое легкомыслие (отрицание искусства. – Л. Р.) ставит киноков в довольно смешное положение, так как, формально разбирая их работу, приходится установить, что работы их очень и очень принадлежат к искусству (курсив наш. – Л. Р.)…»
Правда, Эйзенштейн далее говорит, что у киноков искусство «примитивного импрессионизма», но это, как говорится, уже другой разговор. Об этом можно спорить.
Однако спорить в рамках искусства, а не вне его.
Противоречия были неизбежны по совершенно определенной причине: молодые ниспровергатели, широковещательно объявляя о своей готовности изгнать искусство отовсюду, так и не сумели его изгнать из самих себя.
Они не сумели изгнать искусство даже из тех манифестов, в которых они широковещательно обещали его изгнать отовсюду.
Молодецкие, с веселым гиканьем да устрашающим посвистом налеты на искусство почти во всех декларациях сопровождались темп или иными формами его утверждения. Наверное, это не замышлялось специально, получалось невольно.
Но можно ли найти лучшее подтверждение искренности, глубины и непрерываемости их связей с искусством, чем невольное утверждение того, что вольно отвергалось?
В вертовском манифесте «МЫ» между обилием громовых призывов ускорить смерть киноискусства и галантными приглашениями повернуться задом к музыке, ко всем прочим «одурманивающим человека» видам искусства, примазывающимся к кино, стояла фраза, которую в грохоте грозовых раскатов можно было и не услышать: «К синтезу – в зените достижений каждого вида искусства, но не раньше».
Вертов протестовал не вообще против слияния разных искусств в кино, а против преждевременного и механического смешения на экране, которое многие называли киносинтезом. Не театр, снятый на пленку, не романное киноповествование, не музыка как приложимый элемент сопровождения, а – подлинный синтез, и обязательно в зените достижений.
Под зенитом достижений он понимал то, о чем было сказано в следующем манифесте «Киноки. Переворот».
Основное и самое главное:
Киноощущение мира.
Не театральные, не музыкальные, не литературные ощущения как таковые, а все это – в синтезе киноощущений.
Киновидения.
Киномышления.
Короткая и незаметная фраза о синтезе легко могла прокатиться мимо сознания читателя первого манифеста.
Между тем весь творческий путь Вертова был отмечен не чем иным, как стремлением к синтезу разных видов искусств в зените киноощущения мира.
Не замечая этой фразы, но все чаще отмечая синтез в вертовских фильмах, читатели (включая Эйзенштейна), превращаясь в зрителей, дивились противоречиям между декларациями и практикой, ставящим Вертова в «смешное положение».
Противоречия, конечно, существовали, но не были столь однозначны и тем более смешны, как казалось.
Переходя к изложению своих принципов построения документальной киновещи, Вертов мимоходом замечал, что «каждый любящий свое искусство ищет сущности своей техники».
Вертов говорит о «своем искусстве», а не о чем-то другом.
Под своим искусством он понимал «искусство движения» (снова искусство, а не что-то другое) – мощную экспрессию, стремительный напор, напряженный ритм.
В этом отражались возрастающие темпы социальных перемен, все убыстряющийся бег времени.
Что же касается сущности техники «своего искусства», то здесь Вертовым прежде всего выделялась необходимость точной организации зафиксированных движений жизни, ее разнообразных мгновении. «Киночество, – писал он в манифесте „МЫ“, – есть искусство организации необходимых движений вещей в пространстве и, применив ритмическое художественное целое, согласное со свойствами материала и внутренним ритмом каждой вещи».
Фраза эта была важна для Вертова, он всю ее, с начала и до конца, напечатал разрядкой.
Как непрошеные гости, совсем не собирающиеся восвояси, опять затесались в нее слова «искусство», «ритмическое художественное целое».
Затесались не случайно.
В этой довольно-таки тяжеловесной фразе при внимательном и непредубежденном чтении можно было обнаружить еще одно «смешное» противоречие Вертова. Отрицая искусство, он самым неприкрытым образом призывал к художественной цельности.
Не только призывал – объяснял путь к ней.
По теории интервалов смысл запечатленного постигается не только из отдельно зафиксированных движений, а на переходах (интервалах) от одного движения к другому. «Слова», образующие кинофразу, рождаются не из кадров, а из их монтажных стыков.
Вода может быть горячей, может быть холодной. Но важна, объяснял Вертов в 1935 году в том самом докладе, где вспоминал о своих юношеских увлечениях по ритмической организации слышимого мира, не горячая вода и не холодная. Важен переход от горячей к холодной. Есть нота «до» и нота «ми», но дело не в нотах «до» или «ми», а в том, что возникает между ними в результате их столкновения.
Согласно вертовской теории, развитие фильма должно идти не по кадрам, а по равнодействующей этих кадров. По линии как раз того, что Вертов называл «интервалами».
Монтаж имеет значение не столько для воспроизведения реальной последовательности событий, сколько для последовательного развития мысли.
Важно не созерцание запечатленных картин, а их сопоставление, раскрывающее замысел. Каждый кадр сам по себе несет какой-то свой «текст», монтаж кадров должен направить мысль зрителя на выяснение «подтекста».
Выяснение подтекста, естественно, требовало, с одной стороны, образного мышления автора, а с другой – предполагало образное мышление зрителя. Но наличие такого мышления ведь есть не что иное, как характерная черта произведения искусства.
Шумно предав его анафеме, Вертов в наиболее серьезной части своего первого манифеста остался ему верен.
Но анафема, набатно колебля воздух, врезалась в уши. А преданность так «удачно» маскировалась конгломератом туманных, трудно воспринимаемых терминов, что заметить ее было почти невозможно. Непонятные термины лишь раздражали.
Манифест оказывал искусству и другие знаки внимания. То Вертов вдруг употребил не вяжущееся с призывами уничтожить старые жанры слово «кинопоэма», то вспомнил (ну, конечно, этого следовало ожидать) Скрябина. Раскрывая специфику кинематографического ощущения мира, Вертов говорил, что самый совершенный сценарий не может заменить записи действительности на пленке, так же как литературные разъяснения к произведениям Скрябина не дают никакого представления о его музыке.
Будь читатель менее возбужден и раздосадован, он наверняка бы задумался над этой ссылкой на композитора, да еще на столь тонкого и изощренного. Ему бы показалось небезынтересным сближение кинематографической специфики с музыкальной, если не забыть соседствующие призывы от музыки отвернуться.
Сближение странное, но не случайное.
– Не сценарий, а нотная партитура, – говорил Вертов и много лет спустя, когда заходила речь о предварительном словесном изложении содержания будущей лепты.
Истинное кино, как и музыка, не поддается словесному воспроизведению, считал Вертов. Кино надо смотреть, музыку слушать.
Ведь учился он не чему-нибудь, а «кинописи», умению писать не пером, а киноаппаратом.
Но сближал кино и музыку не только поэтому.
Использование для построения киновещей музыкальных форм с их относительно свободным слиянием в единое симфоническое целое разнообразных эмоционально-смысловых мелодий, линий, оттенков ему казалось гораздо более плодотворным, чем форм повествовательно-литературных с их традиционной фабульностью, зажатостью сюжетной интригой.
Последние самые знаменитые картины Вертова назывались «Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине», «Колыбельная» тоже не случайно. Музыкальный жанр, упомянутый в каждом названии, соответствовал стилю и строю каждой ленты.
Это был синтез – в зените его, Вертова, достижений. А начало пути к синтезу в зените достижений было заявлено (пока без подробностей маршрута, в общем виде, по – заявлено) в том первом манифесте, где музыкальные формы, как и все остальные, предлагалось немедленно отправить в тартарары.
И все-таки самый глубокий прорыв в искусство сулило в манифесте самое непонятное и, казалось бы, совсем далекое от искусства слово, которым манифест открывался, – коротенькое слово «киноки».
Оно ужасно сердило читателей необъясненным лаконизмом, какой-то бессмысленной загадочностью, вызывало желание ответно дерзить и насмешничать. Это не преминул тут же сделать режиссер и критик А. Анощенко, когда в приливе веселого настроения пустил в оборот словечко «кинококки».
Новое дело можно искренне не понять и не принять.
Но для некоторых нет ничего сладостнее, чем над новым делом весело посмеяться.
Вертов справедливо полагал, что столь серьезно начатое им дело может рассчитывать на ответную серьезность обсуждения, где шутка тоже уместна, но не ради красного словца.
Художник, отстаивающий свой путь в искусстве, обычно лучше других знает, в чем его сила, и поэтому не хуже других чувствует свои слабости.
– Я – живой человек. И мне совершенно необходимо, чтобы меня любили, – говорил Вертов.
В восторженном и нетребовательном поклонении, не замечающем слабости, просчеты, ошибки, он никогда не нуждался.
Вертов говорил о любви, которая слабости замечает, совсем не стремится беспринципно их обойти и все-таки умеет быть снисходительной к ним.
Умное снисхождение к слабостям, поддерживающее силу, окрыляет художника, заражая новой энергией, щедро расходуемой в пути.
Вертов оставил в дневнике самоироничную, злую запись: на минуту представьте, что он умер, и вы увидите, как он талантлив.
Вертов был не прав, его талантливость очень многие поняли и оценили при его жизни.
Однако истинный масштаб личности еще только постигается.
Наверное, так уж мы устроены: для того, чтобы что-то приобрести, нам иной раз следует хорошенько понять, что мы потеряли.
А пока сила потери не ощутима, беззаботность может брать верх над снисхождением…
Назвав свою группу «киноки», Вертов вложил в это слово большой и продуманный смысл.
– Кинококки, разновидность бактерии футуризма, – озарился радостным открытием Анощенко.
Не правда ли – весело, задорно, смешно?..
Анощенко было весело.
А Вертову?..
Современники вспоминают, что в глубине вертовских глаз они нередко ловили оттенок печали. Этот оттенок можно уловить и в его фотографиях. Порой кажется, что печаль была не свойством настроения в отдельные минуты жизни, а свойством глаз.
Или свойством натуры.
Сам Вертов тоже любил посмеяться, говорил про себя: ведь я веселый человек.
Грусть таилась в глубине глаз, хотя для нее могло и не быть причин.
Но – могли и быть.
Одна из них, несомненно, вот эта: мне грустно потому, что весело тебе, как писал Лермонтов.
Не потому, что он не любил или не понимал шуток, а потому, что чаще продуманного и взвешенного смысла находил в них пустой, зубоскальный умысел.
Загадочные «киноки» в общем-то расшифровывались просто.
Они произошли от слияния двух слов: «кино» и «око».
Назвав группу объединившихся вокруг него кинематографистов «киноками», Вертов всю сумму своих теоретических воззрений и вытекающих из них практических методов чаще всего определял формулой, состоящей из сочетания тех же слов – Кино-Глаз.
– «Кино-Глаз» или «кино-око». Отсюда «киноглазовцы» или «киноки», – вспоминая начало своего пути, объяснял в 1929 году Вертов.
Многим Кино-Глаз казался всего лишь эффектной, даже крикливой этикеткой, мало что выражающей по сути.
Но на самом деле это была формула предельно насыщенного раствора, вобравшего в себя все разнообразные элементы вертовского метода. Одновременно она обозначила две главные несущие опоры здания его теории – в виде сочетания двух слагаемых формул: «Кино» и «Глаз».
В формуле все было не случайным: и то, что Вертов в своих рукописях, как правило, писал оба слова с прописных букв, и то, что никогда не соединял их, но и никогда не разъединял, ставя между ними дефис.
Дело было не в спорности грамматического правила, а в бесспорной равнозначности для Вертова обоих слагаемых.








