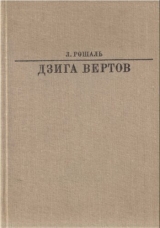
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Форма монолога была индивидуально неповторимой, а сконцентрированные в нем чувства отражали мироощущение, свойственное людям эпохи в целом.
Человек с киноаппаратом умел смотреть на мир так, как не умел никто, но выражал чувства всех.
Не одного человека, а миллионов.
Чувства народа.
Для истинного понимания человека с киноаппаратом к месту украинское слово «людина» – выражая человеческую единичность, оно самим своим звучанием представительствует (как и лирический герой фильма) от людей.
Можно бесконечно спорить (тем более если есть желание) по поводу тех или иных кинематографических приемов, использованных Вертовым, их оправданности.
Но одного у картины отнять невозможно – ее жизнерадостного настроя, светлой, мажорной тональности.
Картина просвечена доброй улыбкой, пересыпана шутками (в косметическом кабинете женщинам накладывают на лицо пригоршнями белую, будто известковую, маску; параллельно повязанная до бровей штукатурщица, улыбаясь щелками глаз, ловко обмазывает шматками глиняной массы кладку доменной печи – всему требуется своя косметика…).
Новое мироощущение открывалось в той особенности восприятия действительности, которая определяется приятием ее.
Действительность (может быть, впервые в истории) вступала в согласие с жизнью миллионов. Этот лад человека с действительностью и рождал бодрое, жизнелюбивое восприятие окружающего мира.
Оно проявлялось не только в добром, улыбчивом, жизнерадостном отношении ко многим зорко схваченным житейским деталям.
Новое мироощущение, может быть, полнее всего раскрывалось в ритме фильма.
В ритме, а не в сменах темпа (быстро – медленно), в замедленных, даже застывших изображениях обычно тоже продолжали существовать бодрые по ритму, жизнелюбивые интонации.
Ритм не только определял способ поэтического строения картины, но и отражал характер настроения людей.
Ритм фильма как выражение внутреннего ритма человеческого существования, здорового жизненного тонуса.
Переплавить ритм картины со всеми его особенностями в слова на бумаге – трудно; как и все в ленте, его восприятие рассчитано на зрительное воздействие. Но неожиданным помощником в такой «переплавке» может стать один из документов, сохранившийся в архиве Вертова, – «Музыкальный конспект к „Человеку с киноаппаратом“».
В конспекте, согласованном с автором, указывался характер музыкального сопровождения каждого эпизода во время демонстрации фильма в кинотеатрах. Подавляющее большинство эпизодов должна была сопровождать «оживленная музыка», «живая музыка», «аллегро» (почти везде), «бравурная музыка», «веселая, бодрая маршеобразная музыка», «веселая русская музыка», «веселый вальс бостон» (для сцен пляжа), «комическая музыка» (эпизод с китайским фокусником), «веселая музыка ритмического характера» (эпизоды физкультуры), «бурное аллегро, доходящее до престо, ударник все время делает дробь на маленьком барабане» (это, естественно, для финала). И только в самом начале, когда просыпается город, – «спокойная, легкая музыка, пианиссимо, анданте», и в сценах загса, разводов, похорон – «повествовательный характер, лучше, если этот эпизод играет один рояль».
Восприятие действительности, основанное на приятии ее, не только вселяло бодрость в людей, окружавших человека с киноаппаратом, но вдохновляло его самого на столь свободный рассказ, свободное движение ассоциаций, на столь смелое построение внутреннего монолога.
Свободное поведение выражало его внутреннюю раскрепощенность, подготовленную окружающей действительностью, атмосферой новой жизни. В самом строе рассказа особенности художественного мышления человека с киноаппаратом были неотделимы от его социальных ощущений. От его понимания, что в увиденных им мимолетных мгновениях повседневного человеческого бытия вызревает нечто непреходящее, хотя само по себе и очень простое, – хорошее настроение людей.
Много это или мало для социальной насыщенности художественной вещи – передать хорошее настроение людей?
Критики, отказавшие ленте в социальном звучании, видимо, посчитали – мало. Заводы, стройки, машины, станки – это фундаментально, материально ощутимо. А настроение?.. Уж больно зыбко, идеализм какой-то.
Но то, что в это время закладывалось не только в фундамент экономики, а и в фундамент хорошего настроения, потом отзовется в истории.
В первые трудные месяцы войны, пользуясь возникшим преимуществом, фашистская авиация, танки и артиллерия сносили заводы, уничтожали станки и машины, недавно выстроенные плотины и рабочие поселки, но одного так и не сумели (при всех стараниях) истребить: вот этой памяти о хорошем настроении.
В трагические минуты люди теряли очень многое, но ее не теряли даже в трагические минуты.
Победа пришла в мае сорок пятого, а исход войны был предрешен летом сорок первого – в тот день, когда гитлеровские части двинулись через границу.
В первые дни войны (между 22-м и 26-м июня) Вертову было предложено подумать о возвращении к теме «человек с киноаппаратом» – на этот раз «человек с киноаппаратом на войне». Тот, у кого возникло предложение, охладел к нему так же быстро, как и загорелся. Но тогда, когда предложение было выдвинуто, Вертов записал в дневнике: «Моя постоянная тема… я с радостью согласился».
Он согласился с радостью, потому что понимал: с помощью своего постоянного лирического героя не только расскажет о событиях войны, о тяжких и высоких минутах испытаний, но и раскроет через чувства человека с киноаппаратом чувства народа – веру в неминуемость, вопреки тяжести испытаний, мгновения, когда снова вернется к людям хорошее настроение.
Фашизм потерпел крах не в майские дни сорок пятого, и даже не в июне сорок первого, а задолго до начала войны – в те двадцатые годы, когда трудного, неясного, не до конца понятого еще было немало, но люди нет-нет да и ловили себя на мысли, что настроение у них совсем даже ничего – неплохое!
Так много это или не много для осознания движущих сил эпохи?..
Вертов уловил дух нового в момент зарождения.
Его оппоненты не уловили.
Но Вертов в том не виноват, наделенный обостренным социальным чутьем не обязан отвечать за промахи обделенных.
Вскоре эту обделенность подтвердило еще одно обстоятельство.
Увидеть в рядовом не рядовое, в обыденном значительное нередко помогает взгляд со стороны, на расстоянии – взгляд по контрасту.
В мае двадцать девятого года Вертов выехал в заграничную командировку.
После награждения в 1925 году картины «Кино-Глаз» медалью на Парижской выставке имя Вертова получило известность в мире.
Но о дальнейшем его творчестве, теоретических позициях, исканиях известно было мало. Отголоски страстных споров доходили до Европы и Америки (не только Северной, а и Южной), однако подчас в искаженном, противоречивом, невнятном виде.
Еще хуже доходили фильмы, их почти никто не видел.
Но интерес к истинной сути поисков Вертова (как и вообще других художников молодого советского киноискусства) постоянно возрастал.
Эхо полемики интерес увеличивало.
На Западе появилось немало друзей советского кино, в трудных условиях официальных государственных запретов, цензурных рогаток они делали все возможное для пропаганды открытий и достижений нового революционного кинематографа.
Летом 1929 года в Штутгарте открылась международная выставка «Фильм унд Фото». Вертов был приглашен для показа «Человека с киноаппаратом» и выступления перед просмотром с докладом о направлениях в советском документальном кино, о принципах и методах работы группы Кино-Глаз.
По просьбе ВОКСа (Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей) советский отдел штутгартской выставки оформлял художник Эль Лисицкий, с которым Вертов потом близко подружился. Ему помогала жена, Софья Лисицкая, тоже художница и литератор, она недавно приехала из Германии в Москву и познакомилась с Вертовым. Лисицкая отбирала для выставки весь необходимый материал, включая наиболее интересные кадры из лучших фильмов для их фотоувеличения.
В начале двадцать девятого года Вертов пригласил Лисицких на один из первых просмотров «Человека с киноаппаратом». Просмотр был устроен для писателей и художников. Лисицкая вспоминает, что после просмотра многие резко нападали на Вертова, а он («побелев, как мел») отстаивал свою работу. Сама Лисицкая была восхищена фильмом, вскоре написала для немецкого журнала «Кунстблат» (май, 1929) статью «Смотрите на жизнь Кино-Глазом Дзиги Вертова», тонко анализировала своеобразие поэтических постижений новой революционной эпохи в последних работах Вертова, особенно в «Одиннадцатом» и «Человеке с киноаппаратом».
Перед отъездом Вертова в Германию Лисицкие разослали письма в знакомые им организации, художественные общества и просто своим друзьям – всем, кто интересовался культурными начинаниями в Советском Союзе, – с просьбой о содействии Вертову и оказании ему теплого приема.
Вертов свободно владел немецким языком, с другой стороны, «Человек с киноаппаратом» не требовал перевода, – оба обстоятельства тоже имели немаловажное значение. Торгпредство заранее организовало пересылку копий фильма, была достигнута договоренность о показе картины и выступлениях Вертова не только в Штутгарте, но и в Берлине, других городах.
Поездка Вертова была хорошо подготовлена и творчески, и технически.
3 июня 1929 года Вертов выступил с докладом «Что такое Кино-Глаз» в Ганновере, 9-го – в Берлине, 10-го – в Дессау, 11-го – в Эссене, 16-го – в Штутгарте.
Он получил также приглашение показать фильм во Франции. Париж, писал он в письме, принял меня в лице критики, газет, журналов, работников искусств – очень хорошо, а в лице министра иностранных дел, префектуры и т. д. – неважно. Было предложено выехать до 1 августа, что и пришлось сделать.
Немецкие газеты и журналы публиковали портреты Вертова с подписью «Moskauer Filmregisseur Dsiga Werthoff» (московский кинорежиссер Дзига Вертов), давали информацию о нем и статьи с анализом особенностей его творчества.
От выступления к выступлению рос успех вертовских встреч с кинематографистами, с любителями кино и кинозрителями. Он получил предложения прочесть доклады из Мангейма, Гамбурга, Аугсбурга, а также из Лондона, Амстердама, Вены и Цюриха. Две немецкие кинофирмы (в Ганновере и Франкфурте) и одна швейцарская (в Цюрихе) предлагали совместные постановки, швейцарская, сообщал Вертов, «на очень выгодных для СССР условиях».
«Перед нами 200 газет, – писала 8 сентября 1929 года „Кино-газета“, – 200 отзывов о девяти докладах, прочитанных Вертовым».
Среди тех, кто писал о докладах Вертова и его фильме, был тогда еще сравнительно молодой, а впоследствии один из крупнейших немецких теоретиков и историков кино Зигфрид Кракауэр, режиссер-документалист Ганс Рихтер, теоретик фотоискусства профессор Моголи Наги. Статью для «Юманите» написал французский писатель, неутомимый пропагандист советского кино Леон Муссинак. 27 августа 1929 года «Кино-газета» сообщала, что в Лондоне просмотр «Человека с киноаппаратом» с докладом Вертова предполагает устроить Айвор Монтегю – режиссер, сценарист, один из известных английских критиков и теоретиков кино.
При всем доброжелательном, подчас восторженном отношении (главным образом, со стороны прогрессивной, левой интеллигенции) к вертовской ленте, его принципиальным идеям поездка протекала отнюдь не безоблачно. Вернувшись, Вертов писал Лисицким из Киева, что при встрече в Москве сможет им много рассказать о поездке, о впечатлениях, о стычках. Поводы для стычек возникли очень быстро. Вскоре после первых просмотров в немецкой прессе появились сообщения, что в своих установках Кино-Глаз продолжает принципы некоего Блюма. Сообщения иногда содержали почти неприкрытый намек на плагиат.
Вертова сообщения заинтересовали, он посмотрел фильм Блюма «Им Шаттен дер Машине», на который ссылались газеты, и сразу же установил, что под этим названием в Германии демонстрировалась последняя часть «Одиннадцатого» с добавлениями из «Звенигоры» Довженко. Вертов тут же послал протест в газету «Франкфуртер Цейтунг».
Одновременно часть прессы принялась достаточно настойчиво подчеркивать, что, несмотря на очевидные кинематографические достоинства работ Кино-Глаза, «Человек с киноаппаратом» является лишь как бы более «фанатичным» повторением другой немецкой картины «Берлин. Симфония большого города» Вальтера Ратмана. На этот раз речь шла не о жульнической подделке, а об одном из самых прекрасных документальных фильмов мирового кинорепертуара.
Рутман снимал картину почти одновременно с «Человеком с киноаппаратом», но его фильм вышел раньше, в 1927 году (выпуск вертовского фильма искусственно отодвинулся не по вине автора).
Между двумя картинами действительно было много общего. И та и другая строились на рассказе об одном дне огромного современного города, оба автора стремились вести рассказ языком пластики, зрительных ассоциаций и метафор.
Но в том же письме в редакцию «Франкфуртер Цейтунг» Вертов объяснял, что Кино-Глаз существует не с 1929, а с 1918 года и что фильмы, построенные на жизни одного дня города, делались Кино-Глазом задолго до «Симфонии большого города» и «Человека с киноаппаратом» («Кино-Глаз», «Шагай, Совет!»).
Приступая к работе над картиной, сам Рутман заявил, что собирается снять свой фильм по методу Кино-Глаза (об этом наша печать сообщила тогда же, когда немецкий режиссер сделал свое заявление, от которого он никогда не отказывался).
Фильм Рутмана появился как результат длительного влияния на режиссера работ и выступлений Кино-Глаза, а не наоборот, что «хронологически и по существу абсурдно», писал Вертов.
Но, споря о хронологии, приоритете формальных достижений, зарубежная печать о существе не спорила.
В понимании основного отличия – социальной страстности и определенности вертовского фильма и социальной неопределенности фильма Рутмана – западная пресса была практически единодушна.
Левая и правая пресса, естественно, относились к этому преимуществу картины Вертова по-разному, но не только левая, но и правая печать не могли этого преимущества не признать.
Журнал «Советский экран» (1929, № 37), подводя итоги обзора зарубежной печати в связи с поездкой Вертова, подчеркивал: «Западная критика отмечает, что Кино-Глаз органичен для советской почвы и что Вертову удалось в своих вещах выразить радость жизни, непосредственность чувств, вихрь веселых, заразительных настроений, характерных для людей кипучей советской стройки…»
Западная критика почувствовала органичность Кино-Глаза для советской почвы не через виды заводов и шахт, виды кипучей стройки, а через радость жизни, вихрь веселых, заразительных настроений, характерных для людей стройки.
Она поняла это по контрасту со своей жизнью.
И по контрасту вертовского фильма со своим фильмом – фильмом Рутмана.
Социальная неопределенность картины Рутмана была выражением вполне определенных социальных особенностей мироощущения человека той социально не менее определенной среды, к которой принадлежал немецкий автор.
Радость бытия, несмотря на все имеющиеся житейские неудобства, бытовые и прочие трудности, как характерная черта жизни, окружающей человека с киноаппаратом.
И отсутствие радости бытия, как характерная черта существования человека не просто из другого большого города, а из другого мира.
Особенно четко это выявлялось опять же в ритмических интонациях, у Рутмана совершенно иных, элегических, окрашенных часто печальным настроением, душевным неспокойствием.
Автор влюблен в свой город – и ему трудно его любить.
Нельзя сказать, что он не принимает действительность, но и никак нельзя сказать, что принимает.
А главное, он словно сам не может твердо сказать, принимает ли действительность его. Не безразлична ли она к нему? Не оттолкнет ли от себя в критическую минуту?
Может быть, в этом предчувствии нелада между человеком и действительностью Рутман угадал то, что потом отзовется в истории, – дымящимися камнями поверженного «большого города», которому он посвятил свою симфонию?
Некая зыбкость жизнеощущения, социальная неуверенность не дали умному, зоркому, тонкому наблюдателю полно и до конца выразить свое отношение к наблюдаемому.
Выразить не в частностях, а в цельном миропонимании.
Вертову же удалось выразить сполна.
Об этом писали соотечественники Рутмана. Постоянный обозреватель «Франкфуртер Цейтунг» Кракауэр в статье о «Человеке с киноаппаратом», опубликованной 19 мая, отмечал: «Рутман дает только чередование, не объясняя его. Вертов же, показывая, интерпретирует».
Для понимания социальной страстности «Человека с киноаппаратом» приобретало особое значение не только то, о чем рассказывалось, но и как рассказывалось. «Как» – не в смысле приемов, а отношения рассказывающего к рассказываемому, к увиденной жизни.
В цепочке фильмов, подготовивших самую значительную вертовскую картину «Три песни о Ленине», Вертов непосредственно перед ней ставил «Человека с киноаппаратом», несмотря на их, казалось бы, полное различие. Но слова Вертова, определяющие главные особенности «Трех песен», четко объясняли глубинную близость лент при всем их внешнем несходстве: «Это внутренний монолог идущего из старого в новое, из прошлого в будущее, от рабства к свободной культурной жизни раскованного революцией человека».
По сравнению с ленинской картиной «Человек с киноаппаратом» еще не обладал такой же ясностью и глубиной, не был столь же совершенен и строг в отборе средств. Но, как предшествующее звено, нес в себе наиболее существенное, что их связывало, – был внутренним монологом человека, раскованного революцией.
Построение по законам внутреннего монолога определяло формальное новаторство картины.
А принадлежность монолога человеку, раскованному революцией, определяла ее социальную насыщенность.
Вертов не бросался словами, говоря, что «киноки – дети Октября». Они были ими не только тогда, когда работали над «Кино-Правдами» и «Тремя песнями о Ленине», но и когда снимали «Человека с киноаппаратом».
Внутренний монолог раскованного революцией человека – предельно емкая формула сопряженности художественных интересов и идейных устремлений.
Вне ощущения сопряженности разбить «Человека с киноаппаратом» на мелкие, несклеиваемые осколки проще простого.
Хотя ощутить сопряжение было также не просто. Уловить вызревание нового в том, что происходит рядом, происходит не в праздники, а в незаметном, обыденном шуршании часов и дней, трудно.
Но, может, это и было главным богатством, накопленным революцией к тому времени, – то, что новое мировосприятие становилось само собой разумеющимся свойством жизни? До того привычным, что вертовские оппоненты на это свойство жизни, ставшее свойством фильма, не обратили внимания.
Между тем то, что они не обратили на это внимания, – тоже было завоеванием революции, еще одним подтверждением привычности новых форм бытия.
Неудивительно, что на Западе, где привычки к восприятию действительности, связанному с массовым приятием ее, не было, сразу же обратили внимание на это свойство жизни, ставшее патетическим свойством фильма.
Быт, сотканный из бесконечного множества простых и вместе с тем необыкновенно тонких, глубоко человечных подробностей, соединялся с художническим пафосом – Вертов не отступил в картине и от этой традиции.
Только если в прежних фильмах старый быт соотносился с пафосом борьбы за новый, то теперь молодой новый быт соотносился с пафосом его утверждения.
Отбросив пафос, не почувствовав его, раздосадованная критика оставила лишь быт, калейдоскопический хаос подробностей, помноженный на калейдоскопический хаос кинематографических трюков. После этого уже нетрудно было прийти к выводу о холодной формальной изощренности, о механическом смешении средств и разобщенных жанровых начал. Вертов раздражал противозаконными взаимоотношениями, соединениями несоединимого – прозы с поэзией, репортажной эпичности хроники с лиризмом впечатлений. Критики были твердо убеждены, что если есть обыденность, то уже не может быть монументальности, если есть патетика, то интимность уже просто невозможна, а призывный клич не переходит в шепот признания, эпос в лирику, лирика в драму.
Полифонию метода в «Человеке с киноаппаратом», как и в других лентах Вертова, его противники считали заумью, надуманной эклектикой.
Но, противопоставляя полифонию реалистического метода монотонности натурализма, Вертов сам вообще ничего не придумывал. В искусстве решительно наступала эпоха ломки канонических жанровых границ и создания новых жанров на стыке старых, в их единстве, взаимопроникновении.
Но эту полифонию средств и жанров придумывал не Вертов или какой-то другой художник. Их придумывала жизнь, ее динамика, разнообразие каналов, по которым в двадцатом веке стала приходить к человеку информация: плакат и поэма, газетная сводка и документальный киножурнал, кумачовый лозунг и листовка на стене, правительственный декрет и новая песня, площадное театральное действо и статьи, доклады Ленина. Все это одновременно входило в сознание, которое училось перерабатывать разнородные (по существу и по форме) сообщения в систему, обобщение, вывод.
Кино родилось накануне двадцатого века не потому, что технический прогресс позволил наконец удовлетворить древнюю мечту человека о конкретно зримом, достаточно точном отражении живой действительности.
Рождение кино, несомненно, было связано с тем, что для массового сознания в новой исторической эпохе огромное значение приобретали монтажные формы мышления – не столько последовательное чередование событий, сколько их совокупность.
Но совокупность разнородных фактов, требующих осмысления, по-рождала и совокупность разнородных чувств. В старые, добрые времена человеческое мышление преимущественно обходилось более или менее четкими отграничениями между эпосом, лирикой и драмой. В формах мышления новейшего времени неиссякаемый напор событий, с одной стороны, требовал эпического спокойствия в их обдумывании, одновременно вызывая поток сложных и бурных лирических переживаний, как правило, пронизанных к тому же острым драматизмом.
До того, как войти в произведения искусства, полифония средств мышления вошла в обыденное сознание.
Жанры искусства творит время, формы и способы человеческого мышления и чувствования, свойственные данной эпохе.
Истинные художники не выдумывают жанры, а открывают их. Они как бы сопрягают жанровые формы своих произведений с существующими (или нарождающимися) формами мышления широких масс. Величие же подлинных художников состоит лишь в том, что они угадывают существование новых форм мышления порой раньше, чем они осознаются самим массовым сознанием. Люди уже думают (или начинают думать) по-новому, но еще не знают об этом и цепляются за старое.
Печать сообщала, что один из представителей конторы проката заявил по поводу «Человека с киноаппаратом»:
– Вертов делает то, что будет понятно зрителю через пятьдесят лет. Так пусть он и начинает делать свои картины через пятьдесят лет.
Но поскольку Вертов не собирался откладывать работу над своими картинами на срок, предлагаемый прокатом, то прокат решил отложить выпуск «Человека с киноаппаратом» и, судя по всему, примерно на тот же срок – лет эдак на пятьдесят.
В марте 1928 года проходило Всесоюзное партийное совещание по кинематографии, на нем резко критиковалась политика проката, его коммерческий уклон – средний доход от западных боевиков был приблизительно на одну треть выше, чем от отечественного производства.
Пресса, после предварительных просмотров и первых диспутов разделившаяся в оценке «Человека с киноаппаратом», была довольно единодушна в том, что фильм должен выйти на экран и встретиться с широким зрителем.
ЗРАЧКИ АФИШ
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Вертов принадлежит к числу крупнейших новаторов не только советского, но и мирового кино…
Но есть ли у нас кинорежиссер, картины которого были бы так мало известны широким массам советского зрителя?
Надо дать широкий экран в лучших кинотеатрах «Человеку с киноаппаратом».
«Веч. Москва», 1929, 25 января
Насколько нам известно, до сих пор для Москвы не заказана еще ни одна копия этой картины, законченной производством в ноябре.
«Кино-газета», 1929, 19 февраля
Кто может сказать, кто решится утверждать, что фильмы Вертова лишены социальной значимости, что они непонятны, недоступны и т. д.? Кого спрашивали? Где были анкеты? В каких районах? В каких предместьях?
Дорогу Дзиге Вертову!
«Веч. Киев», 1929, 9 марта
Дело Вертова в особенности ярко рисует отсталость и дряхлость проката. В прокате укрепилась дореволюционная психология мелкого хозяйчика, не понимающего, что убытки на Вертове – это прибыль на его подражателях, что без Вертова мы зачахнем.
«Кино и Культура», 1929, № 4


Письмо в редакцию.
Разрешите вместо ответа на бесчисленные запросы о судьбе «Человека с киноаппаратом» довести до сведения редакций, приветствовавших появление фильма «Человек с киноаппаратом», ОДСК, АРРК, членов клуба ЦК и ЦКК, до сведения всех товарищей, обсуждавших фильму на многочисленных диспутах в Москве и на Украине, что фильма «Человек с киноаппаратом», выпущенная производством в ноябре прошлого года, до сих пор (вот уже 5-й месяц) никак не может пробиться на первые экраны Москвы и Ленинграда, маринуется и бойкотируется всеми доступными прокату средствами.
…Вы, товарищи, спрашиваете, когда в театрах пойдет фильма «Человек с киноаппаратом»? Очевидно, тогда, когда мнение общественности и печати будет значить больше, чем мнение людей от проката, увлеченных «Шестью девушками, которые за монастырской стеной».
Москва, 12 марта 1929 г. Дзига Вертов «Кино-газета», 1929, 19 марта
Кто кого?.. Советский художник или прокатчик?.. Неужели отдадим в жертву вкусам наших прокатчиков и Д. Вертова?
«Веч. Москва», 1929, 26 марта
Необходимо оказать всяческое давление общественности, чтобы прокат не думал за зрителей, а предоставил бы именно зрителям решать вопрос, удачен ли эксперимент или нет. Необходимо, чтобы «Человек с киноаппаратом» был широко показан на советском экране.
«Правда», 1929, 23 марта
Несмотря на регулярные запросы и реплики в газетах, несмотря на знаменитую карикатуру художника В. Нинемяги «Вход человека с киноаппаратом воспрещен» (прокатчик, отгородившись массивным столом, жестом просит понурого, сильно смахивающего на Вертова человека с камерой под мышкой покинуть, – говоря канцелярским языком, – помещение), несмотря на проведенное 19 марта в редакции «Кино-газеты» специальное совещание представителей московской печати, кипопроизводственников, режиссеров, критиков, работников московского отделения ВУФКУ и Моссовкино, где обсуждался вопрос о необходимости массового показа фильма и была принята резолюция с требованием пустить картину по московским кинотеатрам не позже 2 апреля, прокат оставался если не глух, то нем.
Второго апреля картина не была выпущена, своей немотой прокат подтверждал, что срока в пятьдесят лет готов держаться.
И тогда газета «Правда» в течение недели стала ежедневно помещать без всякого комментария крупно отпечатанные и заключенные в жирные квадраты объявления: «Требуйте ответа! Когда Москва увидит первый в СССР фильм без слов „Человек с киноаппаратом“?» (31 марта). «Отвечайте, где „Человек с киноаппаратом“?» «Первый фильм в СССР без слов?» (2 апреля, 1 апреля был понедельник, газета в этот день не выходила), «Не играйте на нервах! Где же первый в СССР фильм без слов „Человек с киноаппаратом“?» (3 апреля), «2 500 000 москвичей теряют терпение: где „Человек с киноаппаратом“, первый фильм в СССР без слов?» (4 апреля).
Аналогичные объявления в те же дни печатали «Известия» и «Вечерняя Москва».
На этот раз прокат дрогнул, 5 апреля «Правда» опубликовала новый квадрат: «Спокойно! Завтра сообщим ГДЕ и КОГДА „Человек с киноаппаратом“, первый в СССР фильм без слов». На другой день: «Всем, Всем, Всем!!! ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ. „Человек с киноаппаратом“. Первый фильм в СССР без слов. Автор Дзига Вертов. Со вторника, 9 апреля, в крупнейших кинотеатрах Москвы. Следите!» На следующий день, 7 апреля: «Со вторника, 9-го апреля. Премьера. Первый фильм в СССР без слов. „Человек с киноаппаратом“. Автор-руководитель Дзига Вертов. Главный оператор М. Кауфман. Ассистент по монтажу Е. Свилова. Производство ВУФКУ. В кино: „Эрмитаж“, „Тверская, 46“. Удивительные приключения киночеловека: на земле, на воде, под землей и в воздухе. Впервые – превращение киночеловека из великана в лилипута и наоборот. Кино-Гулливер. Приключения под поездом. Случай с извозчиком. Остановка жизни. Люди в воздухе. Застывшая лошадь. Киновоскрешение людей и животных. Человек в опасности. Трамвай над зрительным залом… На помощь! Новая тревога. Грохот поездов. Взрыв времени. Что случилось с Театральной площадью? Взбунтовавшийся маятник. Погоня за временем. До 1000 километров в час. До 15 минут в минуту». А еще через день, 9 апреля (8 апреля был понедельник, газета не выходила): «Сегодня, 9-го апреля, премьера…»
Правда, уже 18 апреля «Вечерняя Москва» писала, что, несмотря на очевидный успех, фильм спят с показа. Успех подтверждала «Кино-газета» (23 апреля): по «Эрмитажу» доход от проката лепты был выше среднего (более 4000 рублей), по кинотеатру «Тверская, 46» – средний (7000 рублей). «Человек с киноаппаратом» только начал набирать зрителя, по тут же был вынужден уступить место фильму «Бабушкин внучек» с Гарольдом Ллойдом. Статья в «Вечерней Москве» так и называлась: «Для прекрасных глаз Гарольда Ллойда. Итоги одного саботажа».
Но дело было сделано: фильм вышел на экраны, пошел по стране.
И постепенно дошел до самых ее окраин.
В конце 1930 года Вертов получил письмо, подписанное И. Лихошерстом и начинавшееся так: «Я – простой пионер – работник, работаю, можно сказать, в самой глуши Союза, на Дальнем Востоке, на конечной станции Сучанской ветки – Кангаузе». Автор письма сообщал, что он такой же энтузиаст, как и все комсомольцы, возлагает на пятилетку большие надежды, а недавно ездил с товарищем во Владивосток посмотреть «Человека с киноаппаратом». «Картина произвела на меня огромное впечатление. Кровь в жилах так и шумела, хотелось двигаться, работать… Я не знаю достоверно, коммунист ли Вы или нет, но судя по Вашим работам, я думаю, что обращаюсь к коммунисту…».
Слова «судя по Вашим работам» в машинописной копии письма, которую Вертов бережно хранил всю жизнь, подчеркнуты карандашом и дана сноска: «подчеркнуто мною. – Д. В.».
Вертов не был коммунистом, но, как писал сам, беспартийным себя не считал, хотя и не имел партбилета. Спустя четыре года своим партбилетом он назовет «Три песни о Ленине».








