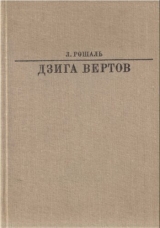
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Именем Вертова пестрела пресса, далеко не только кинематографическая. Многие издания украшали свои страницы кадрами из хроник, снятых киноками, рядом с текстами, где киноков вдохновенно поносили.
Высокая (иногда сверхвысокая) температура споров во многом предопределялась пылом собственных вертовских выступлений. Тон, с которым Вертов завязал спор, меньше всего предполагал любезный обмен мнениями в академической тиши.
Резкости в вертовскую сторону, насмешки, вышучивание, снисходительная ирония, возмущенное негодование скрещивались с точками зрения иного рода – в защиту киноков.
В поисках новых дорог Вертов не был одиноким путником, брошенным на произвол судьбы, каким оказался в эти же годы, например, выдающийся американский документалист Роберт Флаэрти – автор знаменитого фильма «Нанук» о жизни эскимосской семьи.
В борьбе за перестройку киномышления Вертов постепенно обретал единомышленников.
Его поддержал Алексей Ган. В своей поддержке Ган нередко исходил из неточных, путаных оснований (это объяснялось ограниченностью представляемых им позиций конструктивизма), что уже само по себе давало повод для полемики. В то же время Ган понял и поддержал важнейшую установку киноков на выявление и фиксацию фактов нового быта.
Чуть позже киноков начнет поддерживать окружение Маяковского, лефовцы.
На страницах «Известий» встанет (поначалу особенно твердо) на защиту вертовских идей и фильмов молодой, по уже известный критик Хрисанф Херсонский (иногда подписывавшийся «X. X.»).
И сразу же возьмет линию принципиальной поддержки Вертова «Правда».
Газета не только публиковала рецензии на вертовские ленты, но периодически печатала его статьи. В них Вертов не ограничивался разговором об общественно-социальном значении документальной кинохроники. Он касался самых кардинальных вопросов теории. Поставив в первой же статье, опубликованной 15 июля 1923 года под названием «Новое течение в кинематографии», вопрос: «Что нужно?», он без всяких обиняков отвечал: «Вместо музыки, живописи, театра, кинематографии и прочих кастрированных излияний на первое время: 1. Радио-Ухо – монтажное „слышу!“ 2. Кино-Глаз – монтажное „вижу!“» Утверждая, что пять лет революции прошли для русской кинематографии даром, поскольку она по-прежнему ориентируется на допотопную «психодраму в 6 частях», построенную по старому рецепту – литературный скелет плюс киноиллюстрации, Вертов выдвигал иную задачу: «Переворот в зрении, следовательно – и в общем восприятии мира человеком».
Поддерживая Вертова, «Правда» никогда не брала его безоговорочно под защиту.
Газету не смущали ни резкость тона, ни полемические крайности вертовской позиции. Но это не значит, что тон и крайности ее устраивали. Первую статью Вертова предваряло короткое вступление: «Помещаем (с сохранением стиля) заметку тов. Вертова с целью ознакомить наших читателей с новым течением в области кинематографии и вызвать обмен мнений по этому вопросу со стороны т.т., работающих в кино».
Вступление давало попять, что редакция считает заметку заслуживающей пристального внимания, несмотря на все неожиданности стиля и крайности оценок.
«Правда» гораздо раньше многих других подчеркивала, что крайности, какими положено, находятся на краях вертовской позиции. А ее сердцевину составляет нечто более существенное, например, вот это: переворот в зрении, способствующий перевороту в общем восприятии человеком мира.
Революция в искусстве не отделялась в исходных намерениях Вертова от целей социальной революции – этого «Правда» не могла не оценить, определяя на годы вперед свое отношение к художнику.
Оно отличалось от отношения к Вертову многих яростных полемистов не деталями, а существом.
А. Февральский в статье, опубликованной в «Правде» 19 июля 1924 года, отмечая однобокость и нетерпимость теории Вертова, одновременно солидаризировался со многими его идеями и горячо поддерживал его практику. «Правда» откровенно говорила о нетерпимых теоретических крайностях, но при этом она всегда проявляла предельную терпимость к экспериментам Вертова, твердо считая, что поиски ведутся на пути к созданию действительно пролетарской кинематографии.
Полемисты тоже критиковали (справедливо) крайности. Но, в отличие от «Правды», им казалось, что крайности и есть сердцевина его позиции, а все остальное – несущественные частности. Это и приводило в ярость, а она, как известно, советчик малограмотный. С ее помощью обоснованная нетерпимость к крайностям легко переходила в нетерпимость ко всему.
Ярость как таковая Вертова (во всяком случае, в молодые годы) не слишком беспокоила.
Но его беспокоило непонимание – не столько теоретических идей, сколько прежде всего практики.
Он хотел в этом разобраться, найти причины.
Вертов задумался.
И в конце концов пришел к выводу, что при всех изъянах «Кино-Правды» в непонимании ее он в общем и целом не виноват.
Установить это ему было необходимо: бессмысленно идти вперед с грузом вины; если груз есть, от него следует немедленно освободиться.
Вертов знал и другое: публика виноватой в общем и целом тоже не бывает. Она никогда не заполняет кинозалы с сознательным намерением не понять то, что должна увидеть, наоборот, она заполняет их обычно с прямо противоположным намерением.
Значит, для затрудненного в ряде случаев восприятия «Кино-Правды» существует какая-то объективная причина, лежащая вне его вины и вне ответственности публики.
Без всякой ярости, спокойно, с единственной целью достичь самого широкого понимания Вертов искал причину, пока сам не поставил диагноз.
«Я не сразу учел, что мои ругатели, воспитанные на литературе, не могут в силу привычки обойтись без литературной связи между сюжетами».
Несвязность сюжетов, их внутренняя неосмысленность – еще со времен старых журналов того же «Патэ-журнала» – была привычной, а потому попятной. В сознании зрителя она давно сложилась в единственно возможную форму существования журнального номера. Но стоило между разрозненными фактами установить действительные внутренние связи, причем установить не столько словесно, сколько зрительно, как начинало казаться в силу сложившихся стереотипов, что композиционно разрозненное представление о мире является более ясным и верным, чем сочлененное, синтезированное.
Самые интенсивные ругатели под свое непонимание стали подводить теоретическую базу. Послышались первые голоса, что киноки отступают от документа: сцепляя воедино различные по времени и месту факты, монтажно создают некую новую кинореальность, неадекватную реальности жизненной.
Одним из поводов послужил эпизод похорон из «Октябрьской Кино-Правды», особенно после того, как его описал сам Вертов в манифесте «Киноки. Переворот»: «…опускают в могилу гробы народных героев (снято в Астрахани в 1918 г.), засыпают могилу (Кронштадт, 1921 г.), салют пушек (Петроград, 1920 г.), вечная память, снимают шапки (Москва, 1922 г.)».
Разные события, а поданы как одно – разве это документальное кино, разве хроника?
Но Вертов уже тогда понимал: документальное кино не есть только хроника событий, а история времени не исчерпывается перечислением дат.
Вертов не сообщал о похоронах участников таких-то событий в таком-то городе такого-то числа.
Он говорил о похоронах Героев Революции, погибших на разных участках борьбы, их хоронил не Кронштадт, не Астрахань, не Петроград и не Москва.
Он хотел сказать, что своих героев хоронила – страна.
Тематически синтезируя факты, Вертов устремлен был к подлинной патетике.
Зрителю он доверял, справедливо считая, что по самому облику запечатленного зритель установит: факты – разные. Они не утрачивали на экране своей достоверной конкретности, не вводили в заблуждение. Но слитые вместе, разные по времени и географии, однако единые по теме, они поднимались до высот трагического.
Установив, что результаты его поисков на данном этапе части публики непонятны из-за того, что новы, Вертов не только не стал от новизны избавляться, а, наоборот, с еще большей настойчивостью принялся следовать избранным принципам целостного постижения мира.
Это не было твердолобым упрямством.
Вертов понимал, что сумеет вступить в безоговорочные контакты со зрителями тогда, когда в публике начнет крепнуть ощущение не столько новизны его методов, сколько их естественности.
А для этого публику надо было к ним приучить и самому неотступно продолжать поиски.
Даже непонятные (но верные в основе) монтажные сцепления, сложные смысловые ассоциации, раздражая непонимающих, тем не менее западали в их головы, начиная подтачивать, разрушать позиции, захваченные привычками, одновременно помогая самому Вертову находить путь к сложной простоте.
Он не стремился к новизне ради обязательного удивления зрителя. Но его не оставляла потребность постоянно решать в искусстве принципиально новые задачи.
В номерах «Кино-Правды», выпущенных после четырнадцатой, осторожность, оглядка и робость в овладении единством анализа и синтеза фактов сменяются все большей уверенностью.
И вот: еще только начинали сшибаться мнения по поводу девятнадцатой «Кино-Правды», а Вертов констатирует: на выпущенный полтора года назад (декабрь 1922 года) четырнадцатый номер, из-за которого группа киноков чуть не прекратила свое существование, теперь поступают повторные заказы. Он также констатирует, что экземпляры всех предшествующих выпусков оказались к тому времени настолько затрепанными на бесчисленных показах, что теперь их уже невозможно посмотреть.
По разным причинам не все удавалось в частностях.
Но не было сомнений в истинности магистрального движения.
Сомнений в истинности магистрального движения у Вертова не было не только при создании журнальных номеров, но первого большого фильма «Кино-Глаз» («Жизнь врасплох»), выпущенного параллельно с «Кино-Правдами» в 1924 году.
Развивая найденное в журналах на гораздо большем метражном пространстве и одновременно еще раз проверяя себя, Вертов ставил в фильме сразу множество задач.
Прежде всего он хотел реализовать на деле теоретически провозглашенный им тезис о неизмеримо больших возможностях Кино-Глаза по сравнению с обычным человеческим зрением.
Чтобы открыть скрытое, киноки должны были быть постоянно начеку и успевать вовремя.
Для съемок «врасплох» часто использовался специальный автомобиль с камерой и постоянно дежурившим оператором, он немедленно выезжал по вызову кинонаблюдателя.
Приехав со съемок из подмосковной деревни на один из московских вокзалов в шесть утра, киноки не разбежались по домам досыпать.
Увидев, как из вагона вывели слона, предназначенного для зоосада, они тут же «расчехлили» камеру и отправились вслед за неторопливым гигантом по ранним, только просыпающимся городским улицам (в фильме кадр прогуливающегося слона сопровождался лаконичной надписью – «350 пудов»).
Исходя из поставленных задач, въедливая камера Кауфмана искала не собственно факты, а внутренние мотивы разнообразных жизненных проявлений. Киноки сняли двух пионеров по прозвищу Цыганенок и Копчушка, с блокнотами в руках они обследовали рынок, проходя сквозь строй торговых рядов, а камера прочитала в провожавших их глазах мясников насмешку, презрение, подавляемое беспокойство.
Фиксируя быт, Кино-Глаз вскрывал его противоречия.
Камера спускалась на «дно жизни»: беспризорники, воришка-кокаинист, убитый служащий пивной Моссельпрома, болезни – наследие старого – туберкулез, сумасшествие (один не может избавиться от галлюцинации погрома, другому мерещится полицеймейстер), сутолока Сухаревки, Ермаковка, валютчики и налетчики, «темное дело»…
А рядом – другая жизнь, иной мир: пионерский клуб, пионерский лагерь – его строят московские пионеры вместе с сельскими (кадры, оставшиеся от монтажа этих эпизодов, вошли в «Пионерскую Кино-Правду»), пионеры участвуют в крестьянских работах, а потом весело брызгаются в реке и прыгают в воду с вышки, открытие лагеря и подъем пионерского флага.
Рыночной стихии противостоит кооперативная торговля, Цыганенок и Копчушка, обследовав цены, вывешивают плакат с призывом вступать в кооператив.
Идет борьба с туберкулезом, пивную Моссельпрома с ее хмельной монотонной гулянкой, с усталой гармонью обходят пионеры, собирающие в металлические кружки пожертвования на борьбу с болезнями и предъявляющие пьяницам «наш ультиматум».
Многим вещам Кино-глаз зрительно возвращал изначальность. Куски мяса на прилавках, проходя в обратной последовательности все стадии, превращались в тушу, затем в ожившего быка, бык попадал из предубойной камеры в вагоны, а оттуда опять в стадо.
То же происходило с хлебными караваями, они превращались в тесто, потом в муку, потом в колосящееся поле.
Взгляд Кино-Глаза был пытливо-сосредоточенным, по никогда не становился насупленно-скучным.
С каждым сделанным шагом он все больше ощущал свои возможности и, как молодой крепыш, наливающийся богатырскими соками, мог себе позволить от избытка силушки пошалить, повольничать.
Задорно, но неумело и угловато ребятня прыгала в воду – тут же возник кадр настоящих спортсменов, они совершали полеты с настоящей вышки, а надпись пояснила мимоходом: «Кино-Глаз показывает, как надо прыгать».
В другом эпизоде трамвай проходил по Тверской улице, встык шла надпись: «То же при другом положении киноаппарата» – и Тверская улица вместе с трамваем непринужденно, как бы между делом, перевернулась и легла на бок.
Сил – хватало; порой неясно еще было, куда их деть, а поиграть хотелось.
При стечении публики силачи издавна любят показать, как умеют переламывать медные пятаки, гнуть подковы. Смысла тут немного, а силу видать.
Народ к сильным относился всегда уважительно, но и посмеивался: «Сила есть – ума не надо».
К Вертову и кинокам насмешка непричастна, они хорошо знали, что их сила – ум.
Сила мысли, а не сила зрения.
Или сила зрения, пронизанная силой мысли.
Кино-Глаз не ради Кино-Глаза, а ради кино правды.
Одной лишь силой зрения они не прочь были иногда поиграть, но на периферии ленты – действительно, мимоходом и между делом.
Это проявление сил киноглазовского зрения придавало ленте дополнительное и своеобразное обаяние, но не заслоняло исходного стремления киноков: не просто показать в острозрелищной форме факты, а зрительно нащупать между ними скрытые тематические связи.
Во «Временной инструкции кружкам Кино-Глаза», опубликованной в составе большой теоретической статьи «Кино-Глаз» (сборник Пролеткульта «На путях искусства»), Вертов перечислял темы, по которым шел монтаж ленты: 1. «Новое» и «старое». 2. Дети и взрослые. 3. Кооперация и рынок. 4. Город и деревня. 5. Тема хлеба. 6. Тема мяса и 7. Большая тема: самогон – карты – пиво – «темное дело»; «Ермаковка» – кокаин – туберкулез – сумасшествие – смерть – «тема, которую я затрудняюсь назвать одним словом, но которую я здесь противопоставляю темам здоровья и бодрости».
Во время съемок и после выхода картины широко сообщалось, что она сделана без сценария. Вместе с подзаголовком «Жизнь врасплох» это подбрасывало хороший повод для обвинений в бесплановости осуществляемых киноками работ.
Не принимая обвинений, Вертов объяснял: киноки работают без сценария только потому, что хроника не может предписать жизни жить по сценарию литератора. Хроника может наблюдать жизнь как она есть и обязана потом делать выводы из наблюдений. «Киноки на основании киноданных обследования организуют киновещь», они идут к ней от материала (а не наоборот, от киновещи к материалу).
– Значит ли это, что мы работаем наобум, без мысли и без плана? – спрашивал Вертов.
И тут же отвечал:
– Ничего подобного.
В другой раз на многие упреки подобного рода он дал исчерпывающий «ответ-реплику» в стихах:
Без сценария! – таково обвинение.
В плену, мол, у фактов
и фактиков.
А мы – живое опровержение —
От созерцания к обобщению,
От обобщения к практике.
Ставя в фильме множество профессиональных задач, Вертов решал их в тесном контакте со множеством задач идейно-тематических.
Из этого несомненного достоинства картины неожиданно выросли и ее недостатки.
Сила фильма была в том, что идейно-тематические задачи ставились.
А слабость – в том, что их оказалось множество.
Каждая из тем, перечисленных Вертовым, имела права на самостоятельность.
Они могли находиться в ленте и все вместе, но только в том случае, если бы одна из них впитывала в себя остальные, была избрана ведущей.
Но все темы оказались в картине равными по значению.
Они набегали одна на другую, терялись, не завершаясь, не прочерчиваясь в обилии прекрасно снятого материала или прочерчиваясь не всегда уловимым пунктиром, слишком зыбким намеком, вроде он и был, а может быть, его и не было.
Вскоре после выхода картины в двух номерах журнала «Жизнь искусства» (44-м и 45-м) за 1924 год появилась умная, задиристая (не без отдельных крайностей и перегибов) статья В. Блюма «Против „театра дураков“ – за кино»: не только «театру» на экране, но и обычной хронике противопоставлялись ленты киноков, в особенности «Кино-Глаз».
Автор сравнивал кадр застывшей жены убитого моссельпромщика с изваянием, достойным резца великого художника, а пионеров, проходящих сквозь сутолоку нэпмановского рынка, с «двенадцатью» Блока.
В одновременно напечатанной в «Кино-газете» статье редактор газеты Владимир Ерофеев, отмечая ряд блестяще снятых и смонтированных кусков, писал, что перед зрителем вместо демонстрации быта предстает «кинематографическая кунсткамера» – слон на улицах Москвы, задохнувшийся сторож, Канатчикова дача.
Две точки зрения взаимно исключали друг друга.
Подобная ситуация в оценке вертовских фильмов и раньше и потом не была редкостью. Но в данном случае это не было связано с искаженным пониманием лепты одной из сторон: для разных толкований она сама давала повод. Некоторые остро схваченные «врасплох» жизненные мгновения могли восприниматься в картине и как «кунштюки» – на уровне случаев, бытовых происшествий, а не фактов бытия, находящихся на пересечении исторических эпох.
Могло возникнуть ощущение, что факты один за другим вытряхиваются на экран, как предметы из рукава уличного китайского фокусника Чан Ги-уана, он тоже появлялся в фильме – в каменном мешке двора показывал свои трюки и, судя по надписи, говорил, вытягивая глаза и рот в совсем тоненькие линии: «Смотли, лука цел»…
Спор продолжался.
Блюм спрашивал: разве «врасплох» добытый эпизод, где недоуменный взгляд лавочника провожал маленького, юркого, но такого настойчивого мальчика в пионерском галстуке и с записной книжкой в руке, «не кричит о будущем торжестве коммунизма гораздо громче и убедительнее, чем казенные и обязательные апофеозы в финалах агитационных фильм?!»
Вопрос не казался чересчур риторическим, Блюм в своем пафосе был прав.
«После просмотра этой картины становится совершенно очевидным, что озорному Кино-Глазу Вертова и его умелым рукам недостает руководящей коммунистической головы» – приходил к совершенно противоположному выводу Ерофеев.
И если был не прав, так только в одном: просчеты картин возникли не от отсутствия идей в голове Вертова, а от их переизбытка.
Некоторые рецензенты пытались не только оценить картину, они давали рекомендации, как правильнее было бы строить ее.
Хрисанф Херсонский в статье, помещенной «Известиями» 15 октября, через день после общественного просмотра картины в 1-ом Госкинотеатре, поддерживая ряд эпизодов «Кино-Глаза» и саму идею фиксации нового быта, тоже отмечал, что в ленте идеология борется с кунсткамерой поверхностных эффектов. Он особо выделил пионерскую линию, считая все остальное пристегнутым к ней – мол, правильнее было бы отстегнуть и отбросить.
В течение последующих десятилетий «Кино-Глаз» часто рассматривался с позиций уверенного противопоставления пионерской линии иным линиям фильма (в чем, кроме всего прочего, выражалось обоснованное желание критики какую-то линию картины выделить в качестве главной).
Но мысль критики была беднее вертовского замысла.
Он меньше всего хотел, чтобы «Кино-Глаз» стал расширенным вариантом «Пионерской Кино-Правды».
Задача выдвигалась более сложная.
Вскоре после окончания работы над фильмом Вертов говорил, что в центре внимания многих его «Кино-Правд» ставятся вопросы взаимоотношения города и деревни и что так же начала строиться первая серия «Кино-Глаза».
По авторскому замыслу, пионерская линия должна была войти с другими линиями в сложное взаимодействие, отражающее сложности реальной жизни, и не носить самостоятельного характера, а выливаться в животрепещущую тему времени – смычку города и деревни.
Эту тему пионерская линия олицетворяла с достаточной полнотой и ясностью.
Но поскольку тема смычки не пронзала лепту насквозь, а лишь стояла в одном ряду с другими темами (в вертовском перечислении тем – под четвертым номером), то пионерская линия не столько входила во взаимодействие с остальными линиями (а они в свою очередь олицетворяли другие равнозначные темы), сколько существовала с ними рядом.
Взаимное проникновение достигалось далеко не всегда.
Вертов это понял очень быстро.
Вскоре после выхода картины в прессе появилось сообщение о заседании киноков: был заслушан двухчасовой доклад Вертова о первой серии «Кино-Глаза», отмечены недостатки этой серии и выявлены их причины.
В позже опубликованной статье «Кино-Глаз» Вертов точно определял просчеты фильма – слишком широкий замах, слишком большое количество скрещенных тем за счет беглости рассмотрения каждой из них.
Он объяснял: такой замах отчасти диктовался намерением произвести по возможности широкую разведку, чтобы углубляться в жизнь в дальнейших сериях (их должно было быть шесть) на основании этой разведки. С другой стороны, такой подход был отчасти вынужденным, так как доведение какой-нибудь из тем до конца требовало больших временных и денежных затрат. Для углубленного освоения действительности не хватало и техники, в распоряжении киноков был один съемочный аппарат, Вертов рассчитывал, что в следующих сериях удастся организовать разведку и наблюдение несколькими камерами.
Вертов в своих объяснениях не оправдывался, а констатировал реальные факты.
Во время съемок фильма он подал (30 июля 1924 года) заведующему конторой кинопроизводства Госкино заявление, в нем писал: условия работы над «Кино-Глазом» крайне тяжелые, не получено и четверти денег, предназначенных по смете, а о технических приспособлениях и говорить нечего – из обещанного не получено ничего, поэтому наблюдение за фиксируемыми местами и людьми не может быть планомерным. Вертов заканчивал заявление словами о том, что считает себя обязанным поставить свою ответственность за судьбу картины в зависимость от получения денежных средств (хотя бы еще 1/5 части по смете) в течение двадцати четырех часов (группа находилась на съемках в подмосковной деревне Павловской).
К заявке на фильм, поданной руководству Госкино еще задолго до съемок, Вертов приложил в свое время списки действующих лиц («вместо актеров») и мест действия («вместо ателье»). Среди действующих лиц назывались кинооператор, почтальон, буржуй, агент уголовного розыска, ученик, торговка рыбой, молочница, отряд пионеров, пожарная команда, скорая помощь, велосипедист, извозчик, спекулянт, китаец-фокусник, старьевщик, дама с собачкой. Местами действий значились пионерский лагерь, поезд, пароход, дом инвалидов, ночлежка, кладбище, хлебопекарня, поле, деревня, комната рабочего, родильный дом, аэродром, спортивная площадка, бани, тюрьма и т. д.
Многое вертовская группа сняла точно в соответствии с планом.
Но многое еще предстояло снять в будущих сериях. Однако снято не было: Госкино посчитал это ненужным, и картина навсегда осталась в одной серии.
Через несколько лет Вертов скажет, что первая серия была попыткой дать стопроцентный Кино-Глаз, перескочив через годы. Взять действительность голыми руками оказалось не просто.
Трезво и открыто констатируя просчеты попытки, Вертов здраво оценивал и ее значение.
Картина обогатила киноков опытом, познакомила с трудностями, которые они не вполне одолели, по дала знание, как с ними справляться в дальнейшем, и предоставила широкой публике – при всех недостатках общего построения, зыбкости ряда связок – зрелище неповторимое, острое, достоверное во многих психологических деталях и основных социальных ощущениях.
Вертов называл фильм – «Кино-Глаз ощупью», «завязкой боя».
«Кино-Глаз на первой разведке» – такая надпись периодически возникала в картине.
Выступая 13 октября 1924 года перед первым общественным просмотром ленты, Вертов призывал зрителей понять это прежде всего и видеть в картине то, что в ней есть, не ища того, чего нет и быть не может:
– Вы разочаруетесь, если пришли сюда, чтобы увидеть развлекательную любовную историю. Вы разочаруетесь, если ждете захватывающего детектива, разочаруетесь и тогда, если вы думаете здесь увидеть какие-нибудь необыкновенные трюки и фокусы. Но если вы учтете, что то, что мы вам сейчас покажем, это только разведка ощупью одного киноаппарата, если вы примете во внимание, что это только первая серия, одна шестая часть первого пути Кино-Глаза, то и эти простые кусочки жизни, снятые как они есть, а не разыгранные, – дадут вам некоторое удовлетворение.
Непредубежденная публика, непредвзятая критика отнеслись с пониманием не только к картине, но и к замыслу.
Еще до выхода фильма, 19 июля 1924 года, «Правда» поместила статью «Кино-Глаз», где в лапидарной форме Вертов излагал принципы работы, ее главные цели.
Выступление сопровождалось статьей А. Февральского «Теория и практика тов. Вертова»: «Программа, намеченная тов. Вертовым, – задание огромного экспериментального значения. Показать жизнь как она есть – это значит агитировать за пролетарскую революцию, – вот основная и совершенно правильная мысль т. Вертова».
После общественного просмотра картины «Правда» напечатала 15 октября 1924 года рецензию Б. Гусмана: он говорил о ярких эпизодах, которые смотрятся с большим интересом, о теме борьбы молодого со старым, о впервые наглядно демонстрируемой в кино смычке города и деревни. В довольно резких словах Гусман тоже отмечал несвязанность эпизодов между собой, но не искал причину этого в идеологической незрелости киноков. По соседству с его рецензией «Правда» поместила заметку о диспуте после первого просмотра фильма, в ней сообщалось, что все рабочие, комсомольцы и пионеры, выступавшие в прениях, называли «Кино-Глаз» крупнейшим достижении советской кинематографии.
На страницах «Кино-недели» новую работу киноков решительно поддержал один из зачинателей и первых организаторов советской кинохроники Г. Болтянский.
Даже «Кино-газета» пришла наконец к мысли, что Вертов достоин не только поучающих выговоров и лихих фельетонов. Через несколько дней после опубликования рецензии Ерофеева (ее тон при всей критичности итогов и выводов не походил на тон прежних оценок вертовского творчества) газета напечатала интервью с руководителем группы киноков – «в целях информации читателей о течении, представляемом Д. Вертовым». Полностью освободиться от ядовитости газета была не в силах.
– Не можете ли вы простыми словами сказать о ваших задачах в кинематографии и в других областях? – спрашивала «Кино-газета», не упуская случая вставить шпильку даже в свой вопрос.
– Могу, – охотно отвечал Вертов, пропуская шпильку мимо ушей. – Мы никому не мешаем жить. Мы снимаем только факты и вводим их через экран в сознание трудящихся. Мы считаем, что разъяснить мир как он есть – и есть наша главная задача…
В коротком, как бы на ходу данном ответе стояло слово, выражавшее суть позиции с исчерпывающей полнотой; главной задачей Вертов считал не показывать, а разъяснять мир как он есть. Этим позиция Вертова отличалась от того, что нередко писали о нем и что ему приписывали.
В интервью был вопрос и о первой серии «Кино-Глаза». Вертов коротко повторил то, что говорил о фильме перед премьерой:
– Это осторожная разведка одного киноаппарата, главная задача которого не запутаться в жизненном хаосе и ориентироваться в той обстановке, в которую Кино-Глаз попал. Сделан один шаг – одна шестая пути.
В марте 1925 года в Париже открылась Всемирная выставка декоративных искусств. Советский павильон, выстроенный архитектором К. С. Мельниковым, пользовался огромной популярностью у посетителей. По сообщениям прессы, Родченко подготовил для павильона макет, рассказывающий о работе «Кино-Глаза», а сам фильм вошел в кинопрограмму, представленную СССР.
Советские газеты и журналы были заполнены фотографиями из «Кино-Глаза». Чаще других публиковались кадры эпизода подъема флага в день открытия пионерского лагеря.
Родченко выпустил знаменитый плакат: наверху огромный, широко распахнутый в мир глаз, а внизу – пионеры; задрав головы и щурясь от солнца, они следят за взвивающимся ввысь куском кумача.
Этот эпизод хорошо смотрелся, надолго оставаясь в зрительской памяти, хотя занимал в ленте всего семнадцать метров. Но эти семнадцать метров Вертов выстроил из пятидесяти трех коротких (иногда просто крохотных, до одной четвертой секунды на экране) моментом: кадрики взбегающего, словно язычок пламени, флага по длинному шесту (то «живьем», то тенью на траве) все время перебивались снятыми с разных точек лицами ребят. Провожая взглядами флаг, они поднимали головы все выше и выше.
Сцена не понравилась Эйзенштейну.
Она дала повод для еще одного теоретического спора с Вертовым, отголоски его погромыхивали на протяжении лет и десятилетий.
Во многих спорах Эйзенштейна с Вертовым неточности ряда оценок и выводов пересекаются с глубокими прозрениями и служат опорой (хотя бы от противного) для дальнейшей шлифовки плодотворных идей.
На этот раз выпад оказался поучительным только одним: лишним напоминанием, что жажда дополнительных аргументов в чрезмерном полемическом азарте способна опустить пелену даже на глаза гения.
При всей видимости правоты удар Сергея Михайловича оказался сокрушительным лишь для него самого.
В горячке схватки он не заметил и не оценил того, чего не мог не заметить и не оценить в более спокойной обстановке, хотя бы в перерыве между раундами, когда имеется возможность отдышаться и стряхнуть с лица пот, застилающий взор.
В статье, где вертовскому «Кино-Глазу» Эйзенштейн показал свой «Кинокулак», была довольно внушительная сноска. Эйзенштейн любил сноски, иногда они интересны не менее текстов. Доказывая в тексте, что Вертов, призывающий постоянно к динамичности, сам в своем творчестве статичен, Эйзенштейн в сноске ссылался на «взвитие флага над пионерским лагерем» в «Кино-Правде» («не помню в которой», писал он, спутав «Кино-Правду» с «Кино-Глазом», эту неточность в книге об Эйзенштейне повторил Шкловский).








