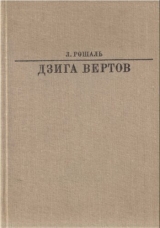
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
А сейчас, в годы обучения кинематографическому ремеслу и изучения кинематографического зрителя, позиция только закладывалась.
Но уже тогда вертовская установка (поддержанная зрительской массой) на факт, на хронику была безошибочной и совпадала со смыслом документа, определившего политику Советской власти в области кино.
Председатель СНК В. И. Ленин Управляющему делами Совнаркома Н. П. Горбунову из Горок по телефону:
Наркомпрос должен организовать наблюдение за всеми представлениями и систематизировать это дело… Для каждой программы кинопредставления должна быть установлена определенная пропорция:
а) увеселительные картины, специально для рекламы и для дохода (конечно, без похабщины и контрреволюции) и
б) под фирмой «из жизни народов всех стран» – картины специально пропагандистского содержания, как-то: колониальная политика Англии в Индии, работа Лиги Наций, голодающие Берлина и т. д. и т. д.
Директивы по киноделу (здесь приведена их часть) были продиктованы Н. П. Горбунову 17 января 1922 года; как раз примерно в это время Вертов задумывался над будущими путями кинематографа.
27 января Н. П. Горбунов передал директивы замнаркому по просвещению Е. А. Литкенсу для неукоснительного исполнения. Вскоре В. И. Ленин пригласил А. В. Луначарского, в беседе с ним повторил ранее высказанную мысль.
«Он еще раз подчеркнул, – вспоминал А. В. Луначарский, – необходимость установления определенной пропорции между увлекательными кинокартинами и научными. К несчастью, это и до сих пор очень слабо поставлено. Владимир Ильич сказал мне, что производство новых фильм, проникнутых коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники, что, по его мнению, время производства таких фильм, может быть, еще не пришло.
Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то не важно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа…» [4]4
Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. М., «Искусство», 1973, с. 163.
[Закрыть].
Впоследствии Вертов не раз будет ссылаться на «ленинскую пропорцию» кинопрограмм, отстаивая свою позицию защиты чести и достоинства документального кино.
Первые четыре года, прожитые Вертовым в кинематографе, были временем, когда смутные желания, неясные предположения стали приобретать реальные очертания.
Но чем больше он открывал для себя кинематограф, тем решительнее крепло ощущение: все, что он пока узнал о нем, это лишь крохотная часть еще неоткрытого.
Осуществление одного почти тут же требовало осуществления другого, к которому-то не известно было, с какой стороны подойти.
Так было и в эти годы и во все последующие.
Предшествующего опыта не существовало.
И, наверное, минуты, когда охватывало волнение от сознания неизбежности следующего шага, были счастливыми минутами его жизни.
Хотя сама жизнь была трудной, подчиненной суровым законам гражданской войны.
Невзгоды и лишения Вертов переживал вместе со страной.
Вместе с ней недоедал.
Как и другие, жил в нетопленых комнатах и работал в промерзших помещениях. Свой первый манифест «О разоружении театральной кинематографии» писал (в конце 1919 года) в комнате с разбитой форточкой, за столом, на котором вчера недопитый чай в стакане превратился в лед.
Он тяжело болел. В сохранившемся в вертовском архиве его коротком описании болезни она не названа, но, по некоторым другим сведениям, это, видимо, была болезнь по тому времени вполне ординарная – тиф.
Возникали трудности и другого рода.
Вертов ушел из ВФКО, и ушел, судя по его дневниковым записям, не по своей воле. Конкретный повод для увольнения остался туманным, но причина в общем и целом ясна – несложившиеся взаимоотношения с руководством.
Но что стоили все эти бытовые и служебные неурядицы в сравнении с минутами творческого прозрения?..
Заканчивалась гражданская война, и закономерным итогом ушедших лет для Вертова стал его большой фильм «История гражданской войны», выпущенный на рубеже двадцать первого – двадцать второго годов.
В первоначальном монтаже картина почти не сохранилась.
Но по некоторым восстановленным кускам, по монтажному описанию, оставленному Вертовым, можно понять, что это была, как и в свое время «Годовщина революции», наиболее полная сводка кино-документов о войне, снятых на фронте и в тылу и включавшихся в «Кинонеделю» и в различные киновыпуски, которые монтировал Вертов. Слово «история» в заголовке соответствовало, видимо, принципу построения фильма. Картина строилась как последовательно рассказанная история событий.
Совсем недавних, еще обжигающих, но уже отгремевших.
Страна вступала в новую эпоху.
Вступал в новый период своей творческой жизни и Дзига Вертов.
За эти годы им был накоплен определенный опыт, но он уже понимал: дорога, позвавшая его, предела не имеет.
Уверенность в этом росла во время фронтовых съемок, на агиткиносеансах, за монтажным столом, и снова – во фронтовых поездках, и снова – за монтажным столом.
Мысль о неисчерпаемых возможностях документального кино все больше становилась убеждением, возникшим из неясных предчувствий, впервые охвативших Вертова, когда он «гонял» на экране только что отснятый ролик и на белом полотне померкшего зала молодой человек в кожаной куртке медленно, то ли нехотя, то ли словно преодолевая скрытые от глаз преграды, всходил на верхушку грота, нерешительно переступал с ноги на ногу, потом неестественно долго парил в воздухе (и его волосы, разделенные четким пробором, слегка взлетали над висками), потом, коснувшись земли, еще долго покачивался, стараясь сохранить равновесие, а потом так же неестественно долго собирал на лице улыбку, сопроводив ее ироническим цирковым жестом «вуаля».
ГЛАВА ВТОРАЯ
Жгучи свободы глаза,
Пламя в сравнении – холод…
В. Хлебников
Превращение было стремительным.
Все происходило словно в сказке братьев Гримм. Добрая фея подарила маленькой девочке чудесный горшочек, стоило сказать: «Горшочек, вари», и он незамедлительно готовил вкусную горячую кашу, сколько захочешь.
На рубеже двадцать второго – двадцать третьего годов на Кузнецком мосту и в Столешниковом переулке, на Тверской и Петровке почерневшие, вроде бы навсегда омертвелые огромные зеркальные витрины старых магазинов одна за другой вдруг стали отмываться до сияющего блеска.
Казалось, только и надо было хорошенько отмыть стекла, чтобы из туманной глубины витрин тут же возникли элегантно одеревеневшие манекены: круто развернутый в плечах и узко собранный в талии парниша (канотье, упругая крахмальная манишка, идеально черный смокинг и штаны с широкими то белыми, то серыми полосами) и его до бесстыдства скромная девочка (платье, прильнувшее к гибкому телу, тоненькая шейка в объятиях серебристой чернобурки с хитро подмигивающим глазом на острой лисьей мордочке и такие невероятные туфельки, какие могут существовать лишь в самую изящную эпоху).
Взгляды этой пары, уверенно рассекающей жизнь, уносились к какому-то им одним ведомому горизонту, из чего с очевидностью следовало, что шагать они желают далеко вперед.
Но главное – было много, очень много еды.
За стеклами нежно потели окорока, пускали томную слезу сыры, лоснились балыки, предлагала себя икра как одного, так и другого цвета, а белые булочки, пирожные с взбитыми сливками, торты с кремовыми розочками, всевозможные восточные сладости («Засахаренные листья лотоса – ах ты, боже мой!») таяли во рту от одного лишь взгляда.
И надо всем этим пиршеством возникали новые и новые вывески с именами владельцев или названием артели пайщиков. Вывески, распространяясь по всей стране, обычно отличались пряным лаконизмом, исполненным собственного достоинства:
Крымски сталов
шашлик
чуберек
М. Эннанов
Был нэп.
В хронике, в киножурналах этого времени встречаются кадры: люди останавливаются у магазинных витрин, базарных рядов, торговых лотков.
А прямо встык или где-то рядом с этими кадрами может быть поставлен кадр с нищим на костылях.
Или с оборванным, голодным, немытым, нечесаным беспризорником, смачно сосущим подобранный на тротуаре окурок.
Или с женщиной, держащей на безвольно вытянутых руках завернутого в тряпье младенца – в иссохшей груди нет молока, чтобы покормить его.
Или с детьми, от которых, в сущности, не осталось ничего, кроме огромных, но уже ко всему безразличных глаз.
Кадры остановившихся у витрин людей волновали Вертова.
Они казались символичными.
В них был отзвук сложных противоречий времени.
Страна набиралась сил.
Но голодало Поволжье. Охватив многие губернии, голод поедал целые деревни.
Последствия интервенции и гражданской войны, дыша в затылок, мчались по пятам.
В вертовском архиве сохранился отрывок из его стихотворения «Рты у витрин». Оно написано во второй половине двадцать первого года. В нем есть не только своеобразный словесно-ритмический отбор. Оно по-своему передает остроту вертовских ощущений, внутреннюю напряженность переходного времени.
Поле
голо.
Тел
метелица.
Год
тельцем
в гроб
лег.
Го —
– лод
до —
– лог.
Горы
горя.
Город
радугой.
Горем
горю
городам
в упор.
Нэп! Твою – кафэ – катафалк,
Конфект и фиалок фиакр!
Детского крика – осколок в кадык!
Торты-то из горла вытащи!!
Рты у витрин.
Но Вертов не только писал стихи.
Третий номер журнала «Кино-Фот» за 1922 год сообщал: в мае по заданию МК РКП (б) была проведена кампания по борьбе с голодом, самое деятельное участие в кампании приняло Бюро кинопередвижек ВФКО, за проделанную работу руководителю Бюро Вертову Московским комитетом партии объявлена официальная благодарность.
Через несколько дней, 5 июня 1922 года, Вертов выпустит первый помер журнала «Кино-Правда». Его откроет надпись во весь экран: «Спасите голодающих детей!!!»
Вслед за надписью пойдут кадры детей, снятых на станции Мелекесс: истощенные ребята роются в помойке, рыдает, еле держась на ногах, ребенок. И снова – надпись, на этот раз не призыв, не клич: «Спасите!..», а житейски простая, но испепеляющая фраза: «Нет больше сил».
Не было сил у страдающих, гибнущих детей.
Не было сил у взрослых смотреть на их страдания и гибель.
Спасите!..
Крайняя заостренность вертовских ближайших художественных манифестов, статей, полемических выступлений, целый ряд сюжетно-тематических линий его ближайших фильмов во многом будут продиктованы чувством резкого неприятия мелкобуржуазной нэпманской идеологии.
Вынужденную в условиях нэпа необходимость шага назад для будущего генерального рывка Вертов трезво осознавал.
Со всей страстью Вертов отвергал не смысл повой политики, а тех приосанившихся манекенов, что с гибкой элегантностью одеревенели в истоме обывательского уюта.
Нэп еще только разворачивался, а Вертов уже всей кожей чувствовал, что наступают не простые времена для искусства, которому он начал отдавать всего себя без остатка.
Манекены становились обладателями далеко не копеечной мошны. Они будут платить, и хорошо платить, лишь бы заказывать музыку.
Конечно, определять заказ будут не только они.
Новоявленные толстосумы постоянно чувствовали шаткость свалившегося на них благополучия. К тому же государственная власть и партия не упускали случая напомнить, что нэп есть лишь временное отступление. А от этого заказывать музыку, не жалея затрат, хотелось еще больше и как можно скорее, чтобы не пропустить своего часа.
И, конечно же, музыка должна была быть только такой, которая помогала уйти от зыбкости (несмотря на хруст зажатых в кулаке купюр) повседневного бытия.
Документальный кинематограф, так грубо, так невежливо напоминавший им с фактами в руках об обыденной действительности, а главное – о набирающих силы, о неуклонно крепнущих ростках новой жизни, которая в конце концов неминуемо сметет их лихорадочное счастье, – на что им такой кинематограф?!
Они его освищут.
Пойдут на него в атаку.
Запугают прокатчиков своей непосещаемостью, а прокатчики далеко не всегда сумеют удержаться от желания выручить лишний рубль ценой уступок частнособственнической идеологии. Материальный доход всегда определить быстрее и гораздо проще, чем моральный ущерб.
Строгая самоотреченность и бескомпромиссная ясность позиций в эпоху гражданской войны не требовали программных деклараций.
Программа декларировалась участием в борьбе по ту или иную сторону линии фронта.
Вряд ли случайно, что вариант первого манифеста, написанного в девятнадцатом, был опубликован Вертовым в двадцать втором, положив начало его постоянным выступлениям в печати.
Кончилась война, пришел нэп, когда черты социальной многоукладности стали проявляться особенно выпукло.
Сама ситуация потребовала от Вертова в преддверии новых начинаний заявить о своих пристрастиях и намерениях.
Она также требовала решительно отмежеваться от всего того, что могло помешать. Не только лично ему, Вертову, но прежде всего развитию подлинно революционного кино.
Время ранних программных заявлений Вертов называл периодом, когда надо было заставить других слушать себя.
Это ему удалось.
Его услышали.
И еще как!..
Назвав свой первый манифест «МЫ», Вертов напечатал его в первом номере журнала «Кипо-Фот» за 1922 год.
Читатель журнала, наткнувшийся на манифест, оказывался с маху втянутым в кипящий водоворот восклицательных знаков, вразрядку набранных фраз, непривычных красных строк и таинственных словосочетаний, начиная с самого первого – киноки: «МЫ называем себя киноками!!!»
Что за киноки?
Откуда они свалились?
С какой крыши их сдуло и каким ветром принесло?
Толком ничего нельзя было попять.
Легко вообразить, что к концу чтения у ошарашенного читателя стекленели глаза. Многие слова сыпались на него, как удары.
Бесцеремонно цеплялись и приставали.
Дергали и бесили.
Они бесили не отсутствием смысла, а отсутствием здравого смысла.
Чем же еще можно было объяснить всесокрушающее желание несомненно обезумевших киноков смести с лица земли старую «кинематографию», которую они упоминали только в кавычках, а заодно и вообще все, что существовало до них?
Призывы к этому киноки начиняли словами, от которых стыла кровь и леденели конечности.
Мы объявляем старые кинокартины, романсистские, театрализованные и пр. – прокаженными.
Не подходите близко!
Не трогайте глазами!
Опасно для жизни!
Заразительно.
Другое программное выступление Вертова «Киноки. Переворот», напечатанное годом позже в журнале Маяковского «Леф», отличалось большим спокойствием, обстоятельностью в изложении позиций, что не мешало словам нового манифеста мгновенно вспыхивать факельным пламенем, едва возникала необходимость отмежеваться от игрового кино.
Вы ждете того, чего не будет и чего ждать не следует.
Приятельски предупреждаю: не прячьте страусами головы.
Подымите глаза,
Осмотритесь —
Вот!
Видно мне
и каждым детским глазенкам видно:
Вываливаются внутренности,
кишки переживаний
из живота кинематографии,
вспоротого рифом революции.
Вот они волочатся,
оставляя кровавый след на земле,
вздрагивающий от ужаса и отвращения.
Все кончено.
– Все кончено? – испуганно спрашивала девочка.
– Как бы не так! – успокаивал ее до крайности взбешенный парниша.
Нет-с и нет-с!!
Внутренностями, кишками там всякими нас не проймешь, кровавым следом не запугаешь.
Как это кончено, если томные страсти, томные поцелуи в кружке диафрагмы, томные руки, сплетенные объятиями, томное то да томное се с такой приятностью соответствуют томлению нашего духа?! Так тают, так тают в душе, будто засахаренные листья лотоса во рту, – ах ты, боже мой!
Ну, ладно, тебе не нравится – ну и скажи просто, по-человечески, как между людьми.
А то:
– Не трогайте глазами!
Каково?..
Разве глазами трогают? Ребенку известно: трогать можно только руками. А глазами смотрят, понимаешь, смотрят, черт тя дери!..
Хорошо еще нашелся веселый человек, критик и режиссер Анощенко, хоть объяснил, что такое киноки. Оказывается, вовсе не киноки, а «кинококки» – «современная разновидность бактерии футуризма…».
Тут нам все понятно. И про бактерии. И про футуризм. Как не знать? Маяковский же, тоже горлопан порядочный.
Ну и пусть они себе горлопанят.
А мы с тобой, Жоржик, вот что сделаем: надень-ка, ласковый мой, на свою брильянтиновую голову любимое канотье, я же, кыска твоя нежная, обовьюсь чернобурочкой, пойдем до Страстной, в «Ша Нуар», возьмем билеты на лучшие места, купим коробочку монпансье, уютно прижмемся друг к другу в темном зале и, набив рот разноцветными сладкими стекляшечками, уставимся на экран. Трогать глазами не будем, не дай бог, пусть трогают (или не трогают) те, кто об этом болтают. Будем глазами смотреть.
А в самые жуткие моменты я буду хватать твою взволнованно потеющую ладонь и горячо шептать тебе на ухо, сося ландриночку «Ноблес» фабрики «Большевик»:
– Посмотри, посмотри, Зорзик, как их муцают.
Леденцы «Ноблес» и фраза о «Зорзнке» взяты из заметки О. Брика в «Советском экране», автор негодовал против политики проката, который раскрыл любовно объятия навстречу нэпманскому зрителю. Заметка написана в 1925 году, но впервые «Зорзик» по-настоящему зачастил в «киношку» с 1922 года, как раз тогда, когда Вертов опубликовал манифест «МЫ».
Читатель манифеста приходил в себя долго.
А придя, долго хранил его в памяти. Некоторые из читателей припоминали Вертову первый манифест и десять, и двадцать, и двадцать пять лет спустя (а то и через десятилетия после его смерти).
Понемногу Вертов стал от него даже открещиваться.
В 1932 году он посчитает нужным напомнить, что это был не манифест, а всего лишь вариант манифеста, что он не стал точкой зрения киноков, назовет его «грехом молодости», правда, тут же подчеркнув, – на фронте почти ненационализированной, буржуазной игровой кинематографии. Позже Вертов не раз повторит: рассматривать все его последующее творчество только сквозь очки ранних манифестов неверно.
И он будет, конечно, нрав.
Но прав с одной оговоркой.
Вряд ли справедливо утверждение (даже если оно принадлежит самому Вертову), что манифест «МЫ» вообще не стал точкой зрения киноков. Он не стал их окончательной точкой зрения. В дальнейших выступлениях она расшифровывалась и постоянно углублялась, приобретала логическую ясность.
Но почти все основные линии, по которым в дальнейшем шлифовалась позиция киноков, сошлись в первом же манифесте.
Одни из них с самого начала провозвестнически устремлялись в будущее.
Другие требовали довольно-таки решительного очищения от шелухи поверхностных предсказаний.
Третьи, несмотря на воинственный словесный наряд, заранее были обречены на то, чтобы уйти рано или поздно в песок.
Манифест «МЫ», не став окончательной точкой зрения киноков, стал, несомненно, их отправной точкой зрения.
Поэтому отречься от него не составляло никакого труда. То, что было сказано вначале, во многом повторялось потом, только с большей убедительностью.
– Из ничего ничего нельзя сделать, – говорили древние.
Не будь каких-то ранних, еще не до конца сформулированных, недосказанных мыслей, не было бы последующих отточенных и глубоких выводов. Тем более что не только в окончательных, но и в отправных своих точках позиция Вертова была во многом принципиальной и верной. Но с годами ранние манифесты стали его действительно смущать.
Стремясь заставить слушать себя, Вертов выбрал вполне в духе того времени для первого программного заявления обостренную словесную форму, в ней основные его мысли находили предельно концентрированное выражение. Такая концентрация, отжимая главное, игнорировала частности. А они-то, и только они, могли проложить путь к ясному пониманию главного.
Вертов расшевелил читателей, вывел из спокойного состояния. Но слишком добиваясь одного, упускал другое: услышав его, читатели далеко не всегда получали возможность расслышать все до конца, во всех деталях.
Манифест декларировал самые крайние точки вертовской позиции. Свои размышления, уже накопленный опыт Вертов втиснул в железные тиски им же изобретенных терминов – «киногаммы», «электрический человек», «интервалы», те же «киноки». Он-то знал, какое сложное многообразие стоит за этими крайностями, но в тот раз не донес его до читателей. Им доставалось лишь то, что лежало на поверхности.
По прошествии лет Вертов не мог не почувствовать, что его уверенность в правоте избранного пути здесь порой походила на самоуверенность. К тому же некоторые уверенно высказанные теоретические положения с годами были не менее уверенно разрушены кинематографической практикой.
Манифест интересно читать сегодня, Вертов снова заставляет слушать.
И так же, как в те годы, сегодняшнему читателю не легко прийти в себя.
Однако в наши дни разобраться в манифесте в конце концов гораздо легче – он разъясняется последующими вертовскими высказываниями.
В главном Вертов не уступил ни грана.
Естественно, процесс обучения, постоянного преодоления, восхождения на новую ступень всегда присутствовал в вертовской жизни.
– Я все еще учусь. Многие другие не учатся, а учат. Уже все знают.
Но плодотворность обучения предопределялась тем, что обучение протекало не на ошибочной, а вполне здоровой основе.
На безошибочности главного, не исключающей целого ряда побочных заблуждений.
Когда вертовское отрицание игрового кино в виде обилия мещанских по своему духу картин в подтексте (а порой и в тексте) переходило в отрицание игрового кино вообще, то из такого сражения с ветряными мельницами ровным счетом ничего не могло родиться.
Исход сражения был предрешен. Повиснув на вращающемся мельничном крыле, Вертов в конце концов растирал руки в кровь и, срываясь, разбивал лицо о камни.
А мельницы спокойно продолжали вращать свои лопасти, жернова перетирали зерно, мука ссыпалась в мешки, можно было печь хлеб.
Хлеб испекался разных сортов, но это был – хлеб.
Когда же Вертов яростно отрицал главным образом массовый коммерческий киноширпотреб, то из этого совершенно безошибочного отрицания выросло очень многое.
Борьба с игровым кино так часто ставилась Вертову в вину, что в шумной суматохе нередко даже справедливых нападок на него как-то затерялось одно исторически небезразличное обстоятельство.
В первой половине двадцатых годов было не много людей, сделавших больше, чем этот рыцарь документального кинематографа, для того вида киноискусства, в поход против которого он сам же протрубил сбор.
Сокрушая своим рыцарским мечом бутафорские страсти, бутафорские характеры, бутафорские сюжетные ситуации, вообще экранную бутафорскую жизнь, Вертов не отбил охоту к игровому кино у тех, кто вот-вот собирался начать в нем работать.
Показывая же в своих ранних журналах и фильмах невыдуманную революционную действительность, новый быт в его первородной документальной фактуре, Вертов утверждал новую суть и новую стилистику экранного зрелища, подсказывая некоторые направления, плодотворные и для игрового кино.
Конечно, не он один, хроника вообще. Но он – в первую очередь.
Сам Вертов это в полной мере не оценил.
Он обрушился на первые ленты Эйзенштейна, на «Стачку» и «Броненосец „Потемкин“», считая их ненужной подделкой игрового кино под хронику. Подражанием, мешающим развитию собственных выразительных средств игрового кинематографа.
Это была жестокая ошибка, из которой, разумеется, тоже ровным счетом ничего не родилось.
Но это была ошибка субъективной оценки происходящих в кино процессов. Она не могла поколебать того объективного факта, что стилистика документальных лент Вертова прямо влияла на хроникальную стилистику первых эйзенштейновских фильмов, открывших эпоху в советском и мировом киноискусстве.
Эйзенштейн и Вертов будут не раз сходиться в резком споре.
Иногда спор будет приводить к более углубленному осмыслению кинопроцесса. Но нередко на ошибки Вертова в оценке эйзенштейновского метода Эйзенштейн будет отвечать ошибками в оценке метода Вертова. Тем все закончится.
А исток ошибок окажется общий – уверенность, что пути нового революционного кинематографа лежат в русле исканий лишь одного из них и не могут лежать в русле исканий другого.
Но тут, наверное, существует какая-то своя логическая неизбежность. Великие художественные открытия не совмещаются с благодушной всеядностью. В чем-то приходится идти до конца.
Это не мешает возникновению между изобретателями более сложных личных отношений, чем может представиться поверхностному взгляду.
При резкости расхождений, бесстеснительности в выборе слов, когда нападение рассматривалось как лучшее средство самозащиты, понимание взаимных масштабов и уважение друг к другу, как правило, сохранялось.
Советское игровое кино в двадцатые годы рождалось и из приятия Вертова и из резкого спора с ним. Но его творческие открытия оказались плодотворными для дальнейшего развития искусства экрана.
Мельницы, перетирая зерно, превращали его в муку, а тесто для выпечки первых хлебов самого высокого сорта всходило на дрожжах той яростной полемики, которую затеяли и Вертов и другие сторонники документального кинематографа.
Где-то изначально в той или иной мере наше кино вышло из вертовской киноправды.
Многие современники Вертова не могли уйти от этого факта уже тогда – в двадцатые годы.
В феврале 1927 года, во время триумфального успеха фильма Вертова «Шестая часть мира», седьмой номер журнала «Советский экран» опубликовал дружеский шарж художника Лавинского. На нем был изображен памятник Вертову.
В рубашке с закатанными рукавами, в галифе, заправленных в краги, Вертов держал на руке земной шар, обращенный к нему «шестой частью мира», Страной Советов, он ее пристально рассматривал. Одной ногой Вертов стоял на постаменте памятника, а другой как бы попирал небольшое возвышение из двух кинокадров на пленке. В первом кинокадре юная пара в лихорадочном нетерпении тянула губы навстречу друг другу, во втором один джентльмен направил пистолет в грудь другого, который в соответствии с ситуацией поднял руки вверх. Оба кадра олицетворяли наиболее характерные моменты целлулоидных страстей.
На постаменте была выбита надпись: «Дзиге Вертову от благодарной художественной кинематографии. 1927 г.»
Через два года «Советский экран» поместил карикатуру художника В. Нинемяги: представительница того отряда домашних животных, про которых сказано: «рыльца – пятачками, хвостики – крючками», подрывает пятачковым своим рыльцем могучий дуб. Раскидистые ветви дуба составили названия картин, снятых к тому времени Вертовым, а надпись на широком стволе «Кино-Глаз» означала, что ветви выросли из теоретической основы, которую Вертов определял сочетанием этих двух слов. Чтобы у читателя не возникало никаких сомнений, на упитанном боку хрюшки тоже красовалась надпись: «Игровая кинематография».
Нетрудно догадаться, что рисунок сопровождали раздраженные сетования дедушки Крылова.
Когда бы вверх
Могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди
На мне растут.
Шаржи не были случайными.
Они аккумулировали мысль, которая с тех или иных позиций уже обсуждалась на страницах кинематографических изданий.
Однако поднять голову к ветвям дерева игровая кинематография не спешила.
Шарж предлагал проект памятника, намекая на то, что «благодарной игровой кинематографии» пора бы, правильно оценив ситуацию, выразить свою признательность.
Но (за редчайшим исключением) с благодарностью она тоже не торопилась.
Дело было, разумеется, не во взаимных любезностях, не в соблюдении светских приличий, а в более точном осознании движущих сил кинематографа.
Вертов называл себя и своих соратников детьми Октября, а свои фильмы – Октябрем в кино, и опять же был прав.
Эйзенштейн, отмечая своего единственного предшественника – вертовский журнал «Кино-Правда», писал, что Октябрь в кино – это «Стачка».
Он тоже был прав.
Фразу о «Стачке» как Октябре в кино Эйзенштейн выделил разрядкой.
Спор шел о приоритете – кто лучше?
А лучше были оба.
Впрочем, спор шел не о приоритете имен или отдельных фильмов, а о методах, направлениях, которые персонифицировались в именах и фильмах.
Оба направления были лучше.
То и другое стимулировало рост новой кинематографии – и в рамках собственного развития и на внутренних путях взаимоконтактов.
Это становилось все более очевидным, но становилось очевидным постепенно (иногда очень постепенно).
Не случайно в одном из своих выступлений в самом начале 1929 года, тогда, когда на страницах журналов и газет атаковывалось посягательство Вертова на незыблемые основы игрового кино, он, отвечая на вопрос, почему киноки против игровой кинематографии, решил поставить точки над к «Я не знаю, кто против кого. Против игровой кинематографии выступать трудно. Там 98 % всего мирового производства».
Горячность сменялась трезвым пониманием реальных процессов.
Представители игрового кино в дальнейшем будут не раз выражать свое искреннее восхищение по поводу отдельных фильмов и отдельных открытий документального кино, будут в то или иное время с удовольствием в нем работать, такое сотрудничество принесет свои достойные плоды.
Вертов к восхищенным признаниям относился сдержанно.
Он понимал, что признание отдельных фильмов и открытий еще не означает уравнения в правах, получения одинаковых условий производства и проката.
Вертов видел, как много делается для развития документального кино.
К концу тридцатых годов в стране сложилась мощная сеть студий кинохроники с объемом регулярно выпускаемой продукции, не имеющим аналогии за рубежом.
Но Вертов также видел, что при всем том не отправилась на заслуженный покой традиция, которая порой рассматривает документальное кино в основном как своего рода «довесок» к игровому кинозрелищу. Как то, что дается ему впридачу.
На протяжении почти всей жизни Вертов будет предлагать подробнейшие проекты новых организационных форм создания документального фильма. То это будет проект организации «опытной станции», выдвинутый в начале двадцатых годов, то проект специальной «фабрики фактов», предложенный в середине двадцатых годов, то схема «творческой лаборатории», к идее которой он неоднократно возвращался во второй половине тридцатых годов.
Проекты, сопровождаемые аккуратно вычерченными с помощью линейки и циркуля схемами и диаграммами, казались прожектерскими, вздорными, ненужными, пугали многостраничностью и утомляли детализацией.
Зачем все это, когда дело вроде бы и так поставлено не плохо?
Но Вертову хотелось, чтобы дело не столько хорошо стояло, сколько хорошо двигалось дальше. Его проекты устремляли документальное кино вперед. Многое в этих проектах теперь представляется чрезвычайно актуальным.
На читателей манифеста «МЫ» обрушивался еще один воинственный клич. Наряду с ясно поставленной целью «ускорить смерть» старой игровой кинематографии он вызывал у многих особенный гнев.








