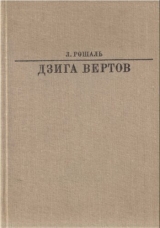
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Но Вертов не только овладевал образами и ритмом.
Совершались первые приступы к овладению – пусть пока еще на малометражном журнальном пространстве – синтетической картиной времени.
Даже эти первые приступы требовали тщательной подготовки, серьезных размышлений.
Вертов говорил: «Кино-Правда» делается из отснятого материала, как дом делается из кирпичей. Но из кирпичей, добавлял Вертов, можно сложить и печь и кремлевскую стену.
Особенности той и другой кладки Вертов знал не понаслышке.
Одновременно с «Кино-Правдой» учреждение, сменившее Всероссийский Фото-Кино-Отдел, Госкино, стало с мая 1923 года выпускать новый журнал – «Госкинокалендарь».
Его тоже возглавил Вертов.
Называя этот журнал хроникой-молнией, текущей сводкой кинотелеграмм, Вертов четко организовал регулярный выпуск «Госкино-календарей», насыщение их оперативно снятым материалом.
Но кладка материала была иная.
Она соответствовала названию журнала. Факты сброшюровывались в номер, как листки отрывного календаря: в такой-то день – такое-то событие, в следующий – следующее. Их объединяло хронологическое соседство, а не тематическое совпадение.
В марте 1924 года пятнадцатый «Госкинокалендарь» и восемнадцатая «Кино-Правда» поместили сюжеты об «октябринах», новом обряде, пришедшем на смену церковным крестинам.
Оба сюжета схожи не только трогательной чистотой интонации, но и деталями обряда.
И в том и в другом случае обязательными участниками обряда были пионер, комсомолец, коммунист. Согласно ритуалу, в «Кино-Правде» они бережно передавали из рук в руки новорожденного, в «Госкинокалендаре» – салютовали младенцу, произносили напутственные речи. И того и другого новорожденного нарекли Владимирами – в память о недавно скончавшемся Ленине.
Но способ подачи одинаковых сюжетов был не одинаков.
«Госкинокалендарь» точно указал, что «октябрины» происходили в Москве, в Доме крестьянина, что случилось это 27 февраля 1924 года и что отцом новорожденного был рабочий, товарищ Осокин.
В «Кино-Правде» таких сведений нет. Сюжет начинался с объявления, вывешенного на стене: «Октябрины. Сегодня здесь, в мастерской, состоится обряд введения в гражданство нового члена».
Что за мастерская и где находится, в какой день происходил обряд, фамилию родителей нового гражданина сюжет не сообщал. От этого он не утрачивал необходимой конкретности, зримые детали обстановки, облика людей, самого ритуала живо соотносились с тем, что каждый сидящий в зале ежедневно видел вокруг себя.
Но лишенное привязки к определенному дню и месту, событие переставало быть единичным случаем, приобретало черты всеобщности.
Всеобщность касалась не обряда, он был не так уж распространен. Она касалась заложенного в этом факте нарастающего движения массового сознания к новым формам бытия.
«Госкинокалендарь», справедливо дорожа фактом, им и ограничивался.
Для «Кино-Правды», как всегда, важнее другого было явление, его ранние побеги.
«Госкинокалендарь» предлагал посмотреть, «Кино-Правда» предлагала подумать.
Это не значит, что в первом случае размышления не играли никакой роли вообще, а во втором – вообще не играло роли показывание. То и другое в каждом случае не теряло своей остроты.
Разница же заключалась в том, какие задачи в каждом из двух случаев решались по преимуществу.
Сюжет из «Госкинокалендаря» существовал внутри журнала сам по себе, обособленно от других сообщений (об освобождении из исправдома 76 женщин, амнистированных по случаю Международного женского дня, или о встрече на вокзале в Ленинграде великого трагика Сандро Моисси).
Сюжет в «Кино-Правде» находился в непосредственной смысловой связи со всеми прочими страницами выпуска.
Помимо обычного названия выпуск имел подзаголовок: «Пробег киноаппарата 299 м 14 мин. 50 сек. в направлении советской действительности».
Пробег начался подъемом киноаппарата на Эйфелеву башню (в связи со смертью ее строителя), видами Парижа и его окрестностей с верхних площадок башни.
А затем аппарат спускался все ниже и ниже и, наконец, приземлялся уже на территории СССР – в поле со скошенным хлебом (был использован превосходный кадр, снятый со снижающегося аэроплана).
Почтив память недавно скончавшегося инженера Александра Эйфеля, Вертов отдал дань текущей информации, без которой, естественно, не может существовать ни один журнал.
Но вместе с тем эти первые кадры сразу же стали для Вертова пластическим и смысловым оправданием начатого пробега. Подразумеваемое в слове «пробег» быстрое перемещение камеры пластически оправдывалось ее стремительным спуском на лифтах башни, плавно переходящим в приземление вместе с аэропланом.
Однако в таком перемещении была не только пластическая, но и смысловая логика. Совершая скачок из одного мира в другой, аппарат начинал движение по заданному маршруту – в направлении советской действительности.
Став сначала свидетелем финиша на Петроградском шоссе автопробега Петроград – Москва, аппарат затем следовал за одним из финишировавших автомобилей: в сопровождении мотоциклиста автомобиль въезжал на Тверскую улицу, аппарату представилась возможность нырнуть в самую гущу бурлящей жизни городского центра: толпы прохожих… зеркальные витрины шикарных магазинов… нищий на костылях… чистильщик сапог… мальчишка-газетчик… публика у кинотеатра… папиросница «Моссельпрома»…
Вертов назвал это «пробегом», словом, настраивающим на поверхностное восприятие, – при беге все в нечетком виде проносится мимо. На самом же деле этим словом определялся лишь напряженный ритм движения (журнальный метраж не позволял иного).
Высокая скорость движения отнюдь не исключала цепкости взгляда, пристального рассматривания мира – в ералаше окружающих фактов отыскивался тот, который концентрировал в себе признаки новой жизни.
Показывая, как киноаппарат рассматривает действительность, Вертов втягивал в это рассматривание и публику, ее тоже включал в поиск.
После юной папиросницы «Моссельпрома» аппарат как бы невзначай натыкался на абзац свежего номера газеты, там сообщалось: «Моссоветом отстроен дом для рабочих». А затем шел кадр этого дома, на его фасаде висел транспарант: «Привет Московскому Совету, выполнившему задание своих избирателей».
Камера вбирала в себя пестрый поток мгновений, чтобы в конце концов найти единственное, самое нужное.
Автопробег, с которого начинался сюжет, финишировал на Петроградском шоссе. А финиш первого этапа пробега киноаппарата, которым сюжет кончался, был здесь – у дома, отстроенного для рабочих.
Но можно было обойтись без всего этого, просто дать кадр дома, сопроводив пояснениями: в Москве, на такой-то улице, Совет построил новый дом.
Информация была бы вполне исчерпывающей, политически актуальной.
Но смог бы в этом случае Вертов увлечь зрителей рассматриванием действительности? Сумел бы подключить их к поиску?
Обычная информация о построенном доме для рабочих оказалась бы вложенной в сознание зрителя извне.
У Вертова она становилась логическим завершением собственных зрительских поисков. К новой советской действительности здесь зритель исподволь приходил сам.
«Кино-Правда» была журналом политически и социально предельно заостренным.
Но Вертов всячески избегал прямолинейной социологизации и голой тезисности.
Политический тезис не существовал в журнале как некая изначальная данность, подминающая под себя экранный материал, а постепенно вырастал из материала, его живой плоти.
Поэтому и зритель не шел от готового тезиса, а постепенно приходил к нему.
Втянутый в движение, в известной мере заинтригованный им, но идущий пока больше вслепую, зритель в конце пути прозревал, и его прозрение шло в одном направлении – «в направлении советской действительности», как было сказано во вступительных титрах.
Вертову любили предъявлять иск в намеренном усложнении лент, в высокомерии к широкому зрителю. А между тем Вертов о зрителе думал постоянно.
Стоило «Кино-Правде» сойти с экранов (она прекратила существование весной 1925 года), как многие, в том числе недавние критики, начали вспоминать о ней с ясно различимыми нотками ностальгии.
Вспоминались разные особенности «Кино-Правды», но часто они оказывались еще и какими-то гранями довольно единодушного ощущения – особой демократичности этой социальной кинохроники.
Новые дома входили в строй не каждый день.
Чаще, чем такой дом, зритель мог встретить на улице (по соседству с роскошными витринами) нищего на костылях, мальчишку, продающего газеты, девочку, торгующую папиросами.
Вертов не отводил торопливо глаза в сторону. Люди жили трудно, в перенаселенных коммуналках, подвалах и полуподвалах, наскоро возведенных бараках, во времянках, удивлявших долголетием. Новые дома для всех – это было дальней целью, мечтой.
Вертов показывал: мечта – не прекраснодушная, она начинает осуществляться уже сегодня.
Но пока еще только начинает.
Поэтому факт, устремленный в будущее, он не вырывал из сложной повседневности настоящего. Вместе с тем настоящее этим фактом окрылялось. Постройка сюжета здесь шла на доверии к возможностям не только художественного, но и социального опыта зрителей.
«Кино-Правда» никогда не походила на витрину достижений.
Но и никогда о достижениях не забывала.
Только приближалась к ним изнутри.
Дом для рабочих был праздником.
Но шагал праздник в ряду с суровыми буднями.
Отсюда начиналось и ощущение демократичности хроники киноков.
Событие возвышало жизнь, но не возвышалось над ней.
От факта выстроенного дома для рабочих следовал уже естественный переход к другим фактам восемнадцатого номера «Кино-Правды» – к встрече рабочих Надеждинского завода с крестьянами, к посещению сельскохозяйственной выставки в Москве крестьянином-экскурсантом Ярославской губернии Василием Филипповичем Сиряковым.
Движение в направлении советской действительности затрагивало все более глубокие пласты.
Камера видела, как Василий Филиппович беседовал с рабочими в шумной толчее общежития, не отставала от него, когда тот ехал в трамвае на выставку (попутно успевая отметить разные живые детали – в вагоне, на улице за окном), побывала вместе с ним на выставке и на митинге по случаю ее закрытия, где выступили крестьянин-поэт Мишин, агроном Логанов, крестьянин Седов, отправилась с Василием Филипповичем на встречу с рабочими Краснопресненского машиностроительного завода.
Аппарат вглядывался в немолодое, бородатое лицо крестьянина, ловил в нем неподдельный интерес к окружающему, удовлетворение увиденным. Камера отмечала различные оттенки чувств. Но чаще всего на лице Василия Филипповича (как и на многих других лицах, появлявшихся в кадрах этого сюжета) возникала улыбка. Невольная, безотчетная, просто выражавшая состояние духа.
Люди улыбались будущему.
Обитатели общежития, участники митинга, трамвайные попутчики Сирякова, да и он сам были неважно одеты, не выглядели наевшимися досыта.
Многого еще не хватало, но к будущему уже можно было прикоснуться руками. Уже была своя выставка, на нее можно приехать из далекой деревни. Был уже свой поэт-крестьянин, ему дружно аплодировали – может, не за стихи, а именно за это: за то, что он уже был. И уже складывалось горячее стремление соединить рабочую и крестьянскую волю, чтобы перепахать старую жизнь.
Аппарат с поразительной прозорливостью уловил в этих кадрах самые ранние ростки всеобщего энтузиазма, в скором будущем он сольет огромные людские потоки в едином порыве на путях коренной перестройки человеческого существования.
Близилось время героической самоотдачи, седьмого пота, стиснутых зубов, трудового подвижничества – время больших испытаний. Их преодолеть было бы труднее, если бы даже в самые напряженные, хмурые минуты людей не согревала изнутри эта возможность улыбнуться будущему.
Люди улыбались будущему, потому что все тверже верили в него. Они были за него спокойны. Это рождало чувство удовлетворения.
Сюжет в сохранившемся виде кончается надписью: «Скрепляем союз рабочего класса и крестьянства».
Судя по архивным материалам, была еще надпись – слова самого Сирякова: «За выставку вам спасибо. Ленину Владимиру Ильичу спасибо».
Вертов возвращал сюжету мотив ленинского завета. Если вначале – на Надеждинском заводе – этим мотивом определялась высота звучания общей политической задачи («смычки»), то в финале он становился лейтмотивом личного чувства.
Это было важно Вертову, в следующем, итоговом сюжете журнала он хотел дать событие, в котором мотив ленинских заветов пронизывал не то что личные, а самые сокровенные человеческие чувства.
Таким событием стали октябрины.
Они помогли Вертову найти для этого мотива зримое патетическое выражение.
После того как родителям новорожденного были вручены подарки, произнесены последние пожелания («Будь здоров, товарищ!»), собравшиеся расходились по своим местам. Снова включались станки, начиналась работа: шел монтаж крупно снятых деталей работающих станков.
Монтаж был осуществлен с такой пластической точностью, ритмической энергией, что создавалось ощущение, будто во все эти приводные ремни, шестерни, шпиндели вдруг вдохнули жизнь и она запульсировала на глазах зрителей. Веселый, радостный ритм отбивался не только монтажно рассчитанными движениями механизмов, но и периодическим повторением (в виде надписи на фоне работающих деталей) одного и того же имени: ВЛАДИМИР… ВЛАДИМИР… ВЛАДИМИР…
Повторяя это имя, ожившие станки приветствовали нового гражданина – так кончается номер.
Но он так кончается опять же в сохранившемся виде.
А архивные документы свидетельствуют, что после повторений имени Владимир на экране возникала еще одна, заключающая журнал надпись: ЛЕНИН (возможно, она сопровождала и какое-то ленинское изображение, но сейчас установить трудно).
Станки повторяли имя недавно скончавшегося Ленина и только что родившегося и введенного в гражданство нового члена общества.
Смерть вождя не прерывала связь времен. Тема ленинских заветов возникала в предшествующем сюжете неспроста. Новый гражданин получал в наследие не только имя, но и дело Ленина.
Пробег в направлении советской действительности Вертов не представлял вне движения по ленинскому пути. Финал это подчеркивал с полной ясностью и потому был патетичен.
Но патетика не сквозила искусственностью, фанфарной риторикой. Она постепенно подготовлялась фактами, обнаруженными в гуще пестрого быта: новым домом для рабочих, желанием рабочих идти на смычку с крестьянами, чувствами ярославского экскурсанта и тех, кто собрался на октябрины.
Патетика финала не сводилась к выкрикиванию лозунгов. Она опиралась не на котурны, а на идейную убежденность.
Вертов хотел брать зрителя не горлом, не громкими словами, а раздумьями.
Он хотел зрителя не уговаривать, а убеждать.
В 1924 году, выступая перед общественным просмотром только что подготовленного девятнадцатого номера журнала и кратко обозревая предыдущие выпуски, Вертов говорил:
– Не сочтите, товарищи, за хвастовство, но несколько человек сочли нужным сообщить мне, что они рассматривают день просмотра восемнадцатой «Кино-Правды» как день перелома в их понимании советской действительности.
Октябрины и все другие сюжеты восемнадцатой «Кино-Правды» находились в напряженном взаимодействии друг с другом, как детали и механизмы работающего станка.
Октябрины и все прочие сюжеты в пятнадцатом номере «Госкинокалендаря» тоже сравнимы с деталями станка, но только не одного, а разных.
Вертов не жалел времени на «Госкинокалендарь», добиваясь регулярности выпуска. Зато «Кино-Правду» можно было выпускать не так часто. За два года на экранах появилось свыше пятидесяти номеров «Госкинокалендаря». А номеров «Кино-Правды» вышло всего двадцать три, хотя она начала выпускаться на год раньше.
Вертов получил больше времени на обдумывание каждого выпуска «Кино-Правды», на отбор материала и поиск средств, помогающих решить захватывающую задачу: осмыслить жизнь в единстве ее разнообразных (в том числе и противоборствующих) множеств. Дать синтетическую картину мира через его коммунистическую расшифровку.
Разъяв мир, объять его.
Эта задача захватывала Вертова все больше и больше, а в ответ он нередко ловил в глазах, обращенных к нему, холодную иронию людей, твердо знающих, что объять необъятное нельзя.
Но искусство только тогда и поднималось на новые ступени, когда концентрировало в себе элементы глобальных представлений о мире, – от Гомера до Шекспира, от Шекспира до Толстого. Можно добавить и другие имена из любой области искусства, в том числе из кинематографа.
Не все осуществляется, но многое часто зависит от того, на что художник замахнулся.
Пройдут годы – гнев скептиков сменится на милость: заговорят об особой синтетической природе вертовского творчества. Впервые и робко заговорят лет эдак через десять с лишним, уверенно лет эдак через сорок с лишним после того, как в «Кино-Правде» начал Вертов искать способы постижения полной меры вещей.
«Кино-Правда» сразу же стала не только воплощением объявленных намерений, по и опытным полем для экспериментальной проверки различных средств воплощения.
Статейку о пятом номере журнала Вертов написал не случайно. Он хотел предварить просмотр объяснением, что впервые предпринял совершенно новую для зрителя попытку свести разнородные факты в единую «кинонеделю» именно в этом номере.
Их сводил воедино «некто-человек», как называл его Вертов, – он периодически появлялся на экране. Человек читал свежую газету, заголовки из нее становились заголовками сюжетов, а газетные сообщения оживали на экране.
Прочитанное «некто-человек» видел не так, как обычно «видят» то, о чем прочитано, – умозрительно, а видел воочию: присутствовал на эсеровском процессе, знакомился с поездкой наркома земледелия Василия Яковенко по Сибири, переносился на курорты Кавказа в разгар сезона, привстав со стула, напряженно следил за «Красным дерби» – заездами на Московском ипподроме 2 июля 1922 года.
«Некто-человек» объединял разрозненные события внешне – фактом своего присутствия. Он не искал между сюжетами смысловых сближений. В дальнейшем этот прием киноками не использовался (хотя сама идея «некто-человека» не пропала бесследно). Но надо было начать, надо было попробовать; заранее предугадать, чем попытка закончится, не мог никто.
В других номерах, стремясь к более глубокому единству материала, Вертов нередко целый выпуск полностью отдавал одной теме.
Двадцатая «Кино-Правда» рассказывала о пионерском отряде с Красной Пресни (том самом, во главе которого был будущий «киноразведчик» Борис Кудинов), о поездке ребят в деревню Павлово-Ленинскую (ту самую, откуда родом был будущий «киноразведчик» Илья Копалин) и об экскурсии пионеров в зоологический сад. Эта «Кино-Правда» называлась «Пионерской».
Последний, двадцать третий выпуск «Кино-Правды» назывался «Радио-Правда», он целиком посвящался распространению радио в стране.
Вертов готовил этот номер с особым чувством. Тема волновала его не только с общественной точки зрения, но и лично. Радио осуществляло давнюю мечту о воспроизведении слышимого мира.
Факты, собранные в шестнадцатую – «Весеннюю» – «Кино-Правду», объединялись не темой, а настроением. Они были пронизаны лирической интонацией, маем, весной, улыбками.
В журнал вошел короткий фильм – первый в жизни фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном.
Для своего знаменитого, полного головокружительных неожиданностей спектакля «Мудрец» (по пьесе А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты»), поставленного в Театре Пролеткульта, Эйзенштейн задумал снять киноленту – похищенный у Глумова дневник, где он описывал свои похождения. Под стать спектаклю с его клоунадами, аттракционами, традициями народного балагана лента искрилась веселым лукавством, эксцентричностью и одновременно была ироничной и злой. По-своему, гротескно, но точно она демонстрировала социальную подоплеку мимикрии Глумова. На экране Глумов наплывом превращался в тот или иной предмет, наиболее угодный персонажу, которого он улещивал, – то в осла (это нравилось Помешанному на поучениях Мамаеву, Глумов разыгрывал перед ним совершеннейшую пустоту), то в митральезу, старинное многоствольное орудие (это приходилось по вкусу воинственному Крутицкому), то в душку-младенца (это приводило в восторг тетку, пылавшую страстью).
Эйзенштейн позже писал, что дневник Глумова он решил заменить «Кино-Правдой», «как раз завоевывавшей тогда популярность». Когда он обратился за помощью к управляющему производством Госкино Михину, тот поручил съемку кинокам. Вертов послал снимать Лемберга, потом Франциссона.
Дневник Глумова под названием «Веселые улыбки Пролеткульта» Вертов включил (видимо, несколько перемонтировав) в шестнадцатую «Кино-Правду», показанную 21 мая 1920 года – в годовщину журнала.
Дневник снимали ослепительным апрельским днем у мавританского особняка Саввы Морозова на Воздвиженке, где помещался Пролеткульт.
Написав сценарий ленты, Эйзенштейн посчитал свою функцию исчерпанной. Он долго не подходил к аппарату, наблюдал за съемкой со стороны, полагаясь на умение Бориса Франциссона. Но в конце концов оператор категорически потребовал посмотреть в лупу, и Сергей Эйзенштейн первый раз в жизни подходит к киноаппарату.
Аппарат высоко и неудобно поднят на штативе. Сергей Михайлович не дотягивается.
Ему подставляют чемоданы от аппарата, сверху ставят еще футляр от кассетницы.
Взгромоздившись на шаткое сооружение, Эйзенштейн подпрыгивает и, повиснув на штативе, наконец-то заглядывает в кинокамеру.
Свидетель сцены, верный соратник начинающего режиссера, один из членов эйзенштейновской «железной пятерки», актер Пролеткульта Александр Лёвшин вспоминает, что окружающих забавлял тогда один вопрос: сорвется или не сорвется их молодой мастер?
А теперь, рассказывая о съемке через пятьдесят лет, Лёвшин писал, что не может без волнения вспоминать этот поистине исторический миг. Эйзенштейн вряд ли что-нибудь разглядел в лупу, висел он действительно неудобно, да и изображение в лупе было перевернутым.
В творческой судьбе Эйзенштейна это было веселое время театральной комедии.
Время эпических кинотрагедий было впереди.
Но первый шаг он сделал к ним в «весенних улыбках» – на одной территории с Вертовым.
В числе «Кино-Правд», построенных на тематическом единстве, был еще один выпуск – тринадцатый, сделанный к пятилетию революции и названный «Октябрьская Кино-Правда». Тот самый, которому Михаил Кольцов посвятил в «Правде» вдохновенную статью, считая, что с выходом вертовского журнала миновали в кинохронике прежняя безалаберная кустарщина, изнурительные длинноты, извод пленки: «Музыка на просмотре не играет, но музыка прет с полотна…»
После решительных со стороны Вертова обструкций старой хронике с ее парадами и похоронами самым удивительным в этом номере было то, что он целиком строился на рассказе о параде и что одним из сильнейших эпизодов внутри рассказа стали похороны.
Но от октябрьского парада на Красной площади, торжественной меди оркестра, ликующих демонстрантов лента постоянно возвращалась назад, к живой, трепетной, как писал Кольцов, дергающей сразу ум, сердце, воображение истории. Возвращалась к пяти прошедшим годам, к беспощадной, кровавой борьбе за новый мир. Трагический эпизод похорон жертв революции был неотъемлемой частицей этой истории.
От праздника уходя в недавнее прошлое, лента затем снова возвращалась к празднику – на Красную площадь. А потом – опять история, потом – снова праздник.
Праздничное ликование не отъединялось от того, что ему предшествовало и его подготовило.
Настоящее осмыслялось через прожитое-пережитое.
В этом номере, может быть, как ни в каком другом (способствовал материал), выявилось неумолимое желание Вертова рассказывать не о параде жизни, а о самой жизни, даже если лента посвящена параду.
Вертов отвергал парад не в принципе, а принципиально. Не как факт жизни, а как метод изложения жизненных фактов.
Похороны героев революции и парад Красной Армии существовали в номере не в виде двух обособленных, взаимно безразличных журнальных сообщений.
Один факт длился в другом, олицетворяя смысловую плотность материала.
Но Вертов искал ее не только в тематических номерах.
В остальных выпусках (их большинство) он стремился к обнаружению невидимого сродства между событиями, лишенными видимого сходства, как это делалось в «Кино-Правде» с Октябринами.
Отсутствие внешних тематических связей усложняло задачу.
Но ни себе, ни зрителю на уступки типа «некто-человек», сшивающие сюжеты белыми нитками, Вертов не шел.
И все-таки именно некто-человек оказался основным инструментом, связующим все начала и все концы.
Только с усложнением задачи усложнились и его функции, укрупнилось значение.
Изгнав некто-человека из кадра, Вертов отнюдь не изгнал его из лент.
Незримое присутствие некто-человека ощутимо с большей или меньшей силой во всех вертовских журналах и фильмах.
Изгнание из кадра пошло ему на пользу. Он освободился от искусственности реального присутствия на экране. Еще важнее: освободился от созерцательности.
Но самое главное, он освободился от необходимости физического перемещения в пространстве и времени (то он в Сибири, то на Кавказе в Гаграх), получив удивительную возможность перемещаться из края в край земли мысленно.
В восемнадцатой «Кино-Правде», как и в большинстве других номеров, свой бег сквозь гущу современного быта на самом деле совершала вовсе не кинокамера, а мысль.
Мысль не Вертова.
Вернее, Вертова, но не одного его.
Маяковский часто писал «я», но это «я» не только вбирало в себя собственные ощущения и мысли поэта. Оно конденсировало мысли и ощущения современника.
«Кино-Правда» давала квинтэссенцию размышлений того самого некто-человека, уйдя из кадра, он одновременно растворился в каждой микроклетке ленты.
Белое полотно в кинозале становилось экраном сознания – не просто автора, а некоего обобщенного человека, современника, напряженно вглядывающегося в глаза жизни с целью понять ее.
В поэзии такого человека обычно называют лирическим героем.
Экран зримо воплощал его мысль во всех поворотах и ассоциациях на путях движения к цели.
Находившийся в кадре некто-человек видел события только глазами. Уйдя за кадр, он стал их видеть умом.
Вместо потока фактов ход мыслей, опирающихся на факты. Вместо единства видения внутрикадрового некто-человека единство мышления Человека за кадром.
Единством своего мышления он опрессовывал разрозненные события внутри каждого номера в монолитное целое.
В дальнейшем метод зримого воплощения пульсирующей мысли лирического героя Вертов будет использовать с возрастающим от фильма к фильму совершенством. Он даст точное определение метода – внутренний монолог.
Каждая его картина была выстроена в форме внутреннего монолога. Опять же не автора, а человека. Точнее, не человека, а Человека – так говорил сам Вертов.
Монологи писались не словами, а кинокадрами. Произносились не вслух, а мысленно (поэтому и назывались внутренними), но воспроизводились на экранном полотне.
Метод внутреннего монолога в конце концов стал общекинематографическим достоянием. Но он стал таким достоянием приблизительно через тридцать лет после того, как Вертов в 1934 году одним из первых (вторым – вслед за Эйзенштейном, теоретически обосновавшим в 1932 году идею внутреннего монолога применительно к игровому кино) заговорил о внутреннем монологе и через сорок лет первым в мировом кино начал практически осваивать этот метод в «Кино-Правде».
Вертовский журнал определил много в развитии советского кино.
Но еще больше «Кино-Правда» определила в развитии самого Вертова. Она была тем заботливо ухоженным участком земли, на котором он вместе с киноками высадил множество саженцев.
Большинство из них принялось.
Саженцы вырастут потом в крепкие, стойкие яблони.
Но, продираясь сквозь чащу непознанного в кино и оставляя за собой проложенные тропы, киноки, однако, не могли сказать о себе: и наутро мы проснулись знаменитыми.
Работая с необычайной изобретательностью и исключительной самоотдачей, они не ждали, что после просмотра очередной «Кино-Правды» зал в едином порыве поднимется со своих мест, восторженно выкрикивая:
– Браво!..
Их неожидания оправдывались.
Часть публики искрение, даже с восторгом принимала журнал. Другая часть (поначалу большая) действительно была порой не прочь вскочить со своих мест, но с криками совершенно противоположного содержания.
Вертов вспоминал: к десятому номеру страсти разгорелись. После выпуска четырнадцатого единодушный диагноз – «сумасшедший». Даже друзья не поняли и качали головами. Кинооператоры заявляли, что не будут снимать для «Кино-Правды».
Огонь страстей, начавший разгораться к десятому номеру, с выходом последующих «Кино-Правд» разбушевался вовсю.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Киноческий метод базируется на отрицании «эстетической кухни» и преследует цель внедрения натурального быта в кинематографию. Госкино обнаружило большую изобретательность в этом направлении, склеивая отдельные кусочки быта (не только парады, митинги и съезды) в осмысленную кино-вещь.
«Известия», 1924
Зрительный зал полон. Рабфак, Комсомол, Свердловия, Вхутемас, Пролеткульт и другая советская молодежь. Почти все киноработники… Юморески вызывают взрыв хохота и шумные аплодисменты. «Кино-Правда» принимается серьезно, время от времени вдруг раздаются хлопки одобрения и в конце молодая советская аудитория дружно аплодирует… Характерно, что по окончании демонстрации в фойе и в выходах нельзя было найти спорящих групп. Самые непримиримые противники киноков на этот раз ушли молча.
«Зрелища», 1924
На последнем госкиновском просмотре (14 апреля) нам показали очередную (19-ю) «Кино-Правду» – новый «пробег киноаппарата на протяжении стольких-то метров, под редакцией такого-то, при киночестве такого-то». Мы не знаем, бегал ли аппарат самостоятельно или вместе с редактором и киноком, но на экране такое накручено, что уму непостижимо…
«Кино-газета», 1924
№ 19 очень удачен, он наглядно говорит о том, что искусный показ быта может быть полон и драматизма, и юмора, и захватывающего воодушевленного интереса. В этом искусстве есть и своя драматургия, и живопись, и некая кино-музыка. Главное же, такая «Кино-Правда» насущно нужна нам по всему Союзу, во всех медвежьих и просвещенных уголках.
X. X. – «Известия», 1924
Становится нудным кликушество «кинока» Вертова… Вертову нужно бросить выспренный «теоретический штиль», взяться всерьез за учебу, и через несколько лет из этого молодого работника может оформиться прекрасный режиссер-постановщик.
Л. – «Кино-газета», 1924
Последним производственником выступил Дзига Вертов. Этот кинока-воин минут десять кино-врал про кино-правду, а потом публике пришлось приобщиться к случившемуся с Вертовым несчастью. Дело в том, что несколько ранее у него сбежал съемочный аппарат, и ни в чем не повинной аудитории пришлось просмотреть пробег этого аппарата, почему-то озаглавленный «Кино-Правда» № 19.
В. Ар. Парад Госкино (фельетон). – «Кино-газета», 1924
19-й № «Кино-Правды» посвящен женщине-работнице, и в фильме перед нами, в ассоциативной связи, проходят типы советских женщин от крестьянки, работающей в поле, до монтажницы, подбирающей негатив для данного № «Кино-Правды». Тов. Вертов дает много интереснейших моментов. Сделан дальнейший шаг вперед в смысле простоты, серьезности и понятности, но в этом направлении тов. Вертову предстоит еще большая работа. «Кино-Правда» заставляет напрягать внимание даже подготовленного зрителя.
Гусман Б. – «Правда», 1924, 13 июня
«Кино-Правда», где ты?
Месяц тому назад мне пришлось быть в одном кинотеатре, где шла «Кино-Правда», которая произвела на зрителей громадное впечатление… Невольно потянуло посмотреть еще раз «Кино-Правду»… Но почему нигде не идет «Кино-Правда»?.. Ведь «Кино-Правда», кроме смычки рабочего с крестьянином, дает нам самую занимательную газету и помогает в политграмоте.
Госкино, куда ты прячешь после показательных просмотров «Кино-Правду»? Откликнись.
Чернорабочий Бюробина. – «Правда», 1924, 19 июля
Своей «Кино-Правдой» т. Вертов, несомненно, завоевал себе полное право на особое внимание со стороны нашей партийно-советской общественности. Его работе должны быть предоставлены самые широкие возможности. Пусть его теория нетерпима и однобока, – его практика говорит за то, что эта экспериментальная работа, выросшая из процесс? пролетарской революции, – большой шаг на пути к созданию действительно пролетарской кинематографии.
Февральский А. – «Правда», 1924, 19 июля
Мнения вокруг киноков возбужденно вились и гудели, как пчелы растревоженного улья, с той лишь только разницей, что до единодушия, свойственного пчелиной семье, было далеко. То, в чем одни прозорливо чуяли медоносные богатства, другие полагали достойным в крайнем случае их жалящего хоботка.








