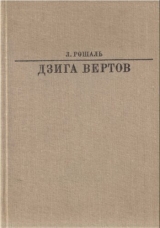
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Вертов прошел, а Шкловский с ней остался. И, оставшись с ней, он прошел мимо вертовского открытия.
Стенок в гвозди Вертов никогда не вбивал.
Если уж придерживаться этого сравнения, то с гораздо большим основанием можно сказать, что всю свою жизнь Вертов занимался прямо противоположным: вбивал гвозди в стенки.
А что и было здесь „смешного“, так лишь одно: вбивать ему их приходилось часто голыми руками.
Не оттого, что не было молотка. Но нередко требовался инструмент более тонкий, более чувствительный.
Подобная операция, естественно, не проходила безболезненно. Но ради правого дела Вертов не жалел себя.
И когда возникала необходимость пробивать стены или вышибать двери, мягкий и деликатный Вертов собирал всю свою энергию и волю. „Если… я известен в кинематографии, – писал он в письме одному из поспешных критиков „Симфонии Донбасса“, – то известен как взломщик запертых кинодверей, в которые входят другие. Это – очень неблагодарная работа…“.
Но Вертов брался за эту лично для него неблагодарную работу, потому что верил в ее общественно важные перспективы.
Он словно предвидел, что сегодняшний его спор со Шкловским не потеряет остроты ни завтра, ни послезавтра, ни спустя годы и десятилетия.
Он словно знал, что и спустя десятилетия не иссякнут фильмы, в которых понимание документализма будет исчерпываться указанием широты, долготы, времени, места съемки и прочими „анкетными“ данными.
Он словно предчувствовал, что отголоски спора отдадутся эхом в вызревании различных тенденций мирового киноискусства, в складывании различных „школ“ и направлений документального кино, особенно тех, которые верность факту будут признавать лишь при условии активного авторского самоустранения.
Наверное, он даже угадывал, что отголоски эти могут переметнуться из документальной области в область игровую.
Годар – один из родоначальников „новой волны“ во французском игровом кино пятидесятых годов, – в дальнейших своих поисках почувствовав неодолимое влечение к левацкому авангардизму, объявил, что всякая социально интерпретированная искусством действительность есть ложь, „эйзенштейновщина“, что искусство должно принимать действительность как фактическую данность, и посему назвал себя последователем Вертова, считая, что своей „выдумкой“ обязан именно ему.
Он ведь не знал, что уже давным-давно один из самых умных и прозорливых современников Вертова с блеском доказал, что Вертов по отношению к этой не сегодня родившейся, но сегодня потрясшей воображение французского режиссера „выдумке“ оказался, слава богу, мимо прошедшим.
Не просто доказал, а доказал – от противного.
Не как защитник Вертова, а как его решительный оппонент.
Но ведь такое доказательство особенно убедительно.
Просто трудно удержаться (отнюдь не впадая в мистику) от размышлений о роковой предопределенности, странной игре судьбы.
Почему немало людей, в том числе и обладавших проницательным (иногда даже необычайно проницательным) зрением, чуткие провидцы, очень многое угадавшие наперед (и тот же Эйзенштейн и тот же Шкловский – список легко продлить), теряли остроту зрения, как только обращали свой взгляд на Вертова?
И у Эйзенштейна и у Шкловского были неточные выводы, сделанные по другим поводам.
Они многое открыли; если бы не ошибались, то, наверное, не открыли бы ничего.
Но осечки в оценке Вертова, его далеко идущих намерений порой оказывались до такой степени стопроцентными, что невольное склонение мысли в сторону присутствия в судьбе некоего наваждения кажется достаточно естественным.
На самом же деле было, скорее всего, другое: совершенно новая, никем не изведанная область творчества, в исследовании ее он добирался до таких глубин, до каких большинству еще предстояло долго добираться.
Намерения были действительно далеко идущими.
Очень далеко.
Столь далеко, что жизнь еще не предъявила на них своих полных прав.
От этого многие намерения казались надуманными, нежизненными.
И от этого многие осечки выглядели стопроцентными попаданиями при стопроцентных (на самом деле) промахах.
Но для того чтобы промахи стали очевидными, должны были пройти годы и десятилетия.
Отношение Шкловского к Вертову это точно отразило.
С течением времени оно менялось.
Шкловский всегда отмечал кинематографическую талантливость Вертова, но в двадцатые годы отмечал как бы в скобках, основное место уделял несогласиям.
С годами он стал все больше обращать внимание на талантливость, скобки убирая.
Исчезает и категоричность тона в отношении вертовского метода. После выхода „Трех песен о Ленине“ Шкловский напишет удивительные, взволнованные строки, хотя ведь и в этой картине документальный кадр в большинстве случаев лишен подписи и даты, хотя и она – несомненно, искусство, а не конструкция.
В 1931 году Шкловский уверенно и резко обрушился на „Симфонию Донбасса“.
А в 1973 году в книге об Эйзенштейне он напишет: „Помню просмотр „Симфонии Донбасса“ Дзиги Вертова. Прослушав и посмотрев эту картину, вышел я на улицу и пошел не в ту сторону, куда мне надо было идти: был оглушен. Прошло двадцать лет. Случайно я опять посмотрел эту картину. Она мне стала понятной. Во-первых, изменился способ проекции, иначе стали записывать звук. Во-вторых, изменился мой художественный опыт. Я больше видел и ближе подошел к тому, что предугадал другой художник“.
В этих прекрасно сказанных словах есть не только то, что относится к научной добросовестности, но и нечто большее – чистота той нравственной волны, на которую настроена сама личность Шкловского.
Но несогласия не исчезли.
Во многих высказываниях более позднего времени (вплоть до 60–70-х годов) Шкловский будет находить случай в той или иной вариации повторить мысль о значении номера паровоза, подписи и даты, широты и долготы и т. д.
Чаще всего поводом для этого будет служить противопоставление методу Вертова метода Эсфири Шуб.
Шкловский увидит превосходство Шуб в том, что она не лишала явления „документальной полноценности“, а Вертов лишал, так как давал куски „без точного документального адреса“ (это написано не в двадцать шестом году, а в шестьдесят пятом).
Тут все неверно.
В 1927 году Шуб выпустила первый в мировой практике фильм, смонтированный из старой (дореволюционной) хроники, – „Падение династии Романовых“.
Монтаж у нее строился на долгих планах, а не на достаточно быстрой смене кадров, как у Вертова в „Шагай, Совет!“ и „Шестой части мира“.
Но принцип монтажа Шуб отражал вовсе не превосходство метода, а отличие целей.
Она рассказывала зрителю о времени десяти-пятнадцатилетней давности. Срок сравнительно небольшой.
Но старая хроника была отделена от зрителя второй половины двадцатых годов еще и рубежом двух эпох.
В десять послереволюционных лет Россия прошла путь, равный веку. Хронологически недавнее время для огромного большинства стало временем необыкновенно далеким, почти доисторическим.
Даже отъявленному монархисту Хворобьеву из романа знаменитых сатириков снилось вместо желаемых государя-императора при выходе из Успенского собора или хотя бы ялтинского градоначальника Думбадзе членские взносы, стенгазеты, совхоз „Гигант“, демонстрации, торжественное открытие фабрики-кухни.
Для того чтобы понять эпоху, подготовившую падение царской династии, Шуб должна была вернуть это время из небытия, напомнить зрителю, поподробнее показав его.
Вертов делал „Шестую часть мира“ на современном материале, и перед ним такая задача не возникала.
Шкловский также ошибся, полагая, что полноценность видения всегда связана с длительностью рассматривания.
Видимую картину глаз фиксирует мгновенно, а необходимость в более длительном рассмотрении или менее длительном диктуется быстротой осмысления зрителем увиденного.
В свою очередь быстрота осмысления зависит не от того, как долго одна и та же картина держится на экране, а от того, что эта картина показывает. И как показанное связуется с социальным и духовным опытом зрителя, со знанием демонстрируемого материала и т. д.
Та или иная длительность плана подчинена объему содержащейся в нем аргументации.
Короткий кадр может концентрировать в себе (и вокруг себя) аргументов гораздо больше, чем обилие длинных, тягучих, но бездоказательных по смыслу планов (что не исключает и обратно ситуации).
Дело не в длине монтажных „слов“ и „фраз“.
Шуб для полноценного осмысления дореволюционной эпохи нужны были длительные планы. Но это не значит, что короткие планы у Вертова не служили полноценному осмыслению эпохи послереволюционной.
Если длительность куска превышает скорость его понимания, следовательно, кусок должен быть уменьшен (и наоборот).
Иначе возникает усталость зрения.
Монтажная стремительность – не синоним смысловой беглости. И при замедленном монтаже смысл может оказаться беглым.
Вертов призывал к длительному наблюдению за жизнью, за поведением человека. Но это не означало, что все результаты наблюдений должны войти в законченный фильм, из них надо отобрать те, в которых идет накопление и концентрация смысла, отбросив те, в которых смысла нет.
Еще в двадцатые годы Шкловский бдительно предупреждал: „Вертов режет хронику!“
Этого делать нельзя, считал (и считает) Шкловский, Шуб – не делала.
Делала, и еще как! Только иначе, чем Вертов.
Потому что был разный материал и ставились разные цели.
Но от этого один не становился лучше (или хуже) другого.
А „резать“ хронику (вернее, жизнь, фиксируемую хроникой) начинают вовсе не ножницы режиссера при монтаже, а камера оператора при съемке – об этом нельзя забывать.
Но всегда ли оператор „режет“ в нужный момент?
Если раньше, чем нужно, то тут уж ничего не поделаешь.
А если позже, то почему бы не отрезать при монтаже ненужное?
В указаниях дат и мест съемки Шуб действительно проявляла несколько больший педантизм, чем Вертов, но и это не имело никакого отношения к превосходству метода, а объяснялось все тем же: она строила историческую картину.
Но педантизмом она себя вовсе не связывала, не превращала „анкетирование“ кадра в обязанность – чтобы убедиться в этом, надо чуть-чуть внимательнее посмотреть ее фильм.
Шуб брала хроникальные кадры, где крестьяне пашут помещичью землю под наблюдением управляющего, но не указывала, что кадры сняты, скажем, в Орловской или Курской губернии.
Не указывала, потому что для понимания времени конкретный „адрес“ не имел ровным счетом никакого значения.
Вернее, имел, но совсем иной, чем требовал Шкловский.
Адресом была вся Россия.
Указав такой адрес, не оказалась ли и Шуб мимо прошедшей?
Нет ли в таком обобщении свойств, гораздо больше сближающих Шуб с Вертовым, чем их разъединяющих (при всех отличиях путей к обобщению)?
Шуб открыла новую область документального кино, но ведь не мог для нее пройти бесследно предшествующий десятилетний опыт Вертова.
Лента „Падение династии Романовых“ появилась уже после „Шестой части мира“, в атмосфере возросшего общественного интереса к возможностям документального кино, вызванного последней вертовской работой, – это не случайно.
В книге воспоминаний, написанной через тридцать лет, Шуб называла себя учеником, а Вертова – учителем – это тоже не просто дань уважения памяти Вертову.
Кадры со вспашкой помещичьей земли отличались в ее картине неторопливостью, зрителю надо было дать поподробнее рассмотреть (и обдумать) то, что ушло в прошлое.
Но монтажные принципы двух художников сближались.
Кадры точно „адресуются“ в фильме Шуб в очень немногих местах, там, где нужно прочертить историческую канву.
Обязательная адресованность – это „выдумка“, которой Шуб обязана не себе.
Когда она снимала фильм на современном материале „Сегодня“ пли „Комсомол – шеф электрификации“ („КШЭ“), – она вообще не связывала себя адресованностью и широко использовала короткие кадры.
Хроника без мест и дат съемок, утверждал Шкловский, это карточный каталог в канаве.
Необязательно, все зависит от рук, в которые хроника попала, можно сделать и кинопоэму, как сделал Вертов.
А вот хроника, сведенная к датам, местам съемки и номерам паровозов, действительно часто становится похожей на каталог, только не в канаве, а на экране.
Хвала и честь Вертову! – он избежал этого.
Хвала и честь Шкловскому! – он доказал, что Вертов этого избежал.
Но каково Шуб? Обрадовалась бы она, узнав, что пошла по пути каталогизации?
Вряд ли, потому что на самом деле она занималась не кинокаталогом времени, а социально-историческим осмыслением эпохи и художественным переосмыслением материала, который отражал ее.
Иначе использованная Шуб „царская кинохроника“, покоившаяся в коробках с пугающей надписью „Контрреволюционный материал“, не стала бы картиной такого революционного накала.
Каталог бесстрастен к материалу, и в этом его достоинство.
Искусство – пристрастно.
Контакты между Вертовым и Шуб складывались не просто.
Разные обстоятельства порой разводили их, они сами этому не раз способствовали.
Нередко спорили друг с другом, нередко – теперь очевидно – по-пустому.
А шли – рядом, в одном сомкнутом строю.
В противопоставлениях Вертова и Шуб Шкловским его несогласия с Вертовым продолжали существовать, но все с меньшей аргументированностью, как бы по инерции.
Если талантливость Вертова в высказываниях Шкловского шестидесятых – семидесятых годов стала все чаще выходить из скобок, то несогласия стали все чаще в них попадать.
Все это отражает эволюцию, порой медленную, но – неуклонную, в общем понимании Вертова.
Но окончательные точки над „i“ не поставлены.
Заблуждения еще живут, хотя и в скобках, а их пора изжить вообще.
Это важно для понимания „истинных путей изобретения“ (выражение Эйзенштейна).
В конце декабря двадцать шестого года „Шестая часть мира“ пошла в большинстве московских кинотеатров, поступила в клубную киносеть.
На дискуссии в Ассоциации Революционной Кинематографии в январе следующего года представитель Госторга сообщил, что Гос-торгом собраны сорок два положительных отзыва партийной печати на фильм.
А четвертого января директор объединенной кинофабрики и член правления Совкино И. Трайнин подписал приказ об увольнении Вертова.
Отношения с правлением Совкино, особенно с Трайниным, у Вертова давно складывались напряженно. Возникла личная неприязнь, но она отражала принципиальные несогласия. Трайнину была чужда не только поэтика нестандартных вертовских фильмов, он вообще недооценивал роль документального кино в процессе кинопроизводства. Об этом много писалось и говорилось в то время. На диспуте „Пути и политика Совкино“ в октябре 1927 года об этом со всей резкостью говорил (как и многие другие участники диспута) Маяковский.
Формальным поводом для увольнения Вертова послужило то, что он не представил к сроку подробного сценария следующего своего фильма – „Человек с киноаппаратом“.
В ответ многие газеты и журналы немедленно выступили с осуждением принятого Совкино решения. В конце концов под давлением общественности правление согласилось принять Вертова на работу, но он понимал, что сложившаяся ситуация мало соответствует реализации тех совершенно новых творческих замыслов, которые им связывались с „Человеком с киноаппаратом“.
В Совкино Вертов не вернулся.
И все-таки картину „Человек с киноаппаратом“ он завершил.
В апреле в газетах появились сообщения: Вертов принял приглашение ВУФКУ (Всеукраинского фото-кино-управления) на постановку фильмов в плане Кино-Глаза и 1-го мая выехал в Киев и Одессу.
„Таким образом, – писала „Кино-газета“ в своем разделе „Вкратце“, – Совкино окончательно потеряло Вертова, по крайней мере на ближайший период“.
С отъездом Вертова на Украину перестала существовать как единый коллектив группа „Кино-Глаз“.
Рядом с Вертовым осталась Свилова, чуть позже к Вертову присоединился Кауфман.
Остальные разошлись по разным студиям и киногруппам.
Некоторые начали вести (с успехом) самостоятельную авторскую работу, в той или иной степени сохраняя верность киноглазовским традициям и принципам.
Но группа „Кино-Глаз“ распалась.
Вскоре Вертов получил из Москвы письмо от Копалина.
Дорогой Дзига!
Шлю привет и лучшие пожелания.
Читал недавно твое письмо Кауфману – очень рад, что ты хорошо себя чувствуешь в новой обстановке. Будем надеяться, что она не изменится в продолжение всей твоей первой работы на Украине. В этом залог успеха работы…
Ну, вот на днях уедет Кауфман, уйдет Лиза, и я останусь кинок в единственном числе на фабрике. Знаешь, как-то жаль вас всех! Раньше как-то недооценивал, насколько привык к вам, а вот уезжал ты, так чтобы не стыдно было, пришлось слезу проглотить. А теперь вот Кауфман… Ну, будем надеяться, что связь не порвется.
Картину „Человек с киноаппаратом“ Вертов, согласно предварительной договоренности с ВУФКУ, завершил на Украине.
Но прежде он снял на Украине (тоже согласно предварительной договоренности) другой фильм – юбилейную картину к 10-летию Октября. Вертов назвал ее „Одиннадцатый“ (имелось в виду вступление Советской страны в одиннадцатый год своего существования).
ГЛАЗА ГАЗЕТ
ВУФКУ на новых рельсах.
Беседа с новым председателем правления тов. А. И. Шуб.
…Новое правление придает особое значение работе в области неигровой фильмы и возлагает большие надежды на работающего сейчас в ВУФКУ по созданию юбилейной картины Дзигу Вертова.
„Кино-газета“, 1927, 14 июня
Руководитель киноков Дзига Вертов, снимающий для ВУФКУ к 10-й годовщине Октябрьской революции фильму „11-ый“, закончив съемки на Днепрострое и заводе им. Дзержинского, возвращается в Киев.
„Кино-газета“, 1927, 16 августа
Для съемок некоторых моментов октябрьских торжеств по фильме „11-ый“ в Москву приехала группа Дзиги Вертова. По окончании съемок Вертов приступает к монтажу картины.
„Кино-газета“, 1927, 15 ноября
В производстве ВУФКУ закончена фильма „Одиннадцатый“, сделанная по методу Кино-Глаза; автор – руководитель Дзига Вертов, главный оператор М. Кауфман. Содержание фильмы посвящено индустриализации страны. Все съемки по фильме „Одиннадцатый“ производились в экспедиции по маршруту: Волховстрой, Харьков (машиностроительные заводы), Днепропетровск (металлургические заводы), Гыврово – электрифицированная деревня, Одесса (маневры морского и воздушного флота) и Днепрострой. При съемке фильмы оператор Кауфман применил ряд технических приемов, углубляющих технику съемки неигровой фильмы. Дзига Вертов при монтаже фильмы стремился построить ее при минимальном количестве надписей.
„Правда“, 1928, 13 января
Советской Украине и всему красному СССР этот фильм посвящает автор.
Дзига Вертов
Съемки „Одиннадцатого“ протекали в очень сложных условиях, но киногруппа на них шла сознательно.
Выразительный, новый для зрителя материал доставали буквально из-под земли.
Искали его на земле, над водой, в воздухе – не в переносном, а в прямом смысле этих слов.
Как всегда, одна из мелодий в полифоническом звучании фильма должна была передавать тему электрификации страны.
Для этого в июне отправились на Волховскую станцию, но не просто сняли общие, „открыточные“ виды ГЭС.
Вертов и Кауфман вели съемку из подвесной люльки канатной дороги – камера проезжала над водяным обвалом у плотины.
Потом этот кадр Вертов совместил двойной экспозицией с ленинским изображением. Кадр запомнился, стал одним из самых знаменитых в истории советской кинохроники.
Во время съемки неожиданно появилось некое административное лицо, вызвало караульного начальника, управляющего станцией, устроило разнос и заявило, что всех арестует, – риск при съемке был велик.
В июле группа снимала в Днепропетровске, на металлургическом заводе им. Дзержинского.
На заводе выдали пропуска с большой черной надписью: „Будьте осторожны!“ и припиской: администрация не несет ответственности за несчастные случаи с посетителями завода.
Помощник Кауфмана, будущий оператор Б. Цейтлин, рассказывал в августовском номере „Советского экрана“, что Вертов, слепнущий от жары и искр, Гарри Пилем перелетает от аппарата к аппарату через кипучий поток чугуна, а у оператора брызгами чугуна выпалены „дырочки“ на коже, и они гноятся.
В съемочном дневнике Вертов записывал: лазили на домну, под домну, снимали сквозь огонь, дым, воду и угольную пыль.
Во время съемок горели подошвы ботинок.
Потом снимали взрывные работы на строительстве Днепрогэса (вокруг гремели фугасы, вздымалась земля, строительная площадка напоминала огромное поле боевых действий), а под Одессой – большие маневры Красной Армии.
Маневры частью сняли с воздуха, из самолета, и там, в воздухе, неожиданно встретились со старым другом, недавним киноком Александром Лембергом – из другого самолета он вел съемки фильма „Люди в кожаных шлемах“.
В августе группа с небес опустилась глубоко под землю – в четвертую лаву Лидиевской шахты Донбасса.
В первый раз они спустились в шахту на другой день после приезда. Накануне предупредили: падаете в бездну, разрывается сердце, как бы у вас не лопнули барабанные перепонки, вы входите в клеть и вдруг срываетесь камнем вниз, с боков и сверху хлещет вода, дышать трудно и т. д.
Так напугали, что путешествие в клети Вертову по крайней мере потом показалось приятной прогулкой в быстром лифте, хотя действительно со всех сторон поливал дождь и воздух ударял в уши, но это даже доставляло удовольствие своей новизной.
Опаснее оказалось путешествие по штреку, где в абсолютной темноте проносились, согнувшись и вытянув шеи, коногоны.
Они попали между двух коногонов, один спереди, другой сзади, очень испугались, спасла находчивость сопровождавшего инженера.
Но они спускались снова и снова, чтобы снять необходимые кадры, а потом, „отсыревшие“, с насморками и бронхитами, поднимались наверх и долго отогревались на солнце.
В одном из репортажей со съемок Кауфман призывал зрителей не смотреть шахты, снятые в ателье, – истинного представления не получите.
Возникали и другие трудности: то выходила из строя аппаратура, то не хватало пленки, то давала брак лаборатория во время проявления материала.
Участились столкновения с братом. В дневнике Вертов сетует на его несговорчивость, пишет, что „Кино-Глаз“ снимать с Михаилом было легче.
Но дело было не в несговорчивости брата.
Кауфман вырастал в самостоятельного художника, чувствовал в себе силу и опыт. Воля Вертова, наверное, иногда слишком сдерживала его, а Вертов, видимо, не всегда это ощущал и учитывал.
(После „Одиннадцатого“ они снимут вместе еще одну картину, потом творческие пути разойдутся навсегда.)
Но, несмотря ни на что, работа в целом двигалась слаженно.
Вертов снимал картину с упоением.
В сущности, впервые появилась возможность по-настоящему осуществить то, что декларировалось еще в ранних манифестах, – передать пластическое совершенство техники, машинного ритма, величие и гармонию индустриальных форм.
В журналах, фильмах Вертов не пропускал такую возможность и прежде.
Но он впервые встретился с подлинными гигантами промышленности и строительства того времени – с огромными заводами, шахтами, со строительством крупнейшей в Европе Днепровской ГЭС.
Строки его дневника дышат необыкновенной нежностью и любовью.
Он писал, что породнился с бессемером, с бегущими раскаленными рельсами, с вертящимися огненными колесами, со сверкающей проволокой, которая, как живая, поднимается, изгибается, кривляется, вращается, прорезает, как молния, воздух, и вдруг покорно сматывается спиралями в аккуратные пучки.
Картина, однако, не стала запоздалой платой давнему чувству, сегодняшним осуществлением не осуществленного вчера.
Эмоции Вертова, его влюбленность в завод, в трубы и бессемеры, пришлись ко времени, оказались даже более реальными, чем тогда, когда были впервые объявлены. Как раз в эти часы, дни, месяцы стремительно разворачивалась эпоха индустриализации страны.
Нэп еще бушевал вовсю, но близился его конец.
Страна получила (и получала все больше) то, ради чего он был введен, – силы и средства для выхода из темноты и отсталости.
Многие прежние ленты Вертова были связаны с периодом временного отступления: вчерашняя жизнь, казалось бы, навсегда провалившаяся в тартарары, вдруг стала уживаться в некоем противоборствующем равновесии с ростками будущего, часто еще не окрепшими.
Нэп не кончился.
Тем более не кончилось противоборство.
Но кончилось равновесие – Вертов это чутко уловил.
Ростки окрепли.
„Одиннадцатый“ совпал с началом решительного наступления и рассказал о нем.
Рассказал о стране, превращавшейся в огромную новостройку.
Рассказал о вековой тишине, расколотой динамитными запалами, перезвоном тысяч и тысяч лопат, перестуком топоров и молотков, взвизгом пил, надрывным свистом юрких маневровщиков, ухающими ударами молотов.
Фильм начинался с первобытного спокойствия приднепровских пейзажей и разрытой у днепровских порогов скифской могилы, черными глазницами смотрел древний воин в далекое небо, вслушиваясь в тишину.
И вдруг подавала сигнал труба, ударял предупредительный колокол, запалялся шнур, и, через мгновение, вздрогнув, земля вставала дыбом – раз, и еще раз, и еще…
А рядом с могилой перекатывались по рельсам сорокатонные краны. Приседая на стрелках, шли тяжелые поезда с грузами. Сновали вагонетки.
„Скиф в могиле – и грохот наступления нового“, – записывал Вертов.
Слово-радио-тему Вертов исключил из этого фильма, вообще свел количество слов к минимуму.
Он вступал в спор со своей прежней картиной, но не ради спора.
Патетика „Шестой части мира“ наиболее полно выражалась сочетанием изображения со звучащим словом.
Патетику „Одиннадцатого“ Вертов стремился выразить иначе: через звучание самого изображения.
Исключив слово-радио-тему, он не исключил радио-тему.
В предыдущей картине зритель слышал (обращенные прямо к нему) надписи. В новом фильме он видел изображения, которые звучали.
Это был поиск новых форм, но он вытекал из конкретной смысловой задачи: передать пафос индустриального строительства через грохот наступления нового.
Через то, что в картине было названо „октябрьской перекличкой“ – заводов и шахт, строек и деревень.
Днепрострой, электрификация, добыча угля, выплавка чугуна – все это были как бы отдельные мускулы пары могучих рабочих рук, отдельные усилия в общем напряжении, в едином коллективном порыве к труду.
Передавая монолитность порыва, плотность общих усилий, Вертов рассекал кадр по горизонтали: в верхней части трудились два молотобойца, в нижней проходил товарняк, груженный рудой, без нее нельзя было ни сделать этих молотов, ни уложить рельсы, ни вбить упругий костыль.
Вариантом названия картины были „Великие будни“.
Октябрьская перекличка сливала, не давая потеряться в будничном грохоте новостроек, все голоса.
В нее вплетались и голоса часовых Родины, участников маневров, красноармейцев и краснофлотцев, они стояли на страже Октября, на страже ленинских заветов – в финале над ликующей во время октябрьских торжеств Красной площадью, над Мавзолеем возникали краснофлотцы с отомкнутыми у винтовок штыками.
„Если это та самая фильма, – писал Михаил Кольцов в „Правде“ 26 февраля 1926 года в большой статье об „Одиннадцатом“, – из-за которой Вертову пришлось уйти из Совкино, то в выполненном виде она является живым упреком людям, препятствовавшим ее постановке“.
„Одиннадцатый“ повторял некоторые прежние мотивы.
Он стал еще одним пробегом Кино-Глаза в направлении советской действительности.
Но менялась действительность – менялся маршрут киноглазовского движения. „Шестая часть мира“ рассказала о коллективных усилиях, подготавливающих плацдарм для наступления, „Одиннадцатый“ – о всеобщих усилиях народа, поднявшегося уже в атаку.
Новым поворотом прежней темы Вертов откликался на биение пульса эпохи.
Но в этом показе нового, индустриального среза времени Вертов порой оказывался монотонен, несмотря на многоголосие, слившееся в грохоте наступления.
Голосов было много. Но много было одинаковых голосов – не по физическому звучанию (гул взрывных работ мало походил на удары молотов, шум водяного обвала у плотины выстроенной ГЭС на перезвон лопат в котловане строящейся), а по вызываемым голосами чувствам.
Пафос прежних лент обычно вырастал из преодолений контрастов: вчера – сегодня, раньше – теперь. В „Шагай, Совет!“ народ одной рукой очищал жизнь от грязи прошлого, другой – строил будущее.
В „Одиннадцатом“ будущее строилось обеими руками.
С прошлым еще не было покончено, но изменение в соотношении сил этим ощущением свободы рук передавалось прямее всего.
Новое соотношение сил, предвещая невиданные победы в ходе развернувшегося наступления, вдохновляли Вертова.
Но энтузиазм будущих побед порой обгонял будничное напряжение сегодняшней атаки.
Пафос не вырастал из быта, а в какой-то степени отрывался от него.
Высокая нота звучала мощно, но ей недоставало переливов и модуляций.
Кольцову показалось, что в картине слишком „подрезаны“ места, где вместе с машинами действуют люди, возникает, как он считал, некоторая „механистическая сушь“ – начинаешь скучать по живым строителям.
Это отмечали и другие критики, считая, что в „Одиннадцатом“ прекрасно снятая и энергично смонтированная индустрия заслоняет человека.
Но дело было не в количественных соотношениях техники и человека и не в длине планов, в которых были сняты люди.
Людей в картине было немало, а короткие „человеческие“ планы Вертов давал и раньше.
Сам поэтический жанр требовал предельно концентрированной во времени выразительности. К тому же документальное кино еще не знало (не знал этого и Вертов), как углубиться в человека и через его облик, внешнее поведение вскрыть индивидуальный внутренний мир. Держать одного человека на экране долго было делом бессмысленным и скучным: увеличение времени не служило гарантией того, что Кольцов перестал бы скучать по живым строителям.
С другой стороны, в „Одиннадцатом“ за движением машин и механизмов ясно угадывалась воля миллионов, „коллективного человека“, как писала критика.
Вертов стремился в картине к предельно укрупненному и монолитному изображению человека.
Он как-то заметил: киноки никогда специально не рвутся к символике, однако, если обобщения вырастают до символа, то это не приводит их в панику.
Но в „Одиннадцатом“ человек не вырастал до символа, а сразу же давался как символ. Кадры, подобные тому, где гигантский рабочий поднимался с молотом над днепровскими порогами, подчеркивали это.
Человеческое начало уступало место технике не потому, что техники было много, а человека мало, а потому, что техника на экране была живой, а люди – символами.
Они не жили, а представительствовали – от того пли иного класса, той или иной социальной группы.
Их изображения на экране как бы писались с прописных букв: не рабочий, а Рабочий, не шахтер, а Шахтер, не крестьянин, а Крестьянин, не краснофлотец, а Краснофлотец, что подчеркивалось ракурсами, съемками с нижних точек.








