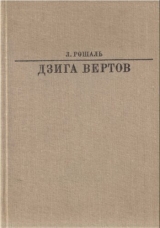
Текст книги "Дзига Вертов"
Автор книги: Лев Рошаль
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Перенапрягать слух публике не требовалось. Это облегчало понимание вертовского замысла.
В появляющихся одна за другой статьях фильм не упрекали в какофонии, музыкальной бестолочи, – подобная тема просто не возникала. Говорилось о цельности художественной композиции, о том, что она изумительна, фильм даст так много нового, что по нему может еще долго учиться целое поколение режиссеров.
Композитор Ганс Эйслер считал, что не только режиссеры – все музыканты мира могут учиться по нему, ибо «Энтузиазм» «есть самое гениальное из того, что нам дало звуковое кино».
Никто не упрекал фильм и в формальном любовании машиной, трудом в абстрактном смысле, когда зритель будто бы не видит, что все происходит в социалистической стране.
Наоборот, осевой линией предельно яростного спора стала социальная патетика ленты.
Коммунистическая, левая печать восторженно принимала «Энтузиазм», видела в нем поэтический и политический документ о строительстве и строителях пятилетки.
То же самое видела (и видела очень хорошо) правая печать, на этом основании решительно фильм отвергая.
«Энтузиазм» оказался в водовороте политической жизни Германии. Просмотры сопровождались рабочими и студенческими демонстрациями и полицейскими кордонами у кинотеатров.
Это же происходило в соседних швейцарских и австрийских городах. В пограничном Базеле показ совпал с выборами, коммунистическая молодежь включила просмотр в свою избирательную кампанию и была поддержана городским студенчеством.
В октябре министр внутренних дел Германии Вирт письменно уведомил Германскую Лигу независимого фильма, что не разрешает дальнейший показ «Энтузиазма» на всей территории страны «по принципиальным соображениям».
Д-р Вирт ничего не добавил, но этого было достаточно.
Газеты и журналы опубликовали протест крупнейших деятелей немецкой культуры. Он заканчивался словами: «Господин министр внутренних дел д-р Вирт высказал свое мнение: „Запрещается по принципиальным соображениям“. Каждый, кто этот фильм видел и слышал, должен протестовать против этого запрещения также по принципиальным соображениям».
Против запрещения картины выступили и немецкие рабочие, особенно решительно в Гамбурге.
Но восстановить фильм на экранах Германии не удалось.
Тогда один из активнейших в Европе пропагандистов советского киноискусства Айвор Монтегю организовал приглашение Вертова и его фильма в Лондон. В Англию Вертов поехал через Голландию.
Во время встречи с ним в Амстердаме крики революционно настроенной аудитории заставили выступавших обращаться к режиссеру не «господин Вертов», а «товарищ Вертов».
Девятого ноября он был в английской столице, а пятнадцатого, в воскресенье, лондонское «Фильм сосайте» (кинообщество) свой седьмой зимний сезон открыло «Энтузиазмом» в присутствии автора. Вступительное слово произнес Монтегю.
В информации газеты немецких коммунистов «Роте Фане» сообщалось, что на премьере в Лондоне половина зала состояла из левых представителей, другая – из официальных лиц, последние, чтобы снизить эффект, произведенный фильмом, в конце встали и единодушно запели «Боже, храни короля».
Ситуацию раздвоенности и противоборства отразила и английская пресса.
«Тем, кто любит, чтобы воскресенье было днем отдыха, – писала одна из газет, – определенно не следовало ходить на открытие этого сезона в кинообщество, где одним из номеров программы был „Энтузиазм“ („Симфония Донбасса“) – русский звуковой фильм, показывающий нам, каковы, как думают большевики, будут идеальные условия для выполнения пятилетнего плана». Далее автор советовал советским женщинам чаще пудрить лица и обращаться к косметике, не считая это «грязным буржуазным предрассудком».
Но даже ироничная и респектабельная английская буржуазная пресса не могла отказать фильму в страстной захватывающей силе. «Картина является, – писала на другой день после премьеры „Энтузиазма“ „Морнинг пост“, – определенным прославлением пятилетки и выполнена так драматично и живо, что поднимает энтузиазм убежденных коммунистов и убеждает колеблющихся… Правительства других стран, – продолжала газета, – должны тщательно изучить этот фильм как образчик пропаганды, потому что он представляет собой первоклассное пропагандистское произведение, будучи вместе с тем одним из интереснейших экспериментов в области повой техники звукового кино».
Полемика не касалась частностей, в бескомпромиссном споре стороны сталкивались по принципиальным соображениям.
…Через день после показа «Энтузиазма» в лондонском Кинообществе к Вертову явился незнакомый человек.
– Я пришел к вам от имени Чарли Чаплина. Он прислал за вами авто и настойчиво просит сейчас же приехать к нему…
– С какой целью?
– Чарли Чаплин просит продемонстрировать ему «Энтузиазм». В маленьком зале студии «Юнайтед Артистс» состоялся просмотр.
Вертов записал: «17 ноября. Встреча с Чарли Чаплином. Прыгает во время просмотра. Что-то восклицает. Много говорил о фильме. Передал через Монтегю письмо – отзыв об „Энтузиазме“»:
Я никогда не мог себе представить, что эти индустриальные звуки можно организовать так, чтобы они казались прекрасными. Я считаю «Энтузиазм» одной из самих волнующих симфоний, которые я когда-либо слышал.
Мистер Дзига Вертов – музыкант. Профессора должны у него учиться, а не спорить с ним.
Поздравляю.
Чарлз Чаплин.
Этот отзыв был опубликован берлинской газетой «Фильм-Курир», а затем перепечатан многими киноизданиями мира.
Но Чаплин этим не ограничился.
Отвечая на анкету газеты «Таймс» о лучшем фильме 1931 года, он опять назвал «Энтузиазм».
Такая стойкость его отношения к вертовской картине вряд ли объясняется только формальными достоинствами ленты (удачей звукового эксперимента), как это чаще всего принято объяснять.
Кино (тем более документальное, и уж тем более то, которое делал Вертов) – не абстракция, а Чаплин – не тот художник, которого могли бы покорить сами по себе хроникальные звуки, пусть даже виртуозно организованные.
Он назвал «Энтузиазм» не просто симфонией, а одной из самых волнующих симфоний, которую когда-либо слышал.
Вряд ли его взволновало лишь то, что он услышал, вне того, что увидел, – вне симфонической слитности этих двух жизненных потоков. И вне ощущения истинного драматизма, человечности и страстности увиденного и услышанного. Скорее всего, Чаплин обнаружил в ленте нечто очень важное для себя. Может быть, неожиданный, новый поворот своей излюбленной темы маленького, незаметного человека, пытающегося обрести право на достоинство. В картине Вертова он увидел простых людей, которые выполняли те же трудовые операции, что выполняются в любом уголке мира, но это были люди, уже обретшие право на достоинство.
Не случайно польский журнал «Кино», перепечатав ответ Чаплина на анкету «Таймс», сопроводил ее – по сообщению одной из наших газет – язвительным примечанием: «Чарли Чаплин в восторге от „Энтузиазма“. Характерно, как может Чаплин – миллионер – симпатизировать строю, против которого восстала вся Европа. Чаплин, как никто, знает прекрасно капиталистический мир. Почему же он в нем разочаровался?»
Речь шла о симпатиях не фильму, а строю.
Задав свой вопрос: «почему он разочаровался?», журнал сам на него и ответил – ведь Чаплин знает капиталистический мир, как никто…
О своей зарубежной поездке Вертов расскажет в статье «Чарли Чаплин, гамбургские рабочие и приказ доктора Вирта».
Статья выйдет в третьем номере журнала «Пролетарское кино» за 1932 год.
А в следующих двух номерах, четвертом и пятом, развернется еще одна дискуссия о вертовском творчестве.
В конце концов о ней можно было бы и не вспоминать – сколько их уже развертывалось!..
Но по своему похожему на объявление войны зачину, по своей, как тогда говорили, боевитости эта превосходила все прежние.
Однако война была странной.
Несмотря на гром всех калибров, удары наносились по малозначительным объектам. Стороны вступали в бесконечные терминологические споры, позиционные конфликты, цепляясь за слова, второпях сорвавшиеся фразы.
Ответственный редактор журнала В. Сутырин (его статьей в четвертом номере «Вол или лягушка?» открылась баталия) и давний, еще с начала двадцатых годов, противник вертовских начинаний критик Н. Лебедев, не заботясь об эволюции во взглядах художника, считая его собственные поправки к прежним высказываниям вынужденными отступлениями, неискренними прикрытиями старых ошибок, порой точно «ловили» Вертова на отдельных противоречиях, на некоторых естественных и неизбежных просчетах практики.
Вертов, поддержанный В. Ерофеевым, в ответ вынужден был тоже касаться частностей, вести разговор о вещах второстепенных, давно им пройденных, отброшенных в пути.
Лебедев писал: в статьях Вертова и Ерофеева невозможно понять, что те защищают, из-за чего лезут на стенку.
Лебедев был не совсем прав, но если бы даже был прав совсем, то это не помешало бы отнести его собственные слова к самому себе и своему стороннику Сутырину.
Смысл полемики – глубокий и принципиальный – не улавливался.
Зато вполне определенно улавливались ее цели. И они у сторон были разными.
За мелочами теоретических разногласий маячило существенное: быть или не быть тому кинематографу, который открыл Вертов?
Вступив в спор по мелочам, Вертов ни на мгновение не терял из виду этот главный вопрос затеянной (не им) полемики, утверждая – быть!
Он вынужден был утверждать это, казалось бы, естественное право, так как его оппоненты не то что ставили под сомнение естественность подобного права, а без каких бы то ни было сомнений это право отвергали. Не быть!
Дискуссию сопровождал редакционный комментарий, призывалось всякие дальнейшие дискуссии с «документализмом» (то есть Вертовым) закончить. «Мы стоим, – ясно и спокойно объяснял журнал, – на позициях непримиримой борьбы с документализмом, мы поставили задачей его окончательный разгром».
В соответствии с задачей Сутырин и написал статью (большую, с продолжением в пятом номере), доказывал, что «документалисты» – это лупоглазые лягушки, они пытаются надуться до размеров вола (под ним подразумевалось игровое кино), но в конце концов, конечно, лопнут. «Если это случится, – весело шутил Сутырин, – им будет очень больно, а их папа и мама начнут плакать горькими слезами».
Не менее крут был и Лебедев, считал, что документализма как творческого течения уже нет, оно разложилось, превратилось в «труп, по этот труп еще не выброшен на свалку истории».
Поле полемической битвы превращалось в поле брани.
Под прикрытием гремящих, воинственных (и часто по топу совершенно безжалостных) вульгарно-социологических обобщений оппоненты Вертова вели наступление, они выражали рапповскую позицию руководства АРРКа, журнал был органом ассоциации.
С позиций узко-ограниченного рапповского толкования художественных процессов против Вертова и особенно против «Энтузиазма» достаточно громкие голоса раздавались и прежде. Голоса принадлежали нередко по-настоящему талантливым людям (А. Фадееву, В. Киршону). Но зашоренность рапповской догмой мешала в тот момент понять масштабы вертовских открытий.
Утрата верного ориентира приводила к желанию с позиций, казалось, подлинной (а на самом деле видимой) идейности «разоблачать», «выбрасывать на свалку истории» (а потом еще недоумевать, из-за чего люди лезут на стенку).
Но у истории свои пути.
Она и на этот раз пошла иной дорогой.
Первая часть статьи Сутырина печаталась в апрельской книжке «Пролетарского кино».
А 24 апреля «Правда» опубликовала Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Все рапповские организации ликвидировались ввиду опасности «превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству».
В пятом номере журнала «дискуссия» с документалистами продолжалась вовсю. Именно в этом номере редакция призывала покончить всякие споры с документализмом, приступить к его разгрому, разоблачению и выбрасыванию на свалку истории.
В откликах на Постановление ЦК ВКП(б) эти материалы еще долго цитировались для подтверждения осужденных партией методов. «Это не критика, – писала газета „Советское искусство“, приводя отрывки из статьи Сутырина „Вол или лягушка?“, – …но издательство над художниками, плохо или хорошо, по с большой искренностью работающими 15 лет в советской кинематографии, обогатившими ее своим опытом».
В то же время стали появляться (в том числе и в «Пролетарском кино») статьи, заново оценивающие «Симфонию Донбасса», писалось, что картина, несмотря на отдельные просчеты экспериментальных исканий, неизбежных в области нового мастерства, совершила главное – прорвала цепь стандартных документальных фильмов.
23 апреля Вертов назовет днем своего «освобождения от раппства».
В жизни Вертова предельно обостренные минуты выпадали не раз. Но он знал: правдоподобие никогда не возьмет верх над правдой. Бескрылость никогда не спалит крыльев энтузиазма.
Даже если это восковые крылья Икара.
Можно ошибиться в конкретном расчете и, сгорев на солнце, рухнуть в море.
Но ошибка конкретного расчета далеко не всегда синоним конечного идейного просчета.
Вертов об этом часто думал.
Нельзя научиться летать, не падая.
Второе название «Симфония Донбасса» имело для Вертова глубокий смысл.
Энтузиазм тружеников первой пятилетки.
И энтузиазм художника, решившего рассказать о людях эпохи.
Энтузиазм как форма, мера, степень творческого бытия.
«Выеду больной, если это необходимо энтузиазму», – телеграфировал Вертов на «молнию» из Киева об обязательности его присутствия на просмотре.
Речь шла о фильме, но кавычки в телеграммах не ставятся, и игра слов оказалась точной.
Вертов был готов на все во имя энтузиазма без всяких кавычек.
Во время работы над Донбасс-картиной он набросал в дневнике маленькую, аккуратную схемку: посредине слово энтузиазм (снова без кавычек), а с нескольких сторон на это слово ведут наступление стрелки с подписями «неразбериха», «организационные меры» и т. п.
Все то, что мешает энтузиазму – не фильму, а опять же состоянию творческого бытия.
Вертов на многих производил впечатление человека замкнутого, высокомерного, но внутренне был чрезвычайно расположен к людям. Однако на дружбу легко не шел, особенно с годами.
Рядом друзей было не много.
Но он никогда не считал, что их мало вообще.
Они разбросаны по всему земному шару, записывал ой в дневнике в апреле тридцать седьмого года, мечтал когда-нибудь устроить их перекличку.
«Мои друзья – это изобретатели, энтузиасты, дети, влюбленные, композиторы в момент вдохновения, поэты, забывающие об обеде и сне, испанские герои, отдающие свою жизнь (запись сделана в разгар боев с фашизмом на испанской земле. – Л. Р.) за светлое будущее… Этих людей вы чувствуете сразу с первого взгляда, с первого рукопожатия… И они вас любят и чувствуют…».
Но они очень непрактичны, добавлял Вертов, и живут неуклюже, с трудом приспособляясь ко всяким «строго воспрещается».
Энтузиазм не втискивается в строго воспрещающие рамки.
На пути к истине могут быть ошибки, но на пути к истине. Ошибки в конкретных расчетах не совершаются как раз на противоположных путях. Здесь важно не завтрашнее достижение истины, а комфортабельное спокойствие сегодняшнего дня.
Какой уж тут энтузиазм?!..
«Симфония Донбасса» была третьей и последней картиной, снятой Вертовым на Украине.
Он провел здесь около пяти лет.
Это были годы необыкновенно трудной, но вдохновенной работы.
Случалось всякое: и «неразбериха», и «организационные меры», и волокита, и бестолковщина. Однажды большим газетным фельетоном его даже обвинили в «рвачестве и дезертирстве» (потом принесли печатные извинения за совершенно неверную информацию). В другой раз во время съемок в Горловке некий «товарищ из центра», случайно натолкнувшийся на группу, бессмысленно и в грубой форме запретил съемку, несмотря на имеющиеся разрешения со всеми печатями, группа оказалась в простое, государство несло убытки. За Вертова вступилась газета «Вечерний Киев», предлагала консервировать в кассете кинокамеры каждого бюрократа, каждого помпадура, странствующего или оседлого, каждого, кому надоело пребывать в безвестности…
Но всевозможные организационные и прочие трудности кинопроизводства не шли ни в какое сравнение с главным: украинская советская кинематография протянула Вертову дружескую руку в одну из трудных минут его жизни.
На Украине он осуществил свои сокровенные замыслы: и юбилейную картину о десятилетнем октябрьском марше страны, и сложнейший пластический эксперимент в области чистой кинописи фактов нового быта и бытия, пронизанных острым взглядом человека с киноаппаратом, и давнишнюю мечту о воспроизведении звуковой картины мира, ритмически и смыслово организованной в патетическую симфонию.
Одна из газет того времени справедливо писала, что внимание, проявленное к Вертову, навсегда останется исторической заслугой украинского кино.
Вертова пригласила Москва, студия «Межрабпомфильм».
Когда в начале двадцать пятого года вышла «Ленинская Кино-Правда», газеты сообщали: лента является частью готовящейся следующей большой работы киноков – фильма «Ленин».
С тех пор прошло почти десять лет. Поиски, раздумья, ошибки, догадки, драматические столкновения и постоянное накопление нового опыта.
Вертов снял за эти годы разные, не похожие друг на друга фильмы.
Каждый из них имел самостоятельное значение.
Но все вместе они теми или иными гранями подготавливали главный фильм вертовской судьбы.
Ликвидация партией рапповских методов создавала творческую атмосферу для работы.
Вертов шел к своему второму (после «Шестой части мира»), еще большему и безоговорочному, триумфу.
ГЛАЗА ГАЗЕТ
Вопрос: Ваши творческие замыслы на будущий год?
Ответ: В 1932 году я думаю поставить фильм о Ленине.
Вопрос: Какие задачи Вы ставите при этом?
Ответ: Пока ставлю лишь одну задачу – подать этот фильм в форме, понятной миллионам.
Д. Вертов. Новогоднее интервью газете «Рот-Фронт»
Мною закончена работа над фильмом «Три песни о Ленине».
Д. Вертов. Как мы делали фильм о Ленине. «Известия», 1934, 24 мая
На советский экран выходит картина поистине замечательная, картина большой силы, заражающая зрителя – слушателя глубоким волнующим чувством… То, что было в свое время кинохроникой, стало выразительным элементом художественного рассказа.
«Правда», 1934, 23 июля
…Движение идей сквозь весь фильм…
Они переплетаются, повторяются, развиваются от детали к обобщению, всегда оставаясь предельно конкретными, как всякий кино-документ.
«Известия», 1934, 29 июня
Это настоящий гимн нашей великой стране, которой указал путь Ленин…
«Лит. газ.», 1934, 16 июля
Портрет Ленина Дзига Вертов дает как лицо класса.
«За коммунистическое просвещение», 1934, 5 сентября
Картина о Ленине сделана с изумительной простотой, но в этой простоте языка побеждающая сила ее воздействия.
«Раб. Москва», 1934, 12 сентября
14 сентября посол США г-н В. Буллит и находящийся в Москве известный английский общественный деятель Сидней Вэбб в сопровождении ответственных работников Наркоминдела были в «Межрабпомфильме» на просмотре фильма «Три песни о Ленине».
В книге записей г-н В. Буллит написал:
«Я редко бывал настолько взволнован произведениями искусства. Фильм превосходен. Он дает потрясающее впечатление о мощи человеческой воли, преодолевающей все препятствия в своем стремлении к утверждению новых форм жизни. Выражаю свои сердечные поздравления и глубочайшую благодарность».
«Правда», 1934, 16 сентября
Вертов как бы подымает зрителя на огромное возвышение, с которого виден весь Союз, весь мир…
«Веч. Красн. газ.», 1934, 31 октября
Первого ноября в 11 крупнейших кинотеатрах столицы началась демонстрация звукового фильма «Три песни о Ленине». Фильм был восторженно встречен зрителями… В первый же день «Три песни о Ленине» в Москве просмотрело до 30 тысяч человек. В этот же день началась демонстрация фильма во всех крупнейших городах Союза.
«Сов. торговля», 1934, 4 ноября
Вчера командный состав Московской пролетарской дивизии на фабрике «Межрабпомфильм» просматривал кинокартину «Три песни о Ленине». От просмотренной картины командиры остались в восторге. Завтра в 10 час. утра красноармейцы Пролетарской дивизии в строю и с музыкой пройдут по городу и направятся в два кинотеатра «Форум» и «Горн», где для них организуется специальный просмотр.
«Веч. Москва», 1934, 31 октября
Вся площадь движется, поет, гремит: оркестры сливаются с молодыми голосами, заглушают четкое вышагивание полков. Люди, владеющие в совершенстве и мастерстве оружием и военной техникой, поддерживают перед собой пурпурные полосы плакатов: «Мы идем слушать „Три песни о Ленине“». Это Московская Пролетарская дивизия в полном составе идет в кино.
Полки расходятся по кинотеатрам «Межрабпомфильма». Красноармейцы перестают петь, чтобы слушать песню всей страны.
Дзига Вертов удачно и талантливо сконцентрировал в одном клубке все нити нашего жизненного многообразия: песни борьбы, песни скорби и утрат, песни радости и счастья. И когда в «третьей песне» на экране появляется бетонщица, скромно и непосредственно повествующая: «Ну, так вот я перевыполнила план, и меня наградили орденом Ленина…», красноармейцы заглушают этот тихий, еле слышный голос восторгом и овациями.
«Правда», 1934, 2 ноября
Нью-Йорк. 8 ноября (ТАСС). Американская печать с восхищением отзывается о советском фильме «Три песни о Ленине», который начал демонстрироваться в американских кинотеатрах 7 ноября. «Нью-Йорк таймс» пишет, что фильм отражает «необычайно прекрасный порыв. Он является волнующим даром памяти Ленина…». «Геральд трибюн» отмечает, что фильм отличается «исключительной живостью и зачастую настолько красноречив, что фильмы Голливуда кажутся рядом с ним бледными ученическими произведениями».
«Правда», 1934, 10 ноября
Рим. 19 ноября. Еженедельный литературно-художественный журнал «Квадривио», издающийся в Риме, поместил статью своего корреспондента Виничио Паладини о советском кинофильме «Три песни о Ленине».
Автор восторженно отзывается о картине… «Я считаю, – пишет Паладини, – что фильм „Три песни о Ленине“ можно несомненно причислить к ряду наиболее выдающихся фильмов в истории кинематографии по его высокой драматичности, глубокому лиризму и документальной ценности…»
«Правда», 1934, 20 ноября
Много песен поют о Ленине, тысячи страниц написано о нем, сотни картин изображают его, но нет еще художника, поэта, писателя, драматурга, который показал бы Ленина во весь рост полно и всеобъемлюще. Он должен явиться. Будем думать, что поэт Н. Полетаев перехватил в строках, утверждая: «Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет». Прошло десять лет, и вот первое подлинное произведение искусства о Ленине уже появилось. Д. Вертову принадлежит честь создания фильма, в котором Ленин – человек, вождь, организатор, гений – показан с огромной силой, взволнованностью, убедительностью и правдивостью.
«Пролетарий» (Харьков), 1934, 3 ноября
Об этой картине писали Фадеев и Вишневский, Вс. Иванов и Кукрыниксы, Февральский и Шкловский, Юткевич и Эренбург, многие давние друзья и многие недавние недруги. И каждый находил слова неожиданные, не просто любезные и комплиментарные. В них всегда было больше, чем простое поздравление с удачей, – драматизм и радость потрясения. Не умилительное сюсюкание, а всегда ощутимые слезы искреннего переживания.
Лисицкая вспоминает: после одного из первых просмотров для прессы и киноработников, как только в зале зажегся свет, один из присутствующих громко сказал:
– Товарищ Вертов, вы знаете, что до сих пор я был вашим противником. Но разрешите мне сейчас пожать вашу руку в благодарность…
Руку благодарности в бесчисленных рецензиях, статьях Вертову протягивали кинокритики и журналисты, в письмах – рабочие, колхозники, красноармейцы со всего Союза.
И выдающиеся мастера культуры – со всего света.
Луи Арагон писал, что со времени «Потемкина» ничто не достигало такого величия на экране.
Испанские поэты Рафаэль Альберти и Мария Тереза Леон называли картину «исключительной в мире».
Жан-Ришар Блок утверждал, что племя советских режиссеров не угасло и честь надежд возлагается теперь на плечи Вертова, он желал успеха «новому Христофору».
Гарольд Ллойд считал фильм в числе тех, которыми СССР может особенно гордиться.
Мартин-Андерсен Нексе говорил, что ему нужно время, чтобы прийти в себя от потрясения.
Ромен Роллан отнес «Три песни о Ленине» к фильмам, по которым он «изголодался».
Список можно было бы продолжить.
Но выпуску картины, ее триумфальному успеху предшествовала небывало трудная работа.
С января до осени тридцать третьего года велись съемки в Москве, Харькове, на Днепрострое, в Азербайджане и главным образом в Средней Азии – в Узбекистане и Туркмении.
Снимали картину три разных (и по возрасту и по опыту) оператора – Д. Суренский, Б. Монастырский, М. Магидсон. Но рядом всегда находился Вертов, в отснятом материале не терялось стилистическое единство.
Труднее всего добывался материал в Средней Азии. Не хватало денег и средств передвижения, от Мерва до Ферганы Вертов и Суренский почти весь путь прошли пешком. Донимали болезни, испепеляющая жара днем, холод ночью. «Мне тоже, как и другим, голодно, – отвечал Вертов „Межрабпомфильму“ на предложение прекратить съемки в Узбекистане, ограничась фильмотечным материалом. – Думаю, даже значительно голоднее, так как я нахожусь на съемке в поле, вне города и вне пищи. Мне так же, как всем, угрожает и тиф, и малярия, и пендинка и пр. и пр. прелести здешних мест. Тем не менее я не бегу отсюда и не считаю возможным бежать в Москву, пока мы не кончим в основном работу».
Группа снимала остатки старого быта и новую жизнь Востока.
В Ферганской долине участники экспедиции преодолевали путь в 20–30 километров от кишлака к кишлаку, Чтобы послушать и записать народные песни о Ленине, а седобородые певцы (вспоминал звукооператор П. Штро) не могли взять в толк, какое отношение к их песням имеет странная белая коробочка микрофона.
Песенников было много, но не каждый знал песни о Ленине, приходилось искать снова.
Киноэкспедиция в Среднюю Азию была самой тяжелой в жизни Вертова.
Но бежать в Москву он себе позволить не мог, это означало бы бегство от собственного замысла.
Вертов вынашивал его долго и трудно.
Он изучил свои прежние ленты о Ленине – киножурналы, одночастевки, «Ленинскую Кино-Правду».
Сохранилось множество заметок, записей, набросков, композиционных этюдов, сценарных планов то в строгой форме последовательно чередующихся эпизодов, то в свободном изложении поэтических ассоциаций. В каждом был свой поворот темы. Затем многое опять отметалось, оставались лишь крупицы, но самого существенного, они вновь соединялись между собой в поисках окончательного решения.
Харьковская газета «Пролетарий» была не права, когда писала о фильме как о первом подлинном произведении о Ленине, ведь уже существовала поэма Маяковского. Но газета не случайно почувствовала первопроходческую сущность вертовской ленты по отношению ко многим тогда уже появившимся произведениям на ленинскую тему (и, можно добавить, ко многим, которые еще появятся).
Вертов все время думал об одном: как сделать о Ленине фильм-документ при сравнительно небольшом количестве сохранившихся ленинских кадров, к тому же эти кадры уже многократно использовались?
После долгих поисков он в конце концов пришел к единственно верному решению: дать Ленина через «отраженный показ».
Вертовская картина о Ленине не была картиной о Ленине в прямом, так сказать, биографическом смысле слова.
Но она была картиной о Ленине с начала и до конца. Его мысли, понимание человеческих драм, взгляд на мир и историю существовали во всех кадрах и эпизодах, хотя многие из них повествовали не о Ленине, – о фактах, отделенных от его смерти последующим десятилетием.
Вертов, разумеется, не обошелся вообще без ленинских прижизненных съемок. Наоборот, он включил в фильм не только известные в то время кадры, но и найденные Свиловой во время работы над картиной. В фильмотеках Москвы, Тбилиси, Киева, Баку, Ленинграда и других городов она просмотрела около 100 000 метров архивного материала. Ей удалось разыскать десять новых киноснимков Ленина. Вторая песня картины почти целиком строилась на монтаже кадров живого Ленина и кадров его похорон.
Но ленинская тема не исчерпывалась ленинским материалом.
Студийная газета «Рот-фильм» в информации о ходе съемок приводила слова Вертова: «Нужно показать, как Ленин отразился в Днепрострое, в песнях слепого туркменского поэта, в ленинском призыве на постах пятилетки, во всем том, во что вошел Ленин в наши дни».
Однако Вертов понимал, что отраженный показ не должен сводиться к простому перечислению достижений, к монтажному калейдоскопу недавно возникших заводов, плотин, совхозов-гигантов и т. п. Нужно найти такой поворот темы, который был бы конкретен, по-человечески прост и одновременно давал возможность выхода к широким социальным обобщениям.
Этот поворот Вертов нашел в рассказе о судьбе женщины Востока.
В находке была точность: самое забитое условиями старой жизни, темное существо, глядевшее на мир сквозь сетчатую клетку чадры, освобождалось от рабства тысячелетних предрассудков.
«В черной тюрьме было лицо мое…» – зачин первой песни.
Вертов вкладывал в него образный смысл: черная тюрьма (чадра) – царская тюрьма народов.
О женщине Советского Востока, сбросившей чадру, рассказывала первая песня. Вернее, сама женщина рассказывала в песне о себе:
В черной тюрьме было лицо мое,
Слепая была жизнь моя.
Без света
И без знаний, я была
Рабыней без цепей.
Но взошел луч правды,
Утро правды Ленина.
Она открыла лицо навстречу лучам правды. Царская тюрьма народов рухнула.
Рассказывая о женщине, сбросившей чадру, Вертов говорил об освобождении народов, прежде загнанных в тюрьму бесправия.
В частной судьбе он фокусировал судьбу всеобщую.
Вертов говорил о разломе эпох и о том, что у гребня разлома стоял Ленин.
Об этом пелось в народных песнях, собранных и записанных Вертовым и его группой. Безымянные певцы передавали их из уст в уста, из юрты в юрту, из кишлака в кишлак, из аула в аул, из селения в селение.
Песни звучали на разных языках. Переводы Вертов давал надписями, не доверяя диктору – обезличенные дикторские интонации могли лишить песни своеобразия, обаяния индивидуальности, детской мудрости и недетски мудрого величия.








