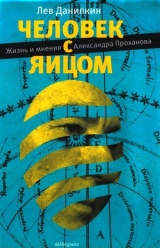
Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"
Автор книги: Лев Данилкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
Проханов отправляется на аудиенцию с терпящим бедствие губернатором, я – гулять в Довмонтов город, где сорок лет назад Проханов повстречал в раскопе свою возлюбленную. В кафе работает телевизор – в дневных новостях показывают, как Проханов вручает Михайлову подарочное издание «Крейсеровой сонаты» и, едва не прищелкивая каблуками, отдает честь: «Я не гражданин Пскова и потому не могу принять участия в воскресном голосовании, но считайте, что это мой избирательный бюллетень». Через неделю в «Коммерсанте» проклюнется микроскопическая заметка о том, что в Пскове избран новый губернатор. Чуть позже Проханов рассказал о том, как ему позвонил чиновник, оказавший нам радушный прием, и уведомил его о фиаско: «Голос у него был такой, как будто он лежал в том фиолетовом гробу».
По крайней мере, у него, должно быть, остались связи в лавре, значит, есть шанс, что Страшного суда он будет дожидаться в лучшем склепе из возможных.
Глава 4
Пророчество майора. «Инфернальные снимки». Отказ от «Майкрософта».
Автор реконструирует тезаурус прохановской Невесты
Институт Проханов заканчивает едва ли не с красным дипломом, неожиданно оживившись курсе на четвертом, когда студентов перестали мучить общими техническими дисциплинами – физикой, математикой, сопроматом; пошли закрытые сверхсекретные лекции, которые читали люди, работавшие на космодромах, ракетных шахтах, проектировавшие и строившие в тот момент Байконур. Студентов допускали к настоящей государственной тайне – ракетно-стратегической. Им рассказывали, как совершаются пуски, что такое телеметрия; особенной популярностью пользовались истории про Вернера фон Брауна, фашистского ракетчика, создавшего «фау» и перешедшего затем по наследству к американцам. Он снова увлекается ракетным искусством, с головой погружается в техническую литературу и с блеском защищает диплом по противотанковым снарядам – точнее, по снаряду, который вдребезги разносил броню танка Т-74 (вопрос, зачем было разносить советскую технику, не обсуждается).
Перед выпуском его отправляют на сборы в военные лагеря, где он тянет армейскую лямку на протяжении двух месяцев. Этот отъезд и казарменная, связанная с лишениями и затворничеством в своеобразном мужском монастыре жизнь не были для него трагедией: он был достаточно спортивен, в институте у него был третий разряд по лыжам и второй по плаванию. Сохранились «инфернальные снимки», изображающие голого Проханова, борющегося со своими однокурсниками, где видны их античные, поразительно пропорциональные, олимпийские тела; сам он не без удовлетворения в голосе комментирует – «пергамский алтарь». Вручая новоиспеченному лейтенанту запаса военный билет, майор пророчески говорит ему, что всем-то он хорош, но «брехливый язык» его погубит; это он запоминает.

Подлинный документ.
Еще доучиваясь в институте, в 1960-м, он уже на полставки работает в секретном режимном НИИ, на оборонном предприятии. Это было большое КБ, тоже рукой подать от Тихвинского, напротив помпезного Театра Советской армии; такое распределение считалось престижным. Лаборатории были закрытыми и поэтому изолированными друг от друга, но кое-какие сведения о деятельности коллег все-таки проникали сквозь стены. Сколько можно понять из его скупых рассказов и редких упоминаний в текстах, то было что-то вроде лаборатории Кью в «Джеймсе Бонде». Здесь создавались разного рода гэджеты – высокоточные торпеды для подводных лодок, шпионские приспособления, шли эксперименты с «электронным пакетом человека» (нечто вроде клетки, из которой можно клонировать полностью идентичного андроида – «с тем же лицом, группой крови, аппетитом, памятью. Даже бородавка, если она, конечно, имеется, воспроизводится в точности» («Вечный Город»)), конструировались техноголемы, обладающие искусственным интеллектом. Вся эта деятельность не лишена была и отечественной специфики: так, один из прохановских соседей инженеров умудрился настроить в своем биороботе шестеренки таким образом, чтобы голем кланялся и поднимал рукой рюмку водки. Едва ли сотрудники лаборатории видели первые серии «Бондианы», появившиеся как раз в эти годы, но они наверняка узнавали себя, по крайней мере, в пародии – «Фантомасе», где комиссар Жюв демонстрировал своим коллегам причудливые приспособления, очень похожие на вышеописанные. К сожалению, никакой документации, связанной с этими проектами, не сохранилось: ничего выносить оттуда было нельзя; но когда Проханова будут называть «певцом ВПК», можно, по крайней мере, не сомневаться, что он хорошо понимал, что именно он воспевает.
Отдел, в который попал Александр Андреевич, занимался противотанковыми снарядами, которые в ту пору еще управлялись по проводам, – НУРСами. «Аперцепторная система» состояла в том, что к ракете крепилась небольшая катушка, которая разматывалась по мере движения снаряда; этот разработанный еще немецкими конструкторами проводной вариант, когда оператор должен совмещать ракету с танком, уже через несколько лет, с появлением инфракрасного наведения и лазерных прицелов, безнадежно устарел, но Проханов этого еще не знает: на тот момент он совершает «некое большое открытие», «даже на патент хотели подавать». Он мечется по танковым полигонам, ночами паяет схемы, сидит за чертежным столом – и переживает нечто вроде катарсиса, связанного с техническим творчеством. У него происходят «озарения», он чувствует «сладость, упоение». «Я знаю, что любое творчество – литературное, музыкальное, техническое – имеет божественную природу. Расщепление происходит функциональное: одни творят в области искусств, другие политику, третьи – супермашины». За свою жизнь он успел попробовать принципиально разные виды творчества и везде, похоже, преуспевал; исследуя его биографию, мы убедимся, что его путь – история агента Духа, что вся его жизнь – это поиск нового опыта и нового материала для преодоления и «воскрешения», такого преодоления, при котором будет выделено максимальное количество энергии. Техника, политика, литература.
Зная его, не приходится удивляться, что он продолжает эпатировать окружающих. По примеру своих псковских друзей, архитектора Скобельцына и Семенова, он отпускает себе бородку – не хэмовскую (хотя Хемингуэй лежит у него в дипломате: пару лет назад, в 1959-м, вышел двухтомник, и это была самая популярная в СССР книга), а что-то вроде эспаньолки. Такого рода «выпадения из стиля» не приветствовались и даже осуждались. Директор института, например, отзывался о Проханове так: «Этот, молодой инженер, который с бородой ходит».
В КБ он проводит полтора года и постепенно начинает тяготиться тамошним антуражем. Его раздражает и угнетает система кордонов, пропуска, охрана – «бабы в формах с пистолетом на толстых бедрах», «как в концлагерях», «ощущение того, что я прихожу в заведение, где на вахте сидят контролирующие меня люди». Он понимает, что, погружаясь в НУРСы и «электронные пакеты», теряет свою гуманитарную компоненту. «Я был на развилке, был раздираем двумя формами творчества. Меня это страшно тяготило. Либо я должен был сказать себе, что я закрываю книги Блока раз и навсегда и занимаюсь только системным анализом, информатикой, электроникой, где мне открывалось огромное будущее – „Майкрософт“ и так далее, либо я порываю с инженерией. И я страшно мучился, был сжигаем этим дуализмом». Эта тема джекилхайдовского раздвоения будет преследовать его всю жизнь и часто проявляться в романах: апогея все это достигнет в «Политологе», где главный герой Стрижайло утратит контроль над собой полностью.
Именно на эти полтора года, по-видимому, приходится пик отношений с его Прекрасной Дамой – полумифической «Невестой», про которую упомянет в своем предисловии даже не особенно близко знающий его Трифонов. Последний запомнил только то, что Проханову пришлось ее «бросить», но никаких деталей ему известно не было. Из разговоров и нескольких пассажей в «Полете вечернего гуся», «Месте действия», «Дворце» можно понять следующее. Эта девушка училась на филологическом факультете «на кафедре русского языка», была «знатоком древних текстов» и могла свободно читать «письмена на каменных, вмурованных в стены плитах». Кроме того, она, кажется, прекрасно говорила, во всяком случае, «мучила» его своей лексикой, огромным словарным запасом, «а я был технарь». На предложение заглянуть в ресторан героиня отвечает: «Но егда веселишися многими брашны, а мене помяни сух хлеб ядущи. Или питие сладкое пиеши, а мене помяни теплу воду пьюща». Единственное, чем он мог парировать, – это стихами собственного сочинения: «Милая, я слишком часто грежу / Красными лесами на заре, / Будто я иду по побережью / Незнакомых и холодных рек».
В повести «Полет вечернего гуся» воспроизведен отрывок из их диалога перед отъездом героя на охоту: «Привезите мне птиц, мой охотник. – Поглядите в старинных книгах, как готовится дичь. – Лучше всего на костре. – Ну, не жечь же его в вашей комнате!» Почему на «вы»? «Она меня приучила называть ее на „вы“. И даже когда у нас уже произошла близость, мы все равно были на „вы“. Однажды она все же попыталась перейти на „ты“: „Ну давайте же говорить „ты““ – но у нас не получилось». «Она была богаче меня душой, желаниями, чувством. Знаю, что любила меня. И одновременно каждый раз как бы играла в меня и в себя, причиняя этим страдание. Видно, такой уж склад. Так возникла постоянная, почти необходимая боль, которой она разукрасила наши отношения. Так повелись утонченные обиды, которые мы, любя, наносили друг другу. Это длилось несколько лет».

Иду в путь домой.
Жила она, по-видимому, где-то неподалеку, во всяком случае, он часто вспоминает, что любимым местом для прогулок были Мещанские улицы. По выходным они зимой выезжали из города на лыжах (любимый маршрут – от Калужского шоссе до Пахры или если по Савеловской дороге, то вокруг Лобни).
В романе «Дворец» есть эпизод, где герой ждет «Невесту» на скамейке у ее дома и видит, как та подъезжает на машине с другим мужчиной, ее провожающим.
«Через несколько дней она объявила ему, что выходит замуж за известного математика… Они расставались мучительно, несколько недель кряду. То встречались, и он снова распускал на подушке ее волосы, целовал их, и она плакала на его голом плече. То она кричала на него, гнала прочь, требовала, чтобы он сгинул, исчез».
«Она вышла замуж, без любви… но это не имело конца, и все продолжилось. То в письмах, то в нежданных появлениях… у них родился сын, а потом и дочь. Она ввела меня в дом и тут же призналась мужу…»
«Такого страдания, как в ту осень, он больше никогда не испытывал… Все, что они пережили вместе, заключили в свою любовь, чтобы от этой любви родились их дети, продлился их род, теперь, как дым, вырывалось на свободу, уносило из него смысл жизни, оставляло темную прорву».
Почему он на ней не женился? «Ну, как-то понял, что не мое». Какова ее судьба? «Она потом вышла замуж, двое детей, один из них в Канаде».
Однажды, измотанный всеми этими переживаниями и ощущением, что гробит в чертовом КБ лучшие годы своей жизни и что работа такого рода не слишком напоминает свободное творчество, он, уйдя из конторы пораньше, садится на Белорусском вокзале в усовскую электричку – чтобы через полчаса выгрузиться в Ромашково. Бродя где-то в районе нынешнего огорода Оксаны Робски, он взвешивает сценарии развития ситуации: чем может кончиться для него разрыв с КБ при том, что он не успел отработать положенные три года? Краем уха он слышал, что буквально месяц назад СССР подписал Женевскую конвенцию, в которой был пункт о праве устраиваться и оставлять работу по собственному разумению. Еще пару лет назад ему грозил бы суд, но сейчас… сейчас… непонятно, непонятно… Наткнувшись на какое-то препятствие, он вдруг понимает, что наткнулся на противотанковую мину – и вот броня крошится, его разрывает на куски, распыляет на атомы, он успевает лишь запомнить необычайную цветовую яркость открывшегося мира… Очнувшись от обморока, он понимает, что взрыв произошел у него в голове, а пылающий осенними красками ореховый куст оказался его визуальным воплощением. Выбравшись из влажных зарослей с резными листьями, вытерев с лица холодные капли, он вслух произносит «Ва-банк!» и быстро шагает обратно к платформе в сгущающейся темноте. Решение принято.
Глава 5
Погружение в стихию народного творчества. Автор сворачивает с Новорижского шоссе и обнаруживает лесников, работавших под руководством Проханова.
Аферы чувашских пильщиков. Интермедия: Тайная жизнь деревьев. Жизнь и мнения отца Льва Лебедева.
Медовый месяц. Отъезд в окрестности Кондопоги
Ядовито-льстивый Саблин в «Надписи» заливает Коробейникову: «Ваш уход в леса созвучен монашескому подвигу. Вы всем пренебрегли – оставили Москву, отчий дом, невесту, оставили свою престижную инженерию, которая сулила вам, при ваших талантах, быструю карьеру. Вопреки страшному давлению советской среды, ушли в леса. Это напоминает уход Толстого. Напоминает поступок Императора Александра Первого, оставившего трон и ставшего старцем Федором Кузмичем. Для это нужно мужество, нужен порыв, нужна высшая духовная цель. Это подвиг – аристократический, монашеский». «Из технокосмоса уйти в космос природной красоты», «эпатажный поступок», «вызов системе», «лишался права возвращаться в Москву», «обрекал себя на жизнь в провинции» – позже Проханов станет описывать свой поступок в достаточно выспренной манере. Трифонов, явно с его слов, сочувственно информирует читателей о том, как его протеже «бросил все (невесту и прописку), работал лесником среди стихии народного творчества».
Нет никаких оснований сомневаться в фактической стороне дела, но некоторое понижение градуса в смысле оценки этого события представляется уместным.
Во-первых, это не было внезапное исчезновение в духе Бильбо Торбинса. То есть момент с кустом, когда он сказал себе: «Все! Я разрываю с инженерией, срываю вериги, бейте, терзайте!» – был, но затем пришлось заблаговременно сообщить о своих намерениях руководству, подписывать миллион бумаг, бегать с обходными листами. Его стращали судом, вызовом в КГБ, расписками о неразглашении военной тайны и проч. «Они были потрясены, это был действительно революционный бунт. Там был один инженер, ракетчик, тоже по танковой тематике, старше меня, но молодой, очень яркий человек, он меня патронировал, ему очень нравилась моя работа. Когда узнал, что я ухожу, посвятил мне несколько недель, доказывал мои способности, сулил перспективы, пугал будущим, радел, предлагал остаться. Я запомнил это, как человек, казалось бы, чужой мне, вошел в мою ситуацию, хотел оставить меня в зоне инженерии. Я ему очень благодарен за это сочувствие».
Вообще, если искать в жизни Проханова неблаговидные поступки, то, пожалуй, знаменитый дауншифтинг должен возглавлять их список: государство вкладывало-вкладывало в него, а он взял и сбежал. С другой стороны, его дальнейшее медийное сотрудничество с ВПК, безусловно, можно квалифицировать как отдачу долга с гигантскими процентами.
В тот момент ему 24 года, ему не нужно кормить семью, он свободен, не имеет карьерных устремлений, хочет поменять профессию, среду и образ жизни; почему бы, в самом деле, не «бросить все». Неудивительно, что при всей важности этого решения он чувствовал «потрясающую легкость».
Не исключено, подлинной причиной этого социального самоубийства стал кризис в отношениях с «Невестой». Как бы там ни было, в один прекрасный день 1962 года он берет в кассах Рижского вокзала билет на электричку до Волоколамска. Почему не чуть дальше по той же трассе, в Псков? Псков означал бы, что он окончательно становится реставратором архитектуры, уходит в архаику, а его занимала другая карьера. Почему Волоколамск? В этом направлении он чувствовал «что-то мистическое»: оттуда катилась война, которая в его сознании связывалась с отцом, там находился мифический разъезд Дубосеково, где погибли 28 панфиловцев, там они вместе с другом одноклассником подстрелили своих первых бекасов и вальдшнепов, там они останавливались у знакомых «волоколамских вдов». Справедливо рассудив по дороге, что весь этот набор можно получить и поближе к Москве, он выходит раньше, в Истре, городе, который раньше был монастырской слободой.
Центром этой местности был и остается возвышающийся на пологом пригорке Новоиерусалимский монастырь. Туристу, не имеющему представления о символическом смысле каждого строения, эта архитектурная композиция едва ли покажется особенно выразительной: это не величественный Кирилло-Белозерский монастырь и не нарядная Псково-Печерская лавра. До нашего совместного с Прохановым визита я был здесь лишь однажды, в начале 80-х годов, и главное, что мне запомнилось, – циклопический яйцеобразный купол, вырастающий неподалеку. Курьезным образом это яйцо птицы Рух и яйцевидный купол храма Воскресения в моем сознании совместились, так что я все искал, где в монастыре находится это Яйцо, исчезновению которого посвящено несколько абзацев «Надписи». В монастырских постройках присутствует нечто фантастическое, и даже сейчас можно понять, почему это пространство намертво впечаталось в сознание Проханова и навело его на метафору «монастырь – космодром для Второго пришествия». Здания здесь причудливой, какой-то не вполне русской и даже не византийской – палестинской, надо полагать, формы. Раздутые, как железные жабы, тяжеловесные, приземистые, некоторые так будто даже продавившие землю купольно-коробные сооружения, похожие не то на бункеры, не то на воздушные шары, не взлетевшие из-за перегрузки балластом: часовня, символизирующая Гроб Господень, Голгофа и Гефсимань. Главный храм – Воскресения – увенчан куполом с множеством окошек-амбразур, похожих на ласточкины гнезда. Нельзя сказать, что архитектура на все сто процентов справляется с функцией символической транспортации посетителя в Святую Землю – на постороннего он производит впечатление заурядного захламленного подмосковного монастырька, который не чувствуют своим ни попы, ни музейщики, ни паломники, ни праздношатайки. Топонимы Святой Земли, однако, намертво закрепились за здешними объектами недвижимости: башни, копии иерусалимских, называются Дамасская, Ефремовская, Варуха; близлежащий лес – Фаворским; и это будет его лес.

Карта Нового Иерусалима и окрестностей.
Сойдя с электрички в Истре, он двинул прямиком в лесхоз, потому что полагал, что полезнее прочих будущему писателю-натурфилософу освоить именно профессию лесника. Нельзя сказать, чтобы в Истру каждый день приезжали люди с высшим образованием, готовые за сотню рублей исполнять обязанности лесника, – поэтому чиновник без долгих раздумий согласился на предложенные услуги. Этот же благодетель моментально устроил чудака москвича в избу на постой; заглянув в соседний магазин, они отправились на подводе в соседнюю деревню Бужарово – заселяться. Первый раз они отхлебнули у монастыря.
«Сейчас коттеджей понастроили, а ведь вон там была моя береза, под которой я много времени леживал. Под ней я обнаружил каток от немецкого танка, с клеймом „Рейн-Вестфалия“. Вон куда зашли. Есть что-то мистическое в этом поражении: стоило пропахать всю Европу, чтобы оказаться здесь, под этой березой». Недалеко от этой же березы он обнаружит остов немецкого штабного «Мерседеса»; похоже, военные артефакты укрепили его в мысли о стратегической правильности именно этого выбора направления.
Патриарх Никон, в середине XVII века возводивший Новый Иерусалим, намеревался в русских условиях воспроизвести евангельскую – палестинскую – топографию. В сущности, эта абсурдно буквальная калька, классический пример того, что в английском языке называется словом folly: причудливое архитектурное или ландшафтное сооружение, не имеющее практического применения, но привлекающее к себе внимание живописностью и экстравагантностью; так в XIX веке эксцентричные русские помещики вешали на флигель табличку «Палата лордов», а на амбар – «Палата общин», трансформируя свою деревеньку в Лондон. Никон, человек с фантазией, не поленился выбить у Алексея Михайловича бюджет и отгрохать под Москвой в камне «русскую Палестину», вызывавшую изумление не только его соотечественников, но даже и иностранцев (умеренное). Сам Никон, кстати, похоронен здесь же. В то время он вряд ли предполагал, что триста лет спустя к его раке частенько будет наведываться молодой литератор, пораженный грандиозностью патриаршьего проекта. Стела над погребальницей Никона украшена расшитым покрывалом-гобеленом; явившись туда с визитом, мы пытаемся прочесть каменные письмена на ней, но у нас не получается – «буквы червь поел». «Да, Никон», – с уважением произносит Проханов, но тут же оговаривается: – «Хотя мне, конечно, ближе Аввакум».
Речушку у стен монастыря сейчас принято называть Истрой, но на самом деле это Иордан. «Вот, Лева, река, в которую в романе входил мой герой Белосельцев». Действительно, в конце «Господина Гексогена» ополоумевший от взрывов и интриг Белосельцев отправляется в какой-то подмосковный городок, чтобы пройти обряд Крещения – оказывается, это Истра. Лет за сто до того именно в этой речушке рыбачил и чеховский «Злоумышленник», свинтивший гайку с железнодорожного полотна – благо рядом находится деревня Бабкино, где проживал Чехов с компанией из друзей и родственников; писатель часто вставлял здешних колоритных типов в свои тексты; те отплатили ему, установив белый алебастровый памятник, у которого, впрочем, на протяжении всех 60-х то и дело пропадала то рука, то нога, а со временем он и вовсе исчез. (Проханов рассказывает мне о перипетиях, связанных со злополучным монументом, так подробно, что поневоле начинаешь подозревать его самого в участии в актах вандализма.) Сейчас прохановский баптистерий и место рыбного промысла представляет из себя узенькую канавку, заросшую ветлами. История не прекращала курсировать по этому руслу и в период между Никоном и Белосельцевым: в войну по берегам Истры проходила линия фронта. Немцы оккупировали монастырь до 10 декабря 1941 года и взорвали его перед уходом. Разрушение монастыря даже инкриминировалось Германии на Нюрнбергском процессе, но затем якобы выяснилось, что советские войска сами уничтожили монастырь, и репарации на восстановление так и не поступили. Сейчас трудно представить, что еще в 60–70-е годы монастырь буквально лежал в руинах; впрочем, и сейчас место не производит впечатление Виндзорского замка. Пространство, однако, в самом деле крайне насыщенное историей. Любопытный момент: уже в XX веке на том месте, где, в координатах предложенной топографии, должно было быть Галилейское море, вроде как случайно построили Истринское водохранилище. Разумеется, советские проектировщики менее всего чувствовали себя последователями Никона, но факт тот, что контуры их замыслов наложились друг на друга (о мистической подоплеке совпадения «красного» и «евангельского» проектов лучше спросить самого Проханова).
Ландшафт, свойственный этой местности, Проханов назвал бы мистическим, скептик нашел бы его непримечательным – пологие возвышенности и долгие поля-леса, кривой линией очерчивающие горизонт. Бужарово топорщится на пригорке, так что телега накренилась и кое-чего из пожитков будущего лесника попадало прямо на дорогу – а он, хмельной, и не заметил того. Среди прочего он обронил и ружье, но, к счастью, нашел его на следующее утро, когда отправился на работу.
Почему именно лесник? Может быть, не желая дожидаться середины земной жизни, он сыграл на опережение и оказался в сумрачном лесу заблаговременно? Как бы то ни было, его должность называлась «начальник лесничества». Лесхоз делится на лесничества, лесничество – на объезды, объезды – на кварталы. Резиденция Проханова находилась в Истре, а до самого дальнего участка было 12 км. Лошади не предоставлялось, и всюду приходилось чапать пешком, что, в принципе, ему скорее нравилось, и иногда он накручивал за день десятки километров.
Это была не самая изнурительная работа, оставлявшая много времени на охоту, письмо, отношения с женщинами и прогулки, но тем не менее не совсем уж непыльная. В чем состояла рутинная деятельность? Клеймили деревья, делали засечки, разреживали посадки, вывозили бревна на какую-то адскую машину-«щеподралку», распахивали плугом участки, привозили из питомника трехлетние сосенки. «Вот лес, который я посадил», – с гордостью демонстрирует мне Проханов свой участок, сосны не то чтоб корабельные, однако это вполне себе хвойные крупномеры, удовлетворившие бы любого дачника-шестисоточника.
ПЕРВАЯ ИНТЕРМЕДИЯ
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ
Бужаровский сосняк – не единственный лес, посаженный, Прохановым. «Их дерево», «Дерево в центре Кабула», «Горящие сады» – при самом мимолетном знакомстве с библиографией Александра Андреевича в авторе определенно виден человек, много лет посвятивший профессии лесника. Демобилизовавшись из «стихии народного творчества», он и в литературе остался рачительным лесничим, в каждой книге выращивая по несколько деревьев. Рецидивы профессиональной деятельности возникают в самых неожиданных местах. Так, в «Островах» Белосельцев расспрашивает камбоджийского председателя колхоза о вырубленных пальмах с задней мыслью: «На досуге он переведет количество спиленных пальм в кубометры бревен»; странная квалификация для персонажа с репутацией «советского Джеймса Бонда». Нетрудно заметить, что, описывая какие-то места, Проханов непременно упоминает то или иное дерево – «там стояла ветла», «из окна был виден мой любимый тополь», «я вдруг наткнулся на ореховый куст» и так далее. Деревья постоянно возникают как опорный пункт для выстраивания меморабилии; почти во всех его экстерьерных сценах символическим ключом к картинке является дерево. «Листья кленов на „Краснопресненской“ наполняются кровью защитников Дома Советов» – ни больше ни меньше. Совсем уж анекдотическая дендрофилия вдруг поражает героев «Теплохода „Иосиф Бродский“»: ни с того ни с сего они усаживаются вокруг старинного дерева и начинают «состязаться, кто лучше предание про дуб расскажет», после чего автор жертвует пятнадцать страниц на выдумывание диких баек, например, про то, как «один деревенский силач по имени Иван, лежа под дубом, поднял на своем члене двухпудовую гирю. Это и был русский богатырь Иван Поддубный».
Так или иначе, на разного рода деревья натыкаешься во всех его книгах.
Из самых примечательных можно составить небольшой арборетум; короткая экскурсия по этой рощице может оказаться небесполезной для понимания некоторых нюансов характера Проханова и особенностей его творчества.
1. Дерево в центре Кабула
Пресловутое «дерево в центре Кабула» было чинарой, или восточным платаном; оно зеленело во дворе гостиницы, где квартировал в свое время сам Проханов, а потом и его персонажи Волков (в «Дереве») и Белосельцев (в «Сне о Кабуле»). На передний план не имеющее прямого отношения к сюжету романа растение выдвинуто потому, что оно – наглядный символ справедливой, естественной (подлинно народной и укорененной в исторических традициях) и перспективной советской власти, которая очевидно улучшила жизнь афганцев: до того, в своем феодальном средневековье, испытывая дефицит топлива, они вырубали деревья, а теперь в стране воцарился новый, городской, связанный с электрификацией, уклад, кабульцы получили возможность подумать об экологии и эстетике; им зажегся зеленый свет, у них появилось будущее – о чем, собственно, и рассказывает нам роман, за который с автором перестала раскланиваться вся прогрессивная интеллигенция.

Platanus orientalis.
Любопытно, что символ этот не просто растаял в воздухе при смене политического климата, но продолжил функционировать в рабочем режиме. В конце 80-х годов, когда советские войска ушли из Афганистана, чинара столь же наглядно просемафорила наблюдателям о смене власти: кора на ее стволе сорвана ударом танковой кормы (новая власть, связанная с идеологией вечного джихада, не намерена заботиться ни о комфорте жителей, ни об экологии, ни об эстетике, ни вообще заниматься «корой явлений», предпочитая иметь дело непосредственно с «сердцевиной» – божественным смыслом всего происходящего), она засохла (сигнализируя тем самым о бесперспективности исламистского проекта), и, мало того, именно на ней, во всяком случае, по утверждению Проханова, был повешен в 1990 году Наджибулла: «Его обезображенный труп с выколотыми, глазами висел в петле на дереве в центре Кабула». Так, в приключениях одного дерева внимательный наблюдатель в состоянии прочесть историю целого периода страны.
2. Акация «Смерть белым»
Однажды, выполняя сложное разведзадание – перевербовать агента ЦРУ Маквиллена – герой романа «Африканист» Белосельцев ужинает в открытом ресторане в Луанде. Дело, считай, уже на мази, но в самый разгар атаки на своего клиента офицер советских спецслужб неожиданно становится жертвой козней дерева «Смерть белым». Так в Анголе называют фиолетовую акацию, чьи пыльца и сладкий ядовитый запах вызывают у европейцев приступы удушья и слезотечение. И без того сверхвпечатлительному Виктору Андреевичу кажется, что он попал в центр накаленного реактора, а затем у него начинаются галлюцинации: он видит в ветвях «лилового колдуна», куст превращается в летнюю веранду на подмосковной даче и так далее…
Это не единственное дерево в книгах Проханова, опрокидывающее его героев в сюрреалистические обмороки. В Александровском садике у Кремля растет липа, вызывающая видения у персонажа раннего романа «Их дерево» по имени Лучков (тут, кстати, следует упомянуть о неопределенности названия. Не вполне понятно, во-первых, чье же все-таки имеется в виду дерево и, во-вторых, что это за дерево: то ли галлюциногенная липа, то ли «нависающее золотой полусферой» дерево перед ЦДЛ, «звонким светом» облучающее спину и плечи главного героя Растокина, пока тот разглядывает листья на асфальте, «будто здесь ощипали большую медноперую птицу»).

Цветы фиолетовой акации.
Во внешне ультрасовременном, но по сути архаичном мире Проханова есть магические объекты, которые, попадая в поле зрения героя, детонируют и разворачивают психическую атаку. Это могут быть мелкие сувениры вроде бусинок, мусор вроде черепка, архитектурные сооружения, но одни из самых опасных объектов в смысле генерации паранормальных явлений – это как раз деревья. Деревья – своего рода природные соленоиды, по которым бежит ток и которые держат вокруг себя постоянное магнитное поле, антенны, «облучающие» попавшего под их чары человека. В измененном состоянии сознания жертве раскрываются двери в мир духов, а также подлинная суть вещей, явлений, она попадает в зону, где происходят интенсивные семиотические процессы, «прозрения». Лучков, к примеру, наблюдает, как от Кремля отделяется ракета Ивана Великого, Белосельцев чувствует в Маквиллене собственного двойника. Дорожа этими далекими от нормы психическими состояниями, прохановские герои обычно перемещаются по жизненному лесу не протоптанными маршрутами, а от дерева к дереву, интуитивно считывая зашифрованную в них информацию. Деревья, вступающие в контакт с героем, сигнализируют об опасности, предоставляют укрытие или, наоборот, ведут себя агрессивно (ср. «путеводные деревца», «берегини»).







