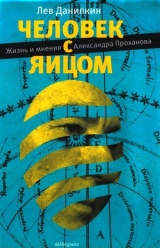
Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"
Автор книги: Лев Данилкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
В понедельник, 19 августа, его разбудил стук в окно. Это был сосед, решившийся нанести неприлично ранний визит под тем предлогом, что ему нужно было подтвердить или опровергнуть самые радужные свои предположения: «Ну что, Андреич, наша взяла?» «Андреич», меж тем, знать не знал, о чем идет речь, и только покрутив ручку настройки радио, по которому с утра пораньше гоняли обращение ГКЧП к трудящимся, понял: началось. Жене и детям он наказал оставаться на даче, а сам, облачившись в белый, парадный костюм, плюхнулся в «Жигули» и, безбожно нарушая скоростной режим, покатил в Москву. Наконец-то дела налаживались; слово к народу оборачивалось делом; «я был наполнен этой энергией реванша, это были мои дни, это были мои танки, это был мой реванш».
На пару минут он заглядывает домой, на Тверскую, где вынужден отражать телефонную атаку, причем звонили «высшие чины государства», такие как генерал армии Шлягов, начальник Главпура, предполагавший, что он обладает информацией о том, что происходит. Дав понять генералитету, что по не зависящим от него причинам он не может распространяться о деталях происходящего, он дует в редакцию, куда люди уже валят толпами, принимая его не то за нового министра культуры, не то за главу одного из департаментов ГКЧП. Все они справляются, насколько серьезен переворот, будет ли срезан слой управленцев, хотят участвовать, и поначалу он объяснял им подлинное положение дел, а потом махнул рукой и принялся раздавать задания: возглавьте танковую дивизию и направляйтесь на Минск; вам поручено взять Соловки, а вам – обеспечить прорыв в пиренейском направлении. Странные фарсовые нотки чувствовались во всей этой чрезвычайщине с самого начала. Уже в первый день его удивляет, что после трансляции манифеста ГКЧП дикторы как ни в чем не бывало предоставляют слово Ельцину, который называет введение чрезвычайного положения и отстранение Горбачева антиконституционным; опять же, при объявленном военном положении, связь не отключена, можно общаться с заграницей. Разумеется, по неопытности он еще не понимает, до какой степени половинчатыми были меры ГКЧП.
После обеда, перемещаясь с Цветного на Герцена, в Дом Ростовых, он успевает подумать о возможностях, которые сулит ему победа ГКЧП, сплошь состоящее из его хороших знакомых. Пост министра его не привлекает – он знает, что прямая административная деятельность бистро ему наскучит. А вот «День» – а он любил свою молодую газету – можно было сделать центральной политической газетой страны и загасить через нее либеральный пожар.

Проханов с членами ГКЧП.
Чрезвычайное заседание секретариата Союза писателей, посвященное обсуждению создавшейся политической обстановки, вел Сергей Михалков. «Вечный конформист», он выступает с предложением поддержать ГКЧП. Проханов тотчас же выбегает из зала – позвонить в редакцию «Дня» о михалковском решении, успеть вставить в гранки номера. Вернувшись, он застает на трибуне осторожного Феликса Кузнецова, который предлагал осмотреться и не принимать категорических скоропалительных решений, «дать процессам развиться». Затем слово предоставляют самому Проханову – и тот, вместо того чтобы спеть гимн ГКЧП, неожиданно заявляет, что, по его мнению, роль Союза писателей заключается в том, чтобы в этот жестокий период истории, когда идет реставрация централизма, уберечь от репрессивных ударов демократическую часть культуры, над которой нависает опасность. «Я решил сыграть роль такого Горького, который спасал интеллигенцию. Я все-таки был не вульгарный политик, я понимал, что возможные репрессии консервативного режима могут коснуться той оголтелой, распоясавшейся либерально-демократической литературы, которая вся была политизирована. Если заниматься чисткой политической и идеологической, то, конечно, надо было чистить не только партию Горбачева и Яковлева, выскабливая из нее метастазы либерализма, но и, конечно, газеты, культуру, театры, все. Но тогда я проявил толерантность – может, заигрался». Озадаченный услышанным, секретариат разошелся, так и не приняв никакого решения. (На секретариате меж тем присутствовал некто Владимир Савельев, референт, который тут же отбил в «Комсомолку» сообщение о том, что секретариат Союза писателей СССР принял решение поддержать ГКЧП, читай: консервативный СП – гнездо путчистов. По мнению Проханова, это была провокация, поставившая после 21 августа СП под удар и сделавшая его легкой добычей Евтушенко, Г. Бакланова и Тимура Гайдара. «Удивительно, никто из секретарей не пришел защищать Союз писателей СССР. Все сдрейфили, ушли».)
20 августа по телевизору показывают пресс-конференцию – дрожащие руки Янаева крупным планом, а затем гоняют «Лебединое озеро». Я напоминаю ему о довольно убогом виде его друзей и их скудном идеологическом репертуаре. «Да, я все помню. Ну, видите ли, руки тряслись у всех. У Брежнева, и у Черненко, и у Андропова. Я думаю, этот тремор – знак принадлежности к аристократической, партийной касте. А „Лебединое озеро“, ну что вы – это все равно что „Нибелунги“ для Третьего рейха». В «Последнем солдате империи» провал пресс-конференции и трясущиеся руки участников объясняются тем, что в зале находился «главный маг Солнечной системы, полковник Джон Лесли из Балтимора». Именно он, «расправив над рядами черный перепончатый купол крыльев», навел на сцену холод и, как Хоттабыч на экзамене по географии, замутил сознание гэкачепистов и заставил их нести чушь. Тремор? «Люди за столом замерзали. Над ними висели огромные тяжелые сосульки. Их окружили сугробы, над которыми неслась поземка, туманила их окоченелые тела».
Верил ли он в победу ГКЧП? «Конечно, с самого начала». Что, по его мнению, должны были сделать путчисты? Им надо было заполнить телевизор компроматом на Ельцина (которого «много было»), быстро устроить над ним показательный процесс. «Интернирование одного Ельцина сняло бы вообще всю проблему ГКЧП». Пытался ли он включиться в процесс? Звонил им? Да, но к тому моменту все они были для него практически недоступны. У него не было ни прямой линии, ни даже «вертушки» – а те все время заседали и мотались между Москвой и Форосом, ведя переговоры с Горбачевым. За все эти три дня ему удалось переговорить только с Варенниковым и несколько раз с помощником Бакланова. «На самом деле я ГКЧП не управлял: какое отношение я, писатель, журналист, мог иметь к блокированию связи, к распределению дивизий, к депортациям, к арестам? Я же не был включен в структуры партии. Мои отношения с этими людьми были внеструктурные, товарищеские, советнические».
Наверное, он чувствовал некоторую обиду – понимая, что его обделяют; может быть, те же ощущения испытывал Пушкин, не допущенный к декабристскому восстанию. «У меня было некоторое сожаление на этот счет… Даже теперь оно остается. Я, конечно, мог быть таким Геббельсом ГКЧП, я бы смог создать, как мне казалось тогда, информационное обеспечение. Я точно был бы разнообразнее в выборе балетов и, кроме „Лебединого озера“, мог поставить еще „Щелкунчик“ или „Жизель“, и даже „Красный мак“… Но, с другой стороны, я не убежден, что справился бы с той ролью, на которую претендовал. Я что-то знал о телевидении, вел программу „Служу Советскому Союзу“, но практически не понимал значения телевизионных технологий. Это ведь целая культура. В прессе – да, закрыть либеральные газеты я бы мог». Между прочим, самое любопытное из того, что мне удалось выцыганить из Бакланова, – ответ на вопрос, почему Проханова не взяли в ГКЧП: во-первых, у того не было административного ресурса, во-вторых, он был его друг и он не имел права им рисковать. То есть все-таки как декабристы с Пушкиным. Ну а сейчас, спрашиваю я, как думаете, вы правильно поступили, не сделав Проханова своим Геббельсом? «Возможно, это было ошибкой».
Что было бы, если б Проханов был наделен неким административным ресурсом и напрямую участвовал в заговоре? Можно предположить, что очень быстро все закрытые СМИ по его инициативе снова бы пооткрывались и вовсю молотили бы ГКЧП, а он, говорящая голова путча, 24 часа в день в прямом эфире отбивал бы гэкачепистов – шутками, гневными филиппиками, пафосными бредами, высокомерием, до изнеможения, один против всех. Наверное, по сумме очков он проиграл бы, но это было бы красивое поражение, и запомнились бы от этого путча не только дрожащие руки Янаева.
В ночь на 21 августа в туннеле под Новым Арбатом танки раздавливают троих юношей. «Я на это смотрел спокойно, потому что до этого прокатились бесконечные микровойны». Но ведь одно дело где-то на окраине, и совсем другое в столице. «Это не так. Убитые саперными лопатками на площади в Грузии. Убитые у телецентра в Вильнюсе. Это были трупы в столицах. И я понимал, что эти трупы, жертвы запятнали кровью ГКЧП; это проверенная методика диффамирования, подавления психики через кровь. Мне не было жалко этих людей, естественно, потому что это была война за страну, за государство. И я понял, что гэкачеписты не смогли уберечь себя от пролития крови. Им этих мальцов затолкали под гусеницы танков, эти жертвы были нужны Белому дому».
Ходил ли он во время ГКЧП к Белому дому? «Ну, один раз, просто было любопытно-интересно… и то – женщина меня повела, жила недалеко… Я прошел как частное абсолютно лицо к этим танкам-предателям, поговорил с танкистами, посмотрел на толпу». О чем он разговаривал с танкистами? «Как-то незначительно. Я просто скорее как художник хотел атмосферу понюхать, на баррикаду смехотворную посмотреть. Внутрь, конечно, не совался – штаб врага… И как я мог пойти туда, где Руцкой руководил обороной? Я там был чужой. Я бы штурмовал его, если бы была необходимость». «Там были люди, – делится Проханов своими впечатлениями от баррикад в послепутчевом интервью, – которым грозило социальное истребление: владельцы первых СП (совместных предприятий), кооператоры и т. п. Я с удовольствием на этих баррикадах выпил банку баварского пива, кто-то угостил меня сигаретами „Кэмел“… Конечно же, там было большое количество женщин, девушек: эта поразительная московская женственность! Как ни странно, даже близкие мне женщины, зная мои жесткие взгляды, – бежали на баррикады и тащили солдатикам харч. Это было женское движение, которое было в ужасе». Сравнивая через полтора десятка лет август 1991-го с октябрем 1993-го, он называет первый «опереточным», а баррикады – «смешными». Будущий аналитик газеты «День» С. Кургинян афористично сформулирует суть «милитаристского путча» следующим образом: «В танках сидели люди, читающие журнал „Огонек“».
21 августа, глазам своим не веря, он смотрит по телевизору медведевские «суперкадры»: взгромоздившийся на танк Ельцин, пародируя Ленина на броневике, произносит антигэкачепистский манифест. Он понимает, что дело пахнет керосином: не контролирующий ситуацию ГКЧП деморализован, его члены мчатся в Форос налаживать отношения с Горбачевым, просят того вмешаться; «для меня это был обвал, ужасный симптом поражения». 21-го же, под вечер, когда войска уже уходят из города, к нему в кабинет приезжает телегруппа Герасимова. На вопрос об отношении к кровопролитию он отвечает «я не против», «если эта малая кровь предохранит страну от пролития океана крови».
В 1991-м было очевидно, что путч провалился из-за того, что советская система прогнила окончательно и у нее просто не нашлось кадров, способных удержать власть. Что он об этом думает? Сначала ему казалось, что дело в том, что гэкачеписты абсолютно не были политиками, они не придавали значение политическим и информационным технологиям. Но дальше – после нескольких лет сбора информации, разговоров – в его сознании созревает конспирологическая версия. Почему КГБ, имеющий опыт ввода чрезвычайного положения, например, в Польше в 1981-м, на своем поле прошляпил все что можно? Почему Крючков так и не отдал сидевшей в кустах «Альфе» приказ задержать кортеж Ельцина, следовавший с аэродрома на дачу? «Сейчас он говорит, что это результат слабой воли, что он боялся жертв. Каких жертв? Китай в 1989-м расстрелял свой мятеж на площади Тяньаньмынь, избавившись от зачинщиков разрушения державы, которые привели бы ее к распаду и гражданским войнам. В результате сегодня Китай на наших глазах становится величайшей в мире державой XXI века». Все эти соображения, однако, не помешали ему принять в 1998-м, на 60-летие, от Крючкова китайскую вазу с журавлями.

Баррикады у Белого дома, 1991 г.
Вообще, ГКЧП – темная история, вызывающая множество толкований, вплоть до оккультного: предполагал ведь Пелевин, что смена строя была связана с заменой одного устаревшего тетраграмматона (СССР) другим (ГКЧП), в момент иссякания силы первого. Прохановская версия событий 19–21 августа скорее лежит в сфере конспирологии. «Путч был операцией КГБ по окончательной передаче власти одного центра другому», «Язов и Крючков, по существу, были предателями». «Крючков встречался во время ГКЧП с Ельциным». «КГБ вовсе не желал успеха ГКЧП». «У КГБ были досье, свои законсервированные радио– и телестанции, свой штат журналистов. КГБ мог бы взять работы по информационному обеспечению госбезопасности. Но комитет не хотел этим заниматься. Это был фальстарт, способ срезать консервативный – советский, партийный – слой, как в случае с рустовской историей. И я думаю, что КГБ не мог не понимать, что передача власти Ельцину от Горбачева означает крах Советского Союза. Разрушение Советского Союза – дело рук госбезопасности. В то время существовала концепция у демократов, что целиком весь этот огромный монолит не может войти в Европу, в рынок и в новую цивилизацию. Его нужно раздробить и вводить по кусочкам, его выгодно распылить территориально. И эта концепция, мне кажется, исповедовалась и КГБ». «Роль КГБ в трансформации строя была огромной. А иначе быть не могло. Эта суперструктура была сильнее и умнее партии, а в лице Андропова одно с другим слилось абсолютно, и КГБ осуществлял все самые сложные виды реформ и реконструкции внутри социума». Позднее он узнает, что КГБ участвовал и в создании народных фронтов в Прибалтике и на Кавказе, и в создании новой экономики через конструирование совместных предприятий. «Проект объединении Германий и сдачу „Штази“, правительства, великолепной, одной из самых сильных в Европе, армии могли осуществить только спецслужбы. Бархатные революции в Европе не могли происходить без КГБ».
Он вспоминает свой июньский разговор в редакции «Дня» с главой Рэнд Корпорейшн Джереми Израэлем, который рассказал ему о плане передачи власти от Первого центра ко Второму. Он вспоминает последние слова Бакланова, сказанные за несколько часов до ареста, когда ему, наконец, удалось добраться до него и спросить: что произошло, почему провалились так бездарно? Тот сказал: дрогнули Язов и Крючков. И еще: если тот сочтет это необходимым, то он может лечь на дно. «Но вместо того, чтобы лечь на дно, я всплыл на самую поверхность и начал истошно орать».
Одним из таких воплей, мало, правда, чье спокойствие потревожившим, стал «Последний солдат империи», роман про путч 1991 года, где реальные события подверглись сознательному художественному искажению. Главный герой, генерал Белосельцев, только что опубликовавший статью, подозрительно напоминающую прохановскую «Трагедию централизма», наблюдает, как, под воздействием оргоружия и в результате заговора империя, создававшаяся десятилетиями, терпит катастрофу в три дня. Когда все кончено, Белосельцеву не остается ничего иного, как нарядиться в свои боевые ордена и в одиночестве, раз уж он последний солдат империи, парадом пройти по брусчатке Красной площади. Этот психоделический политический триллер обладает всеми характерными достоинствами и недостатками поздних – «галлюцинаторных» – произведений Проханова, и мы не станем специально останавливаться на его сюжете. «Последний солдат империи» удобен как повод поговорить о некоторых особенностях поэтики Проханова – в частности, о метафоре в его творчестве. Не надо быть профессиональным литературоведом, чтобы заметить, что Проханов хорошо знает цену метафоре и умеет ею пользоваться; что метафоры у него могут быть сиюминутными, одноразовыми, а могут быть – сквозными, сцено– и даже романообразующими.
Как и во всем цикле этих самых «галлюцинаторных» романов – «Господине Гексогене», «Крейсеровой», «Политологе», «Теплоходе», основная событийная единица здесь – метаморфоза, превращение. Все меняется ежеминутно. Поэтессы оборачиваются стальными механизмами, трупы в древних могильниках – живыми воинами, Андропов и тот оказывается белкой. Главный языковой способ представления физической метаморфозы – метафора. Понимание, как работает метафора, – один из ключей не столько к прозе Проханова, сколько, как мы увидим позже, к феномену его личности.
Для наглядности рассмотрим две, на первый взгляд, похожие метафоры. Одна принадлежит критику А. Латыниной: «Проханов – соловей Генштаба». Вторую возьмем из «Солдата»: «Алла Латынина – гарпия» (в романе есть целая сцена в ЦДЛ, в которой описывается, как гарпии обгаживают патриотических литераторов). Называя Проханова соловьем, Латынина приписывает объекту такие свойства, как заливистый голос, способность услаждать слух трелями, невзрачная внешность, связь с фольклорной традицией. Чтобы продемонстрировать эти признаки более наглядно, Латынина вырывает Проханова из класса людей, но всего лишь на мгновение, разумеется, она не сомневается, что А. А. Проханов – человек, а не комок перьев.
Не то у Проханова. Когда он говорит: «Алла Латынина – гарпия», он не только утверждает, что Латынина похожа на монструозных птиц из греческой мифологии. Проханов, судя по сцене в ЦДЛ, действительно уверен, что теперь класс женщин-критикесс сузился, а класс гарпий – расширился, и все за счет изъятия из одного и появления в другом все той же А. Латыниной. Точно так же когда Проханов утверждает, что Андропов – белка, то подчеркивает: «Ее умная, сосредоточенная мордочка, чуткие ушки, тонкие цепкие лапки, в которых та держала еловую шишку, не оставляли сомнения – это и был сам Юрий Владимирович Андропов, у которого враги отключили искусственную почку, но который успел передать свой план в руки верных преемников и, в обличии лесного зверька, продолжал курировать осуществление замысла».
Известно, что метафора – способ на долю секунды отвергнуть принадлежность объекта к тому классу, в который он на самом деле входит, и включить его в другой класс объектов, в который он не может быть отнесен на рациональном основании. Обычно объект попадает в не свойственный ему класс только виртуально: когда Гоголь говорит, что Собакевич – медведь, он не стремится создать новую картину мира, где помещиком может быть дикий зверь. Его вызов природе – фиктивный, он сознательно ошибается. Проханов своими метафорами предлагает новое распределение предметов по категориям, новую таксономию мира. В «галлюцинаторных» романах он пользуется метафорой не здесь и сейчас, а надолго, навсегда. Он расширяет одни классы предметов и существ за счет сокращения других. Метафора – прохановский вызов природе, его способ подрыва устоявшихся классификаций и преобразования мира.
Мир нарушенных таксономий, где Андропов в самом деле принадлежит к классу белок, а Латынина – к гарпиям, мы и называем галлюцинозом, поскольку, несмотря на все уверения автора, мы, конечно, не верим, что такой мир может существовать где-либо, кроме сознания А. А. Проханова. Вопрос в том, отличается ли прохановский галлюциноз от других.
Обычный художественный галлюциноз (возьмем «Мифогенную любовь каст», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе») – это всего лишь индивидуальное или коллективное бессознательное, проявившееся в тексте. Автор транслирует галлюциноз, чтобы косвенным образом сообщить о внутренних психических противоречиях визионеров. Прохановский галлюциноз не дает информации о диагнозе визионера – главного героя, он направлен не на него, а на реальность. Этот галлюциноз имеет целью преобразовать реальность за счет разрушения обычных, рациональных таксономий, и введения новых. Герой – живой духовидческий аппарат, излучающий галлюциноз направленного действия, техническое устройство, которым можно управлять и с помощью которого – преобразовывать реальность. Вот как описывается в «Последнем солдате империи» одна из советских военных машин. «Упрятанная в военный камуфляж, облаченная в уродливые формы ромбов и параллелепипедов, она была готова к чуду преображения, к дивной красоте, божественному промыслу, замыслившему земную жизнь как неуклонное приближение к Раю». «Мегамашина чавкала огромными стальными зубами, изжевывала границы, надкусывала страны, прогрызала в континентах коридоры и дыры, запуская в них огненного змея войны. Она владела миром, смещала его утомленные оси, сшибала армии, сталкивала небесные армады, наполняла лазареты тысячами истерзанных и обгорелых людей. Мир был огромной грязной простыней в ее стальных кулаках. Скручивался в жгут, выжимался, отекал расплавленной сталью и красной горячей жижей».
Инстинктивный интерес Проханова к метафоре связан с тем, что метафора – это ведь и есть в своем роде преодоление реальности, нарушение одних таксономий за счет других, мгновенное преобразование мира, объективной реальности, преодоление текущего состояния мира – собственно, прохановские метафоры позволяют не столько больше понять об объекте, сколько – изменить мир. Ну или, по крайней мере, расшатать его.
«Галлюциноз» – нагромождения реализованных метафор – объясняется, тем, что он не знал, как еще можно было изменить восприятие путча в массовом сознании, и прибегнул к собственному «оргоружию» – метафоре. Прохановские «галлюцинаторные романы» – это и есть практика преобразования природы. Каждый роман – машина, вырабатывающая новые таксономии, указывающая объектам их новые места в мире, преобразующая историю, время, пространство, преодолевающая наличное состояние реальности.
Один из финалов «Последнего солдата империи» – травестированный: из города, по приказу памятника Сталину, эвакуируются, уходят советские каменные командоры – Маркс с Энгельсом, Ленины, Рабочий и Колхозница. Так, комически-наглядно, заканчивается эпоха.
Мне 22 августа припоминается по концерту у Белого дома, где прекрасное ощущение переломившейся эпохи не мог обезобразить даже козлом скакавший Газманов, но, по мнению моего собеседника, «ситуация после ухода танков из Москвы 22-го числа была ужасная. Был нанесен метафизический удар по всем консервативным силам». «У меня было полное ощущение того, что в Москву влетело огромное количество злых духов, которые носились над площадями, усаживались на фонарные столбы, били перепончатыми крыльями в окна домов, выклевывали глаза. Было ощущение, что открылась преисподняя, и весь ад оттуда вышел, и этот ад победил танки Язова, спецназ, сломал волю грозных партийцев. Я лично пережил гигантский, может быть, самый сильный в своей жизни психологический удар; моя психика, моя этика, моя физиология приняли страшное давление, я думаю, примерно то же самое, наверное, могли чувствовать люди 37-го года, когда машина власти была направлена против них, они чувствовали себя обреченными, беспомощными, им не на кого было опереться. Во мне воскрес этот социальный страх, я был абсолютно диффамирован, я ждал ареста, прессинга. Бесы гнались за мной, они требовали моей казни. Я не забуду эти голоса мегафонные, которые были на площадях, там кричали: „Повесить Проханова…“. Это был страх ада».
22 августа он проводит в четырех стенах в состоянии полнейшей депрессии. Власть окончательно перешла к Ельцину, по телевизору транслируется съезд народных депутатов, появляется информация о застрелившемся Пуго и повесившемся маршале Ахромееве. За «парапсихологическим ударом» по ГКЧП, как он понимает, стоит А. Яковлев, «талантливый пропагандист, оснащенный новыми технологиями, которым он научился в Колумбийском университете». Когда информационные сообщения заканчиваются, по всем каналам непременно показывали самого Проханова: «Я сидел в белом костюме и славил, радовался пролитию крови этих младенцев. Представляете, как мне весело было смотреть этот сюжет – меня там представляли палачом, Кальтенбруннером, радующимся гибели этих троих героев». Ему приходит в голову, что надо избавиться от документов, которые могут скомпрометировать его или знакомых в случае обыска. Сложив в унитаз кипу бумаг, он поджигает их. Листы тут же вспыхивают, он входит во вкус, температура зашкаливает далеко за 451 по Фаренгейту, раковина раскаляется и лопается. Несгоревшие бумаги размокают, частицы пепла выливаются вместе с водой наружу, квартиру начинает заливать, все это также не улучшает его настроение. В этот момент раздается звонок телефона – это был корреспондент «Комсомольской правды» – и пока жилец квартиры 78, по адресу: ул. Горького, 19, чертыхаясь, шлепает по лужам к аппарату, скажем, что коммунальная катастрофа ничему его не научила: в октябре 1993-го он опять будет жечь бумаги все в том же мангале, и опять этот чертов унитаз расколется.
Интервью, опубликованное в «КП» 3 сентября 1991 года, называется «Пропади она пропадом, эта свобода!» «Александр Проханов, один из авторов „Слова к народу“, готов снова подписаться под этим обращением». Проиллюстрировано интервью почему-то не портретом автора, а фотографией истеричной бабы, как иконой загораживающейся, вот уж совсем странно, газетой «Советская Россия».
«Видимо, – вспоминает Проханов журналиста, – он был послан своей редакцией, чтобы отпраздновать победу надо мной, показать посаженного на игольную булавку жука – черного, сдавшегося, раскаявшегося. Вместо этого я пошел ва-банк, дал ужасное интервью, сказал, что я их всех ненавижу, что это губители страны, что я до сих пор с ГКЧП, что да, я отстаиваю свои идеалы». Ничего такого уж чудовищного в интервью на самом деле нет. Он рассказывает о своих впечатлениях от баррикад, сообщает, что только что закончил роман про то, как спецназ штурмовал дворец Амина… «Прошел слух, будто в режиме ГКЧП вы должны были войти в цензурный комитет?» – «Я думаю, что те, кто читал мои работы, будут кататься со смеху от этого злокозненного слуха. Я всегда отказывался от всех постов и никогда не вступал в партию, неужели я согласился бы быть цензурным палачом печати?». Однако – при таком названии и в отсутствие других оппонентов новой власти – оно произвело-таки впечатление. Об эффекте этих интервью хорошо сказано Дугиным: «И когда уже стало ясно, что все кончено, что вот-вот вернут из Фороса могильщика последней империи, на тухнущем экране появляется знакомое лицо Проханова. Под свинцовой плитой вздыбившихся сил распада и смерти, празднующих мстительную победу, Проханов отчетливо и мужественно произносит слова спокойного самоприговора. Он полностью оправдывает ГКЧП, во всеуслышание обреченно и собранно произносит роковые слова. На нем сходится пульс исторического достоинства. В этот момент он совершает редчайшее действие, на которое мало кто способен. Он продолжает сохранять верность тому, что со всей очевидностью и фатальностью проиграло. Он утверждает на практике высшее качество человека – идти против всех, когда ясно, что этот путь обречен. Такого жеста я в своей жизни не видел. Он встал лицом к лицу с историей, с ее страшной, свинцовой мощью, и спокойно сказал, что не согласен с общеочевидным ходом вещей. Так можно поступить только находясь в духе. Он остался последним на последнем рубеже. Позади зияла пропасть. <…> Проханов, певец Системы, остался верен Системе даже тогда, когда она рухнула. На это не способен ни один конформист, это противоречит самой логике Системы, основанной на абсолютизации сиюминутного, на полной покорности социальному року, на шкурности и имитации, которую мы имели случай созерцать последние годы в небывалом объеме. Но тем фактом, что нашелся кто-то один, кто сказал „нет“, было доказано, что в защищаемом уходящем строе было иное содержание и иной смысл, нежели банальности бесхребетной массы жадных аппаратчиков, готовых служить кому угодно. Поступок Проханова в августе имел важнейшее историософское содержание, поскольку его отсутствие или наличие имеет прямое отношение к постижению логики идеологической истории».
«Это чувство победы над животным в себе, над слабостью я буду до конца дней своих помнить как огромную интеллектуальную и духовную победу. Потому что в атмосфере подавленности, в ожидании смерти и казни, найти в себе силы трансформировать себя, более того, инсценировать в себе такой ответный, может, даже истерический протест – это была очень сильная внутренняя контригра. Я не могу понять, откуда я взял силы такого рода, они вообще не присутствовали во мне. Я был человеком достаточно мягким, бонвиваном, и хотя участвовал в публицистических битвах и сражениях, но такого истеризма – „Всех не перевешаете!“, как Зоя Космодемьянская из петли кричала, – я не ожидал от себя. А он был и, кстати, сослужил прекрасную услугу. Сразу же ко мне на улицах стали подходить переодетые разведчики, военные, жали руку, благодарили. И мне было так странно: ведь это они должны были проклясть эту свободу с помощью танков и гранатометов».
После горбачевского заявления о грядущем выяснении «кто есть ху» на страницы прессы выплескиваются потоки «доносов». Оказалось, он был связан с Баклановым, с ГКЧП, а газета «День» была не просто «оплотом заединщиков», но лабораторией и штабом путча. Яковлев, предложивший на одном из митингов – «Проханова надо вздернуть на фонарь», срывает овацию. Эталонной психической атакой стало опубликованное в «Столице» «Открытое письмо соловью Генштаба» поэта Евгения Храмова, инспирированное прохановским интервью «Комсомольской правде», где автор, обращаясь к нему «Саша», на «ты», обвиняет своего экс-приятеля в том, что тот графоман, состоит на содержании у военных и связан с КГБ. Проханов тоже помнит Храмова, в частности, как тот однажды преподнес ему стихотворение, а через некоторое время оно обнаружилось в сборнике, посвященное еще кому-то: «я долго не мог понять – как это, это все равно что венок с одной могилы переносить на другую».
С мемуарами о Проханове-монстре выступил и Сырокомский, его бывший патрон в «ЛГ». По горячим следам выходит роман Евтушенко «Не умирай прежде смерти. Русская сказка», в котором есть целая глава про хорошо узнаваемого «Романтика Путча». «У него была сосредоточенная бледность земляного червя, неуверенная самоуверенность соловья генерального штаба и гордая жертвенная нервность скаковой лошади, которая сама себя впрягла в колесницу истории, то бишь в танки. Лицо его было истощено истерической любовью к военно-промышленному комплексу, танкам, подводным лодкам, реактивным истребителям, атомным бомбам, химическому и бактериологическому оружию и особенно к боевым ракетам, которые в своих социалистически колониальных романах он воспевал с военизированной эротикой… Он решил въехать в бессмертие на бронетранспортере… так настойчиво стал тереться о генеральские погоны, что на его доверительно прижимающемся к ним плече оставались предательски поблескивающие золотые ниточки. Он нашептывал генералам апокалиптические предсказания… Армия стала его Дульсинеей в хаки. С детства он смертельно боялся летать, а теперь чуть ли не со слезами выклянчивал, чтобы его взяли на борт вертолетов, полосующих пулеметными очередями афганские деревни… У него была идиосинкразия к алкоголю, но он, превозмогая отвращение, героически заставлял себя пить водку с генералами в саунах, да еще с притворным удовольствием крякая, как они, ибо это входило, по его представлениям, в понятие мужественности… Он был настолько вымотан своим любовным романом с Армией, что у него не оставалось сил на просто женщин, и, для того, чтобы у него с ними получалось, он ставил в интимные мгновения кассеты военных маршей, лихорадочно вызывая в памяти военные парады на Красной площади…». По сюжету, Романтик Путча является к Кристальному Коммунисту с просьбой вооружить его, но тот обращается с ним как с маньяком и истериком.







