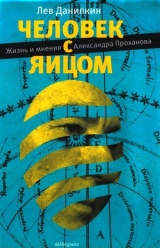
Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"
Автор книги: Лев Данилкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
Соловки? Оказывается, помимо писательства, разбора писем и редактуры, для человека, обладающего upward mobility, «Жизнь слепых» предоставляла и другие возможности. Проханов становится кем-то вроде поводыря: водит своих коллег по Москве, посещает ассамблеи слепых ветеранов («В невидящих глазницах пикировали самолеты, взрывались мосты, катился вопль рукопашной…»), свадьбы («Хохотали, гремели посудой. Щупали баб под столом. А слепые, жених и невеста, тихо, озаренно сидели»), ездит с ними в Киев, в Иркутск, на Соловки. Зачем они туда ездили? Например, целью одной из поездок 1966 года было посещение презентации нового дизайна грузинского журнала для слепых «Свет», в ходе которой он посетил свой родовой дом, заехал в Гори, музей Сталина и даже полазил по маршруту Мцыри. Всероссийское общество слепых имело филиалы и партнеров по всей стране: журнал ездил смотреть, как живут региональные слепые. По уверению Проханова, у слепых в ту пору было «целое царство», где был свой царь, председатель общества слепых, своя индустрия – мастерские, где производились штекеры, розетки, коробки, продукция не обкладывалась налогами, поэтому в их распоряжении оказывались суммы, достаточные, чтобы строить собственное жилье, пансионаты, «свои города». «Были деньги, люди были любознательные – надо поездить». Так был очерчен первый его круг дальних путешествий по СССР и появился первый опыт трэвел-журналистики.
Почти во всех репортажах, которые вряд ли есть смысл перепечатывать в собрании сочинений, но для знатока обладающих ценностью подлинного раритета, – обнаруживается характерный стилистический диссонанс, особенно заметно проявляющийся в начале и конце текста. Так, увертюра может выглядеть следующим образом: «Мы говорим „коллектив“ и верим в его созидательную силу, в то, что лишь вместе труд коллектива и может обеспечить успех начинания». В коде, однако, автор оставляет в покое барабаны и принимается перебирать струны лиры: «Мы идем по хрустальному снегу, я слушаю негромкую речь директора, а над крышами изб ярко, на весь Гжель горят морозно стекла предприятия. Тихо искрится, скрипит снег у нас под ногами».
Среди очерков немалый процент занимают отчеты о встречах с незрячими – ветеранами войны, жертвами аварий или врожденно слепыми – часто мотивируемые неполиткорректно сформулированным желанием «воочию увидеть». Это была целая субкультура, в которую он и интегрировался, полулегально. (И не только он: чуть позже, в 1968-м, в «Жизнь слепых» ворвется Саша Соколов, который тоже станет печатать тут очерки о слепых аккордеонистах («Все цвета радуги») и моряках («Старый штурман») и даже получит в 1971 году премию за «лучший рассказ о слепых».) По-видимому, в ходе этих поездок Проханов становится другом и фактотумом главного редактора Виктора Першина: «Интересный мужик. Старше меня. Коммунистический догматик, но живой, свежий, полемизировали с ним постоянно». Першин ценил фронду своего сотрудника, который постепенно оказывал на него все большее влияние, становясь чем-то вроде спецкора при главреде. В журнале одна за другой появляются статьи, подписанные «Вик. Першин, А. Проханов». Почему они писали тексты в четыре руки? «А почему ряд статей, подписанных Зюгановым и мной, написана мной? Это продолжение практики „Жизни слепых“».
На протяжении своего четырехлетнего (!) романа со слепыми он вовсю сочиняет и печатает там свои рассказы про слепых («смехотворные», «конъюнктурные», скромно вспоминает он их), а затем получает первый собственно редакторско-менеджерский опыт. Это была «прекрасная пора, где было много очаровательных женщин». Тоже слепых? «Нет, не слепых. Мой друг Першин – чуть-чуть у него брезжил свет, но не различал контуров – влюбился в одну из своих сотрудниц. Спрашивал – как у нее ноги, грудь? Я был у него экспертом по всем вопросам. Идем с ним среди цветущих сопок, где-то в Забайкалье, кукушки орут, и я ему рассказываю, что вижу».

Брейгель. «Слепые».
Они перемещались по какой-нибудь красивой местности, и ему приходилось информировать своих клиентов о наличии гор, цветов, деревьев, бурундуков, птиц. Любопытна даже не экстравагантность этого занятия, а тип речи, который ему пришлось освоить, чтобы компетентно осуществлять эту миссию: «быть глазами слепых». В какой-то момент, упиваясь успехом, он принимался фантазировать, погружая своих слепых подопечных в миры, которые не существовали. «Вон там я вижу гору, а на ней стоит странное таинственное дерево, напоминающее очертаниями огромную фею, вот я вижу, как солнце садится за нее, и она в лучах заката превращается в огромный гриб или хрусталь». «И поскольку они не видят цвета, то они, как опиум, как наркотик, слушают описание цветовых переливов. И слепые, это очень интересно, всегда говорят: „Я видел“ – подчеркивая, что они могут видеть, хотя у них полная тьма. И я все время играл в цвета. Переливы света, радуги; вот как кошки валерьянку нюхают, так они слушали мои рассказы о цветах». Я ловлю себя на мысли о том, что не прочь был бы на время ослепнуть, если бы поводырем у меня был Проханов; так дети хотят попасть под «скорую помощь».
Не оттуда ли его талант описывать, рисовать с натуры? «Наоборот, я использовал свой писательский талант для служения». Более того, «в каком-то смысле», говорит он мне, «я взял на себя миссию глаз человечества». В этих экспромтных, импровизационных репортажах, часто завиральных, – возможно, скрыт один из источников его «галлюцинаторного дискурса»; и наверняка – его привычка к жадной описательности, ненасытной речистости, всеядности и цветастости. Он действительно часто разговаривает с читателем, как со слепым, – в том, что его первый рассказ напечатан брайлевским шрифтом, есть не только ирония, но и закономерность.
Каждодневное общение с людьми, чьи перцептивные возможности были ограничены, своего рода кастой неприкасаемых, разумеется, отражается на его психике, и в интервью он обычно – если доходит до этого дело – называет этот период в своей биографии «брейгелевским» (имея в виду не только сходство сюжета, но и, метафорически, «слепое человечество», «слепая Россия»; тут намечается и мотив «слепые, прозревающие благодаря художнику» – то есть истории о подлинной функции творца и, если зайти с другого бока, ощущение себя глазом человечества, то есть солнцем (солнце ведь, считается, глаз бога) и мессией). С другой стороны, после одного из сеансов воспоминаний он признался, что на самом деле на Брейгеля это похоже не было. «Люди, с которыми я общался, не были страшными уродливыми слепцами. Были инвалиды войны, музыканты. Особая популяция людей. Конечно, всегда существовало искушение интерпретировать их как инвалидов, а ведь есть и другая точка зрения – люди, побеждающие увечье, выходящие из несчастья. Это ведь была, по существу, постоянная борьба. И я льщу себя мыслью, что я помогал им выйти из их бед, я был для них и светочем, и зрачком, и носил в их среду те знания, которые были мне даны, поскольку я вращался в декадентской и полудиссидентской культуре и все время искушал и смущал Першина».
Автобиографии И. Проханова предпослан эпиграф из пророка Исайи: «И поведу слепых дорогой, которой они не знают…». Под этим же девизом орудовал и его внучатый племянник. Следы деструктивной деятельности молодого Проханова видны сразу: в 66-м году вместо благообразных силуэтов людей с палочками и собаками на обложки выплескивается откровенный дизайнерский брак – фольклорные коллажи из рушников, наложенные на фотографии, какие-то аппликации. Что до содержания, то к концу 1966-го «Жизнь слепых» больше похожа на вестник Бедлама, чем на орган организации инвалидов. Архитектор Пчельников обнародует здесь свои «футурологические открытия». Некие, явно впервые дорвавшиеся до зрителя художники клепают обложки, иллюстрируют статьи дикими виньетками, абстракционистскими «фольклорно-мистическими» рисунками (то были Василий Полевой и Николай Манулов, украинские художники-националисты, уставшие от бесплодной борьбы с властями за право экспонироваться и теперь компенсирующие свое многолетнее воздержание). «Взрывная футурология, смешанная с языческими исканиями»: слепым было о чем поговорить. «Слепцы первые вкусили этой культуры».
Какой «этой»? Дело в том, что – не в последнюю очередь благодаря знакомству с художниками-националистами, с которыми он не только заседал на редколлегиях в «Жизни слепых», но и рядился в народные костюмы, пек в печи глиняные игрушки, делал из папье-маше маски Весны, Зимы, Смерти, а потом куролесил на непристойных языческих игрищах – жилплощадь прохановской тещи в Текстильщиках попадает на карту «потаенной», «подпольной», «эзотерической» Москвы. Головным офисом «катакомб» была знаменитая квартира в Южинском переулке, с которой незримыми тропинками были соединены десятки филиалов, образуя сеть из квартир, подвалов и мастерских, где все друг друга знали и, в силу неприязни к идее трудового заработка, беспрестанно кочевали с места на места. Проханов и сам не раз окунался в этот Гольфстрим и дрейфовал из одного кружка в другой. Все эти подземелья были абсолютно герметичными, но и всегда готовыми распахнуть люки для людей, исповедующих тот же символ веры. Вием этих подпольных ассамблей был писатель Мамлеев («извлекавший из неопрятных одежд залитые томатным соусом замусоленные тетради»), а в его свите сверкали такие черные бриллианты, как мистик Головин, поэт Сапгир, художник Зверев. В код поведения «южинской богемы» входило постоянно апеллировать к «потустороннему», обливаться холодным потом при одной мысли о присутствии агентов КГБ, вести себя демонстративно экзальтированно («скорее даже жрать что-то невидимое со смехом, чем просто смеяться»), исповедовать широкие взгляды на своевременное выполнение долговых обязательств и не слишком ограничивать свои сексуальные потребности. «Метафизические» (термин Ю. В. Мамлеева) набивались в микроскопические коммунальные помещения и, усевшись на головах друг у друга, выступали с докладами о славянских бесах, дискутировали об Атмане, Брахмане и Высшем Я, мурлыкали вслух самостоятельно переведенные ведические гимны, декламировали Рене Генона и Махабхарату в подлиннике, упражнялись в йоге по Рамачараке и прочих, более экстатических практиках. Один из этих джентльменов, по свидетельству художника М. Уральского, «находясь долго под воздействием философии Махаяны, изобрел <…> забавную конструкцию, представляющую собой особой формы колесо с приводом. В конструкцию эту, подвешенную на место люстры, к потолку, усаживали голенькую дамочку и посредством компактного пульта управления любой желающий не только мог осуществить соединение своей особы с этой дамочкой, т. е. коитус, но еще одновременно и вращать ее вокруг себя наподобие некоего небесного тела. Называлась эта конструкция „астролябия Будды“». Колдовство, НЛО и левитация в этих «достоевских» квартирках были такими же обыденными темами для разговоров, как обсуждение погоды в английских чайных. Сеансы пифийствования, столоверчения и левитации предсказуемо сопровождались употреблением горячительных напитков и приводили к совсем уж диким ритуальным отправлениям: кликуши в лохмотьях целовали руки Мамлееву, ползали на коленках вокруг памятника Пушкину, тявкая при этом по-собачьи, пугали ночных прохожих, выряжаясь в самодельные маски. Истории в жанре кайдан рассказывались и про самого Мамлеева – шлягером была байка про то, как, когда некая далекая от идеи преодолеть в себе человеческое и погрузиться в Нигредо особа, изумившись увиденному, заметила Юрию Витальевичу, что он и мизинец на ее ноге недостоин поцеловать, тот бухнулся на колени и пополз к ее ноге, сладострастно пришептывая: «А вот и ошибаетесь, голубушка, – достоин, достоин!».
«А что до Мамлеева, – говорит один из свидетелей этих сессий художник Ситников, – то весь его сексуальный мистицизм и есть одни только мелкие жирные пальчики». «Инфернальный писатель Малеев» возникает в романе «Надпись» и даже зачитывает «свою восхитительную гадость, свою светоносную мерзость» – не свою, конечно, а прохановскую пародию: «Федор Федорович, отставной майор Советской Армии, и Леонида Леонидовна, бухгалтер мукомольного комбината, вскрыли заиндевелую дверь морга и остановились у оцинкованного стола, где под синей лампочкой, обнаженная, с выпуклым животом, лежала умершая роженица…» Не исключено, что этот выпад в сторону коллеги всего лишь симметричный ответ: почему бы не разглядеть Проханова в группе прототипов персонажей «Шатунов» или «Московского гамбита». Поездки на дачки, полеживания в травяных могилках, «признаю – хохочу!!!», «ой, петух!» – у профессионального поводыря слепых хватало любознательности и энергии участвовать во всех этих дикостях, так же, как позже плавать на авианосцах Пятой эскадры и летать над взорвавшимся реактором. Так ли уж удивительно, что мы застаем будущего «соловья Генштаба» за одним столом с мамлеевскими шатунами? «Я увлекался фольклором, а что такое фольклор? Это же демонология. Демоны, бесы, беси».
Впоследствии их пути, впрочем, расходятся – «потому что я стал заниматься войной, государством, политикой, вещами позитивными, актуальными, такими, которые не предполагали подполье, а они все оставались там, хотя у многих из них была страшная потребность легализоваться, они тяготились своей обездоленностью, загнанностью, им хотелось войти в контекст».
В те же годы Проханов много времени проводит в обществе архитектора Константина Павловича Пчельникова – того самого, кто «обнародовал в „Жизни слепых“ свои открытия». К этой фигуре мы будем обращаться еще множество раз. Пчельников (1925–2001) был прохановской Луной, сообщающимся сосудом, братом-близнецом и кривым зеркалом. Он научил его употреблять пространства как наркотик, мыслить геополитическими категориями, восхищаться советской цивилизацией и собирать бабочек.
Сначала он познакомился с его женой, той самой Ксенией, из-за которой убивается Шмелев в романе «Надпись». Произошло это еще в псковские времена, на 2-м курсе; он увидел ее – красотку археологиню – у своей любимой часовенки Илюши Мокрого. Затем, уже в пору бужаровского анахоретствования, лишь изредка наведываясь в Москву ради пополнения запасов мяса, он встретил ее в Столешниковом, обратив внимание на ее умопомрачительные по тем временам красные колготки. Они узнали друг друга, и она рассказала ему про своего замечательного мужа, который был ни много ни мало – футурологом, хотя имел диплом архитектора.
Пчельников строил сталинскую высотку в Варшаве, стадион в Джакарте, президентскую резиденцию в Гвинее («чуть ли не для людоеда Бокассы», утверждает Проханов). По возвращении в Союз его карьера пошла под уклон. Он поставил одно здание в Москве, в Измайлово, одно в Ярославле и одно – музей – в Палехе; официальная критика громила эти здания из всех орудий. В 1965-м он предлагает футуристический проект концептуальной застройки района «Застава Ильича», бумажный проект которого, сделавший честь страницам «Жизни слепых», отдаленно напоминает нынешний даунтаун в Шанхае, но реализовать эти фантазии ему не позволили, мотивировав отказ идеологическими соображениями, а по сути, наверное, от бедности: у СССР не было на это денег. «Возвратясь из странствий, я увидел, что в стране окончательно победившего социализма архитектуре больше нет места», – вспоминает Пчельников в интервью газете «Завтра». Строить «коробки» – «вульгарную урбанистическую инфраструктуру» – ему не хотелось, и он начал придумывать космические полисы, надувные города и города-дирижабли.
Уже понятно было, что в центре Москвы ему вряд ли что-нибудь дадут построить, и поэтому они вместе с Прохановым часто бродили по окраинам, выбирая место для «проекта». Пчельников разглагольствовал. Идеолог победы в Третьей мировой, он уже тогда приучал своего друга мыслить категориями империи. Реализовав промышленный потенциал, скопив нефтедоллары и мобилизовав – с помощью власти, под началом Вождя-Ваятеля – распыленные человеческие ресурсы, мы должны были поставить Запад на колени. Тот, изнуренный гонкой вооружений, должен был заявить о готовности участвовать в советском Суперпроекте. Страна станет единым целым, «где купола соборов, поместья и крылатые ракеты связаны узлами».
В чем, собственно, предполагалось, должен был состоять «Суперпроект»? Русское будущее связывалось с понятием Империи-чаши. Евразия представлялась Пчельникову вогнутой линзой, титанической чашей, ограниченной по краям горными цепями – Пиренеями, Балканами, Карпатами, Кавказом, Тянь-Шанем, Гималаями и Тибетом. Когда восточные славяне заселили дно, центр чаши, и организовали круглое пространство с центром в Москве, получился магический круг, Священное Колесо, внутри которого заключено до 70 % всех природных ресурсов Земли. Российская, а потом Советская, империя – великий проект синтеза пространств. Планетарный узел коммуникаций, трассированных еще во времена неолита, будет проходить через Россию – надо лишь создать новую систему этих коммуникаций – от Португалии до Москвы, а через нее, сквозь всю Сибирь – к Берингову проливу. Через пролив перебрасывается титанический мост, и возникает сверкающий мегаполис, Берингоград. От Оси Мира меридиальные магистрали пойдут к Африке, Индии, Китаю. Стеречь эту ось должен стальной и грозный гигант – наша стабильная империя-чаша. Важно, что Россия, в отличие от острова Америки, представляет собой сухопутную цивилизацию, а не морскую. Потому что в морской есть только 2 пункта – «порт – порт», а в сухопутной – множество точек, дорога и культура дороги. Создав новую сеть мировых дорог, мы спровоцируем падение роли Персидского и Ормузского проливов, Суэцкого канала и Сингапура (неудобные и опасные морские пути должны были «усохнуть»), обретя огромные богатства и мировое лидерство. Заметьте, все это Проханов прочел вовсе не в газете «Завтра» в 2006 году, а услышал в середине 60-х; неудивительно, что когда в конце 80-х к нему явится молодой Дугин со своими евразийскими фанабериями, то принят он будет с распростертыми объятиями.
В Битцевском парке, там, где сейчас догнивают странные заброшенные олимпийские сооружения и где обитала пелевинская лиса-оборотень А Хули, Пчельников указал Проханову место, где, по его мнению, должен был быть выстроен «Артполис» – центральная точка «коммуникационного ложа» Великой Чаши – в форме расколотой на две половины восьмигранной пирамиды, в плане образующей 8-лучевую арийскую звезду (отмежевавшись таким образом от шестиконечной звезды, символики иудейско-протестантской цивилизации). Через эту горловину, где сосредоточатся банки, биржи, офисы фирм и информагентств, пункты космической связи, будет происходить обмен культурными и технологическими ценностями, под контролем Православного народа. Пока что следовало овладевать искусством коммуникации, манипулирования пространствами. Поставить на службу современные финансовые бизнес-технологии, вовлекать в освоение богатств Чаши и реализацию титанических проектов капиталы всего мира[2]2
Андрей, младший сын Проханова, считающий себя учеником Пчельникова, излагая мне эту теорию, дополнил ее своим не лишенным остроумия замечанием. В XIX веке у России было две беды – дураки и дороги, но в XXI веке эти две беды становятся ее главными преимуществами. Дороги – потому что Россия представляет собой сохраненное бездорожное пространство, позволяющее активировать этот скрытый ресурс, трансформировать его в «коммуникационное ложе». Дураки – потому что это ресурс инаковости, кривизны сознания, ценный в глобализованном, культурно и мировоззренчески унифицированном мире.
[Закрыть].
Артполис был одновременно «инструмент и полигон постепенной рекультивации распавшейся державы»: с его помощью Россия должна была «реинтегрироваться в глобальный процесс».
Удивительно, до чего прохановский мир 60-х, вся эта «отчасти шизофреническая среда» в диапазоне от Мамлеева до Пчельникова, не была похожа, например, на ту каноническую, что описывают Вайль и Генис в своих «60-х»; если прислушаться к свидетельствам Проханова, выяснится, что зачерпывают культурологи очень неглубоко. По «вайле-генисовской», да и по официально-советской версии, существовало всего три направления, в которых мог реализоваться художник того времени. Советско-нормативный вариант (Проскурин, Карпов, Бушин). Либерально-новомирский (Трифонов, Маканин, Искандер). Деревенско-народнический (Распутин, Солоухин, Белов). В действительности, под советским куполом функционировали «не три, а триста направлений». Трифоновский либерализм не вмещал в себя мамлеевской бесовщины, а распутинское народничество – мистический фашизм. Неужели в 70-х можно было употребить слово «фашизм»? «Фашизм это и есть такая мистическая народность, это проникновение в мистический дремучий древний пранарод, мистика народа». «Там, в этом времени, были все штаммы, все бациллы сегодняшних эпидемий. И поскольку они были в концентрированном, лабораторном виде, их можно было исследовать, рассматривать, и они были драгоценны. А вот в виде эпидемии – после перестройки – они уже во многом были неинтересны, скучны, банальны и отвратительны. А там они были почти безобидны, такие кристаллы вирусов – фашизма вирус, русского национализма, вирус еврейского национализма, вирус этого вот андроповского реформизма, предвестники перестройки, молодые эти Арбатовы, Примаковы – все это тогда было… Это была мутация, охватившая все общество».
Проханов был одним из тех людей, которые застали эти вирусы еще в 60-е, в подпольных кружках, и именно поэтому он не будет обольщен в 90-е, когда штаммы разовьются в эпидемии.
Из-за художников слепые с более консервативными эстетическими вкусами закатывают Першину скандал за скандалом, и в 1967-м, слава богу, заставляют мятежного редактора вернуться к конформистскому и унифицированному варианту обложек. После провала фронды ему удается протянуть не более полугода, это уже не поломка, а авария, как выражалась в таких случаях советская критика; уже летом его вынуждают уйти по собственному. Вместе с Першиным, осенью, покидает журнал и его серый кардинал – но никоим образом не страдает от дефицита работы.
1967-й был годом активного трассирования доступного ему медиа-пространства; он едва успевает обегать кассы редакций с тем, чтобы забрать гонорары. В «Жизни слепых» в феврале напечатан очерк «Дерево жизни», о псковском отделении ВОС. В марте – «Работает техотдел». («Наше предприятие изменилось неузнаваемо…».) В апреле – «Вести счет деньгам» (в этот момент он довольно основательно окапывается в рубрике «Трибуна конкретной экономики», с каковой трибуны произносит довольно абстрактные проповеди). В мае – очерк «Директор», о руководителе картонажного предприятия, где ударными темпами клеят коробки. В июне – очерк про слепого учителя «Синяя чаша ветра» (с «декадентскими» – чтобы не сказать «игорьсеверянинскими» – фразами типа «Автобус, хрустально брызнув в ночь фарами, укатил», «Сосновый бор кипел на ветру»).
Читаем «Сельскую молодежь». В марте – очерк о доярках «Никто кроме нас». В июне – деревенский очерк «Заглядывая за горизонт», репортаж из совхоза «Березовский» Воронежской области, Рамонского района. В октябре – рассказ «Будьте здоровы, Степанида Петровна», открывающийся бескомпромиссной фразой «Степанида Петровна резала свинью». В декабре – «За лазоревым цветом» – отчет о поездке в Мордовию, в деревню Ямщина, к пимокатам, изготавливающим из мелкочесаной овечьей шерсти валенки, в частности беседа с вальщиком Николаем Степановичем Жестковым.
«Кругозор»: в мае – очерк «Плеховские песни» про пятерых старух, сформировавших народный хор в селе Плехово Курской области: («Даниловна, с которой начнем?» – «А с которой хошь, Тимофеевна?» – «Ну, „Ветры-ветерочки“ тогда»). Октябрь – эссе «Народное русское» о народных хорах казаков из Забайкалья и колхозниц из села Афанасьевка Белгородской области. Ноябрь – очерк «Балалайка» о композиторе и виртуозе-исполнителе Виталии Белецком.
«Литературная Россия». Апрель – рассказ «Тимофей» (А не странно, что «Тимофей», рассказ про слепого косца, был напечатан не в профильной «Жизни слепых»? «По-видимому, – объясняет Проханов отказ слепцов печатать новеллу, – есть какая-то корпоративная внутренняя ограниченность, не позволяющая принимать явления более сложного уровня, переросшие поэтический канон корпорации. Когда корпоративный вития перерастает рамки, он должен уйти, чтобы не угрожать безопасности корпорации». Точно так же сорок лет спустя Куняев не возьмет в «Наш современник» его «галлюцинаторный» «Господин Гексоген».) Август – очерк «Зори над лесом». Октябрь – рассказ-репортаж «Свадьба», из колхоза «Россия», села Дьяконово Курской области.
Более скрупулезному биографу следовало бы обшарить еще и подшивки «Семьи и школы» и «Смены». Но и без этих исследований видно: бегать ему приходилось как угорелому.
Несмотря на вялые протесты тещи, Прохановы жили открытым домом, куда глава семьи нередко прибывал в сопровождении коллектива единомышленников. Сюда часто заглядывали украинские художники, отец Лев, Пчельников, Мамлеев. Приобреталась нехитрая снедь: бутылка водки, квашеная капуста, соленые огурцы, варилась картошка (Личутин настаивает на «убогой трапезе»). Хозяин демонстрировал разноцветный шелковый казацкий костюм, привезенный из Ставрополья, где он встречался с казаками-некрасовцами. После обсуждений фасона завязывался спор об истоках славянства, мистике православия, который, по мере подачи горячительного, разгорался и становился все интенсивнее; в нем можно было оттачивать риторику, пафос, остроумие. Рано или поздно все дебаты сводились к разговорам об империи, хозяин вставал за нее горой, украинцы поносили, утверждая, что их народ задавлен этим молохом. Здесь практиковалась квазинаучная терминология, пытаясь аргументировать свои постулаты, оппоненты то и дело обращались к трудам Костомарова, Соловьева, Ключевского – или, наоборот, сбивались на совершенно казарменную лексику. Когда в беседе особенно часто начинали возникать термины «бендеровцы» и «москали», вмешивалась хозяйка и предлагала спеть что-нибудь.
«Ах, Арбат», «A Taste of Honey» и «Лыжи у печки»? Определенно нет. «Меня всегда это возмущало, – говорит он о кухонном репертуаре технической интеллигенции, – как караоке: не ты сочинил, а Окуджава, Галич, а этот воспроизводит, с использованием их интонаций, с переливами. Это такое статусное присвоение этой музыки, попытка почувствовать себя причастными к этой субкультуре, к этой фронде». Домашний хор функционировал не только в селе Плехово Курской области, но и в квартире у Прохановых, так же, как и их коллеги, они специализировались на народных песнях – хлеборобных, военных, свадебных, «Соловей кукушечку уговаривал» (волжская, времен покорения Казани), «Гусарик» (двенадцатый год), «А после Покрова на первой недели». Поощрялись и песни на украинском. Пение в домашнем хоре, по мнению Проханова, отличается от салонного музицирования, «как атомная энергия от фонарика».
Когда я максимально дипломатично высказываю свое удивление по поводу такого странного на сегодняшний взгляд досуга, как домашнее хоровое пение, Проханов проницательно замечает: «– А вы, Лева, филологический человек[3]3
Тут надо сказать, что термин «филологический человек» в мире Проханова имеет отчетливо пейоративный оттенок. «Филологи» – это люди с метро «Аэропорт», это те, кто больше интересуются текстами, чем жизнью и отношениями людей, это Наталья Иванова и прочие Тараканеры, вылавливавшие в прохановских текстах блох и игнорировавшие их «футурологический пафос», это люди, экранирующиеся текстами от реальности, это Владимир Сорокин; нынешняя власть – власть филологических людей (не случайно министр обороны Сергей Иванов – филолог по образованию, «главком филологических войск», как любит его называть Проханов), которые «слишком много внимания уделяют лингвистике, семантике, вместо того чтобы выстраивать реальный централизм, меняют названия, имена, устраивают праздники, спорят о терминах. Губернатор Тульской области может называться хоть эмиром, но от этого оборонные заводы уже не вернешь, они не заработают. Перевесить порток с гвоздя на гвоздок – вот как это называется».
В романе «Место действия» есть эпизод, где на возводящийся комбинат приезжает устраиваться филологическая барышня, лепечущая что-то вроде: «Я разочаровалась в филологии. Филологический подход устарел. Сейчас не век филологии, а век техники» – ее не берут на работу даже после этой покаянной речи: филологические люди – никчемные существа по определению.
Архетип филологического человека – Битов: интеллектуал, способный подолгу разглагольствовать о чем-то воздушном, человеке в пейзаже, пунктирных линиях и вычитании зайца; мастер сложной, рассказ-в-рассказе, композиции. С уважением относясь к Битову, Проханов не скрывает своего неприятия коллеги, связанной с его «филологичностью». Не исключено, таким образом Проханов переживает свою неспособность держать целую книгу на одной сцене. Тогда как Проханов в каждом романе конструировал стальную башню, бахвалился взятой высотой, бравировал барочными метафорами, Битов – выращивал воздушные замки, творил легко и изящно, лавируя между подтекстами и подводными течениями. За нежелание или неумение делать это Проханова всегда снобировали «филологические люди».
[Закрыть]. Мы же были не филологами. Мы были все самоучки. Мы до этой филологии народной дошли сами. Была страсть, все мы были выброшены каждый из своей ладьи, порвали со своим недавним прошлым, причем мы все были людьми антисистемы и, живя в этом системном мире, были абсолютно наивны, мы компенсировали разрыв системы своей страстью, своей игрой и своей катакомбной такой общностью. Мы все увлекались одним и тем же. Мы согревали свою пещеру вот этой красотой – вязанками дров, которые мы приносили туда».
Проханов настаивает, что собирательство песен было не просто увлечением на выходные: «я занимался этим с той же интенсивностью, как потом атомной энергетикой». Это видно хотя бы по подписям под его журнальными текстами 60-х годов: если составить на их основе схему его перемещений по советским провинциям, то, по крайней мере, вся западная часть СССР покроется мелкоячеистой сетью.
Памятуя о затруднениях, с которыми – верно подмечено, филолог – я сталкивался в университетских фольклорных экспедициях, я осведомляюсь, как именно, в техническом плане, происходил сбор песен: вот вы приходите в деревню – и? «Я беру командировку от какого-нибудь, например, „Кругозора“, и с этой командировкой прихожу в обком или в райком, представляюсь столичным журналистом, а в райкоме столичный журналист – персона. Я объясняю свою цель, говорю, что хочу побывать в такой-то деревне, описать игрушку, которую там делают, промыслы, нельзя ли? Мне дают машину, газик, и шофера – и загоняют в эту деревню. Либо они сами помогают мне стать на постой, либо просто довозят до деревни, а я спрашиваю, где здесь можно переночевать, может, где-то там одинокая женщина или пустой дом. И я туда набиваюсь, живо делаю свое журналистское дело, не песенное: либо об игрушках, либо о каком-нибудь комбайнере. А глухие деревни в ту пору все пели. В каждой деревне всегда была своя таинственность, странность. Если это был приход, там можно было поговорить с батюшкой, узнать, о чем в приходе толкуют, послушать церковные, но не канонические песнопения. Поскольку я был молодой человек, москвич, ваших лет, – им это льстило. Когда я приходил на службу церковную, ко мне подходила бедная женщина, клала в руку мне металлический рубль… Меня это страшно удивляло – зачем? А это – уважение: „Ты молодой, пришел в храм. Мы тебя принимаем и благодарим, руку тебе золотим… и вот таким образом я знакомился с ними, и они пели мне свои песни“».
Какие же? Проханов утверждает, что «этих песен вы никогда не слыхали». «Их не пел ни Северный хор, ни хор Пятницкого. Это такие дремучие, угрюмые песни, которые странным образом попались в мой невод в смоленских деревнях». Ему известны «уникальные песни XVI века» – времен покорения Казани, начала Смутного времени, «большинство из которых не найдешь ни у Даля, ни в сборниках Киреевского». Также – религиозные песни хлыстов, «северные – с такой мистикой смерти». (– Не припомните чего-нибудь? – Пожалуйста, колыбельная: «Бай-бай, хоть сейчас помирай. Мамка саван сошьет из сырого холста, папка гробик собьет из тесовых досок».) Как он фиксировал мелодии? В основном по памяти, нотной грамоте он не был обучен, но однажды ему все-таки пришлось изобрести оригинальную крюковую запись, похожую на старообрядческую.
Лишенный в силу самых разных причин возможности попробовать свои вокальные данные таким необычным образом, я прошу его объяснить мне специфику этого досуга. «Я не могу описать, я могу спеть». От этого щедрого предложения я уклоняюсь – случайно на одну из моих кассет записали фрагмент корпоративной вечеринки газеты «Завтра», где главный редактор исполнил что-то из своего обычного репертуара: по правде сказать, это весьма угнетающий опыт, кто-нибудь более впечатлительный мог бы употребить слово «вой».
Это длинные, на полчаса, а то и больше, каждая, песни, исполнявшиеся, «чтобы весь темный зимний вечер прошел незаметно», примерно с третьего куплета вводят исполнителя в транс. «Из этого транса возникает поразительная трансцендентность – взрыв, когда в темной избе или в темной квартире вдруг начинает все светиться, гореть солнце – особое волшебство, колдовство, камлание! – вдруг тебе является твой языческий бог. Тоже в песнях – эта полифония голосов, частью которых ты являешься, ритмы, рифмы, первый голос, второй, подголоски… Все трансы рано или поздно должны кончиться взрывом, катарсисом. Это поразительное ощущение, наслаждение небывалое».







