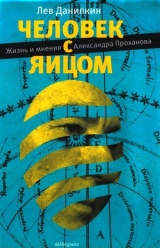
Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"
Автор книги: Лев Данилкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
Проханов предполагает (и небезосновательно), что, если бы не произошла катастрофа 91-го года и все развивалось своим чередом, при сохранении строя, социума и государства, «эти две книги были бы базовыми для идеологии и для литературы. Ибо в этих книгах была линия, связанная, грубо говоря, не с деревней, а с заводами, суперурбанистическая тема. Там, на этих заводах, отрабатывались модели существующих идеологий и политических тенденций, и к тому же это было чрезвычайно актуально. Ничего более важного для страны в ту пору, чем чернобыльская авария, не было».
Первая книга всплыла в журнале «Октябрь» на последней волне советского толстожурнального бума – и тут же беззвучно погрузилась в пучину, не получив, кажется, ни единого критического отклика. Говоря о второй, можно обойтись и без ограничительного «кажется»: «Ангел», изданный с запозданием, когда катастрофа была уже совсем в другой стадии, «пролетел», в самом вульгарном смысле этого слова. Неожиданным образом на роман отреагировали в 2003 году – группа прототипов. В «Экономической газете» появилась огромная статья Спартака Никанорова, в которой он и еще несколько его коллег, экономистов, чуть ли не с микроскопом анализируют прохановскую дилогию. Проханова мало кто читает, поэтому такие подробные оценки воспринимаются как откровение.
Всем «великанам» было лестно, что их тема заинтересовала писателя, но больше всего это было похоже на историю про то, как Незнайка нарисовал портреты своих соседей: про других было очень смешно, но лишь пока они не обнаруживали в романе себя: э, нет, вот тут совсем не похоже, эту картину, ты, братец, сними. То есть, высоко оценив выбор темы, они все же далеко не в восторге от романа. Самым слабым пунктом дилогии оказалась экономическая компетентность автора, не позволившая раскрыть эту важную тему на все сто процентов. Любопытно наблюдать за «великанами», которые, такое ощущение, пишут отзыв не на роман, а на диссертацию по экономике в диалогах, беллетризованное исследование «о драматической борьбе, сопровождавшей попытку использования на строительстве атомной электростанции системы организационного управления, которая была способна, образно говоря, превратить организацию, ведущую строительство, из обезьяны в человека». Уже само «возникновение этой книги представляется совершенно загадочным. Трудно вообразить, каким образом писатель, автор нескольких книг по военным событиям, имевший репутацию человека „с громким голосом“, абсолютно чуждый организационной проблематике, вдруг, ни с того ни с сего, занялся этой областью и освоил ее с несомненным успехом». С. В. Солнцев называет роман «беспрецедентным явлением в отечественной, а возможно, и в мировой литературе. Ни в одной из книг в центре личностного или социального конфликта в организации, представляющего идейный фокус драмы, не находится преобразования форм деятельности организации. Проханов, видимо, первый, кто попытался это сделать». «Совершенно очевидно, что этим романом художественная литература впервые вошла в область, которая никогда не была в кругу ее интересов. Его книга настолько одинока, настолько исключительна, что трудно представить, кто, когда и как сможет продолжить эту линию».
Дальше, однако ж, начинаются претензии. Водянову не нравится, что слепок с него – Фотиев – «безродный, худородный, неграмотный, самоучка, беспомощный, нищий, недокормыш», с жалким «желтым портфелем», приютившийся у случайной «профсоюзницы» и т. п.: зачем?! «Неужели автор не видит, что он не создает у читателя сопереживания к главному герою романа, а провоцирует антипатию? Или он это делает сознательно? Зачем автор выдумал (подстрекательски, что ли?) забастовку на атомной стройке, демонстрацию недовольных рабочих и ее разгон военнослужащими и омоновцами? Конечно, освоение системы может иметь драматические мотивы, но разве в этом дело? Тема-то романа – мировые проблемы теории и практики управления, разрешаемые российским изобретателем. Социальная суть системы „Компас“ и ее инженерные решения писателем не поняты и, соответственно, не раскрыты. Может быть, автор не понял задачи или не справился с ней? То, что мы видим в романе, в лучшем случае душещипательный „винегрет“ для домохозяек. Это не про нас. Уверен, что ни один из прототипов героев романа не даст ему положительной оценки». И дальше припечатывает сапогом: «Ущерба от романа больше, чем пользы».
З. А. Кучкаров считает, что «Проханов не осознал значения проблемы, эмоционально и психологически не вжился в нее и ее выразителем не стал. В основе отчасти лежит недостаточное личное знакомство с этой областью, отсутствие опыта участия, личного видения всего этого. Впечатления, полученные Прохановым от рассказов реальных участников, в чем-то принципиально ущербны. И что же должен думать читатель о „Векторе“? Проханов, я думаю, просто не в состоянии этого понять. Весь его опыт организационного управления – это руководство газетой. Блестящие метафоры не заменяют точного знания области. Огромные слои людей не представляют себе устройства диктофона, телевизора, самолета, что уж говорить об организациях, которые их создают».
Этот «Компас», судя по их высказываниям, был вполне научно обоснованным управленческим механизмом для рыночной среды. Соответственно, «великанам» не нравится, что Фотиев, который на самом деле вполне профессиональный ученый, в романе – дурачок из народа, изобретатель с желтым портфелем.
«Если бы за роман о Джордано Бруно взялся Проханов, то не получилось бы из Джордано Бруно Фотиева? Даже на уровне полубытового стереотипа Бруно – человек другой породы. А у Проханова он выглядел бы как представитель массы. Фотиев у него предстает как изобретатель, а не как творец новых форм. Фотиев несколько раз повторяет, что он неграмотен, что это может сделать кухарка. Но это, по-видимому, принципиальное заблуждение автора».
«У Проханова полностью отсутствует чувство исторического момента. Защита „Красной империи“ не заменяет этого чувства».
«Фотиев по своей собирательной силе не стал Дон Кихотом. Напряженные противостояния романа не стали этической коллизией „Медного всадника“, хотя они такими и являются. А могли бы, и дело вовсе не в недостатке таланта или работоспособности автора. Причиной являются установки видения, мешающие за непроницаемой повседневностью увидеть „вершащееся“, поразиться его формам. Водянов и „Компас“ оказались только „материалом для романа“. Но как необходим сейчас в этой области бессмертный образ!»
Горечь от этого недоумения несколько подслащена забавной репликой главного редактора «Экономической газеты», напечатанной под материалом: «Что ж это за управленческая система такая, если даже сам Проханов ее не раскусил? А была ли система („мальчик“), ребята?»
Что бы ни говорили никаноровцы и как бы показательны ни были их оценки профессиональной компетентности автора, чернобыльская дилогия – безусловно, исключительно удачные тексты Проханова. Он первый ввел в литературу мотив ахиллесовой пяты России – АЭС. У него хорошо получаются портреты катастроф, у него включается воображение, он знает, как должны себя вести в экстремальных обстоятельствах характеры. Можно только надеяться, что он успеет воспользоваться ими как подмалевками. В смысле актуальности у дилогии большие перспективы, ресурс эсхатологических настроений отнюдь не был исчерпан в конце 80-х.
Брежнев был плохой менеджер, но его наследники, как оказалось, справлялись еще менее впечатляюще. Страну выталкивали из того будущего, в которое она имела некоторый шанс попасть, но, определенно, никто не собирался цепляться в это будущее руками и ногами. Медленно он оставался практически в одиночестве, последним хорошим рейнджером.
Глава 15
Мутации комаров в перестроечном СССР. Краткая история «СоЛи». Автор отправляется в салон плитки.
Ельцин издевается над стилистикой Проханова. Рассуждения о метафорах.
Путч 1991-го года и его печальные последствия
«Да, здесь, точно помню. Надо же, ничего не изменилось – запахи те же, кафель, зеркала, умывальники, – по просьбе Проханова, демонстрирующего мне ЦДЛ, мы спустились в туалет. – Вот тут у нас произошла драка». Оказывается, «был такой человек – вылетело имя – в президентском совете, специалист по Достоевскому…» – Карякин, что ли? – «Именно». А уже началась перестройка, расслоение писателей на консерваторов и либералов, и он меня очень быстро возненавидел. И когда мы с ним сидели в Пестром зале за столом, он ни с того ни с сего начал меня оскорблять, отвратительные вещи начал мне говорить, когда ему сказали, с кем он оказался. А я уже был на взводе – в общем, мы договорились до того, что я его пригласил выйти, чтобы драться. По-нормальному, здесь, в ЦДЛ, люди прямо на месте в морду бьют: шарахнул, упал в тарелку… А я-то читал «Три мушкетера», и я вызвал его на дуэль и пошел его бить. А где бить? Мы спустились в туалет. Как сейчас помню – кафель блестит, течет вода, и мы с Карякиным стоим пьяные, готовые начать бой, ничто не мешало. Можно себе представить: кафельный колизей, двое пятидесятилетних мужчин ходят кругами, примериваясь, как сподручнее нанести первый удар. И? «Кончилось тем, что он сказал: нет, это унизительно – драться в туалете, я пошел. И он вернулся за стол. Уже потом, после „великой революции 91-го года“, я однажды увидел его в Переделкино, в каком-то „Мерседесе“, и порадовался за него: он получил все, о чем адепт Достоевского, не убий – мечтал: лимузин, ельцинский президентский совет».
«Россия, ты одурела!» – верно заметил прохановский оппонент; наступали новые времена, и почувствовать их Проханову пришлось много раньше, чем советскому плебсу. Курьезное, но немаловажное для его карьеры происшествие случается в Кремле, на последнем в истории съезде писателей СССР, в июне 1986-го. Чернобыльского ликвидатора и афганского военкора, его усаживают не в зале, а на сцене, в президиуме, вместе с Горбачевым, Яковлевым, Распутиным, Карповым и прочими сикофантами из ЦК и СП: таким образом ему и всем прочим дают понять, что он вот-вот перейдет в новый статус. Одним из тех, кто собирался ввести Проханова в писательское политбюро, был Георгий Марков. «Высокая партийная требовательность, – бубнил Марков, успевший в 50-е вцепиться в загривок умирающему Пастернаку, а затем, в 1985-м, сдать в печать роман „Синегорье“ о молодом секретаре обкома, похожем на Горбачева, и, неудивительно, в 80-е стать главой СП СССР, – важнейшая движущая сила многонациональной советской литературы. Счастлив художник слова, которому… счастлив художник слова, которому… которому… счастлив художник слова, которому…». Неожиданно прямо на трибуне с этим номенклатурным долгожителем начинает происходить нечто странное: он надолго замолкает, повторяется, наконец, его ведет, он глухо стонет и заваливается на бок. «Чернобыль, который взорвался на съезде», – охарактеризовал Проханов инсульт первого секретаря. Начинается паника, вызывают «неотложку», с Маркова снимают туфли, его выносят. Съезд тем не менее должен был продолжаться. «Счастлив художник слова, – дочитывал доклад уже писатель Карпов, по личному указанию Горбачева, – которому будет дано выразить наше время, время крутого, переломного этапа истории». Сразу, собственно, стало понятно, какой художник слова теперь будет выражать время – и хозяйничать в Союзе писателей: за те полтора часа, пока зачитывался злополучный доклад, произошел переворот. Паузой, однако ж, успевает воспользоваться «хитрый» Александр Яковлев, который мгновенно произвел рокировку, касавшуюся Проханова. Последнего вычеркивают из списка кандидатов как мракобеса и антиперестроечника и насыщают его литераторами прогрессивно мыслящими, такими, как Генрих Боровик и Андрей Дементьев. Этот эпизод вполне тянет на отдельную конспирологическую теорию, и Проханов даже бормочет что-то насчет того, что, «может, это Яковлев распорядился подсыпать Маркову в стакан воды какую-нибудь специю».
К 1987-му уже напечатаны «Дети Арбата», к 1988-му – «Живаго», вовсю публикуют Платонова, Набокова и Булгакова. Тотальная либерализация общества – «сахаровские делишки», по выражению Проханова, – уже действовала как центрифуга, но на фотографиях с 50-летия – ресторан «Москва», февраль 1988-го – мы еще видим, в последний раз, весь его литературный рой – Маканина, Кима, А. Гангнуса, О. Попцова, ту самую редакторшу из «Их дерева»… – в одном улье. Через год-два многие участники вечеринки – около двухсот человек – перестанут раскланиваться друг с другом, но пока что они гудят с Прохановым за одним столом и произносят ему здравицы. Он еще не выглядит испепеленным, как в начале 90-х, – весел, жизнерадостен, подтянут; даже за столом видно, что фигура у него, 50-летнего, по-прежнему могла бы впечатлить даже такого изысканного ценителя мужского атлетизма, как Б. Парамонов.
Ровно в тот момент, когда у окраинных ДК неформалы выклянчивают лишние билетики на премьерные показы «Ассы», а на окраинах Степанакерта азербайджанцы гоняются с ножами за своими армянскими соседями, Останкино транслирует на весь СССР «творческий вечер» А. А. Проханова, который рассказывает о своих замыслах, вспоминает об Афганистане, зачитывает отрывки из новых рассказов и отвечает на вопросы зала. Кто-то из зрителей, мужчина в полковничьей форме, спрашивает, не ранит ли его присвоенная ему демократами кличка «соловей Генерального штаба» – на что юбиляр отвечает: «Но ведь это Генеральный штаб Советского Союза, а не Соединенных Штатов Америки». В финале растроганный офицер подходит к нему и едва ли не со слезами на глазах рапортует: «Честь имею».
«Соловья» меж тем демонстрируют по телевизору не только по случаю юбилея, но и каждое воскресенье в 10 утра, он ведет милитаристскую программу «Служу Советскому Союзу!», которую к тому времени немного находилось охотников делать. Там он работает целый год, посвящая этому много времени, – даже на «Ассу» некогда сходить, – и тщетно, потому что от всего этого проекта мало что сохранилось в чьей-либо памяти. Разве что Андрей Проханов вспоминает, как отец возил его на учения на Кольском полуострове, где они снимали репортаж про морпеха, который до армии был типичным мажором, сыном чуть ли не ректора МГИМО, а затем все бросил и пошел в армию. В частности, там был эпизод «морпех снаряжающийся», удивительно напоминающий известную сцену в фильме «Коммандос», где Шварценеггер в течение десяти минут наводит марафет и обвешивается базуками; любопытное совпадение. Картину с участием будущего губернатора Калифорнии Проханов мог увидеть ни много ни мало в местах ее съемок, потому что в конце 1988 года, зампредседателя Комитета защиты мира, он отбывает в турне по Америке, которое не смогли испортить даже певуны Никитины, оказавшиеся с ним в одной делегации. Квартирует он в семьях – в Техасе, Калифорнии, Флориде и Вашингтоне. В столице он читает лекцию про афганскую войну, на мысе Канаверал наблюдает запуск «Атлантиса»; в Техасе инспектирует тюрьму и реабилитационный центр, во Флориде бродит по аттракциону «Город будущего», но в отчете, напечатанном в «ЛГ», с непонятной окружающим твердолобостью долдонит: «Я не верю в слащавую парфюмерную дружбу двух гигантов, распростертых на разных половинах Земли».
Этот текст «Кто ты, middle American?», датированный маем 1989 года, – последний его текст в «Литературке», где именно в это время происходит его стремительная маргинализация. В коридорах уже можно встретить людей девяностых – молодых Ю. Гладильщикова, Б. Кузьминского, С. Николаевича, которые воспринимают нашего героя в лучшем случае как призрак замка Моррисвиль; у него крайне низкий рейтинг цитируемости, на роман «Ангел пролетел» анонсируют рецензии, но их так и не публикуют, его затирают в прессе, и даже друзья считают его последние романы «слишком скороспелыми». Именно от «Литературки», еще в 1986 году, когда его «И вот приходит ветер» вместе с «Прологом» Генриха Боровика участвовал в конкурсе на Госпремию СССР, он получил первый удар: газета помещает на одной полосе две рецензии, из которых становится понятно, что книга очерков «Пролог» – глубокое и выдающееся произведение, а «Горящие сады» сиюминутны и поверхностны. Это покоробило его чудовищно. «И вдруг такая дешевая распродажа», – сокрушается коллега Бондаренко. «Предательство – очень интересное состояние, человек должен пережить вероломство близких друзей, испытать ревность как огромную форму страдания. Газета, которой я служил верой и правдой, которую считал своей родной корпорацией, в которую я был встроен, тайны которой я знал, она в период горячей перестройки вдруг обрушилась на меня с жуткой критикой за то, что я ездил в горячие точки, был символом милитаризма. Я от этой сучьей газеты ездил туда, они оплачивали мне командировки, чествовали меня, публиковали меня полосами, я благодаря этой газете получил репутацию советского Киплинга – и она же ударила меня в спину. Я был ошеломлен. Я перестал ходить туда».
Критика посвящает ему не столько разгромные, сколько ироничные статьи, выставляющие его комическим графоманом-самоделкиным. Самый характерный текст принадлежит В. Матулявичусу; он опубликован под заголовком «Романы на конвейере» в журнале «Нева» (1987). Подобрав несколько анекдотичных цитат (типа: «Женщины, легчайшим шлейфом летевшие за его самолетом, были как бы ассистенты, помощницы, свидетельницы его мастерства»), автор сопровождает их комментариями в том духе, что «это не пародия, а реальный текст». Проханова журят за «упрощенный подход к литературному произведению, когда при его оценке предпочтение отдается конъюнктурно понимаемой актуальности», и ставят ему на вид «снижение художественных критериев», «конвейерный способ производства», тогда как, – справедливо замечает критик, – «писательский труд – это штучная работа».
Судя по годовым обзорам отечественной литературы тех лет, остросовременные вещи в тот момент мало кого волновали – в словесность хлынули Платонов, Булгаков, Пастернак, и на полном серьезе критика рецензирует романы пятидесятилетней давности. В лучшем случае место уделялось Полякову и Каледину, но где уж «600 лет после битвы» было конкурировать с «потаенной литературой»…
Так и не научившийся скрывать свои симпатии к советскому, он становится неудобным, гротескным персонажем, и его начинают вытеснять из разных медиа – из редколлегии «Октября» (главный редактор которого, Ананьев, «очень быстро стал демократом»), из «Служу Советскому Союзу!» – где все материалы, кроме его собственных, фактически становятся антиармейскими. «Это тоже показалось мне формой предательства, потому что те режиссеры, это прежде всего женщины, которые меня пригласили, обожествляли меня, потом стали работать прямо в противоположном направлении. Как так может быть? Неужели вся эта риторика – армия, Родина – была не больше чем риторика, а сейчас появились хозяева, стали платить им деньги, и они стали делать другие вещи?».
В какой-то момент может показаться, что отдельные карьерные неудачи компенсируются респектабельными знакомствами и широкими перспективами. Еще в первой половине 80-х у него, обласканного прессой автора десятка романов, складываются прочные связи с аксакалами СП СССР – Чаковским, Марковым, Верченко. Последние двое готовят его в секретари Союза писателей СССР, это действительно очень высокий ранг, место в ареопаге верховных жрецов. У него завязываются очень хорошие – «неформальные» – отношения с партийным руководством, в частности с очень влиятельным идеологом Севруком, который в Афганистане руководил всей пропагандистской кампанией.
В придачу к статусной роли было бы нехудо обзавестись собственной деревенькой – занять пост главреда какого-нибудь журнала. Еще в 1984-м, после смерти патронировавшего его главного редактора «Знамени» Вадима-«Щит и меч»-Кожевникова, он обозначил свои претензии на это козырное место, но, не в последнюю очередь благодаря усилиям завотдела прозы Н. Ивановой, получил от ворот поворот. Говорят, вы заблокировали главредство Проханова в «Знамени», это правда? «Я не знаю, насколько он мог стать, но слухи такие ходили. Я предприняла со своей стороны все, что могла, чтобы это не случилось. А что я предприняла, я рассказывать не буду. В результате он не стал главным редактором „Знамени“. А он считает, что это я заблокировала? Хорошо!».
В августе 1989 приказал долго жить Савва Дангулов, главный редактор журнала «Советская литература». Этот толстый ежемесячник был «динозавром, который уже в советское время пережил самого себя», он выходил на восьми языках – английском, венгерском, испанском, немецком, польском, французском, чешском и словацком; русская версия почему-то отсутствовала. Это агитационное издание должно было питать социалистически ориентированную культуру и литературу всего мира. Оно набивалось произведениями советских писателей соцреалистической ориентации, туда вкладывались цветные иллюстрации художников-соцреалистов, и все это распространялось бесплатно, субсидируемое государством и Союзом писателей. СП предлагает Проханову занять вакансию, его кандидатуру одобряет ЦК.
Явившись в редакцию, он словно проваливается в болото; сотрудницы «никогда не являлись на работу, что-то плели про какие-то рефераты». При Дангулове журнал считался синекурой для жен и дочерей мидовских и цэковских бонз, соблюдение офисных часов считалось необязательным, чаще всего сотрудники находились в загранкомандировках, осваивая имевшийся в распоряжении «Советской литературы» специальный валютный фонд. Проханов тут же устроил чистку, руководствуясь в своих решениях об увольнении не только компетентностью сотрудников, но и их убеждениями. В частности, он выпер оттуда жену могущественного академика Арбатова, демократа и друга Горбачева (мстя за это увольнение, Арбатов, на встрече Горбачева с главными редакторами в Кремле, процитировал собравшимся самые радикальные пассажи из очередной антиперестроечной статьи Проханова. По мнению последнего, это был прямой донос, но ответить ему в тот момент не позволили).
Первое, чем он занимается, – созданием русской версии: «на фиг мне заниматься этими тухлыми делами?» Разогнав «бабье царство», он комплектует редколлегию из старой гвардии: Афанасьев, Гусев, Ким, Личутин, Курчаткин. Журнал он требует называть «СоЛи», с ударением на втором слоге – «из неповоротливого „Советская литература“ что-то такое французское», и даже меняет дизайн логотипа, особенно выделив первые слоги обоих слов. Имея возможность поехать куда угодно, он прочно окапывается в Москве, раздавая, впрочем, новым членам редколлегии элитные командировки в капстраны.
Первый прохановский номер выходит в январе 1990-го и открывается пламенным воззванием, по которому можно судить не только об авторской стилистике, но и об интеллектуальной атмосфере конца 80-х: «Журнал рождается в смутные дни… Культура предчувствует катастрофу… будем пристально исследовать контуры драмы… гибнут централистские структуры… сколько обломков – столько культур… остается идея Человека, Космоса, Абсолюта… будем фиксировать борьбу идей… армия рассекается… „дуга нестабильности“… будущее – какое оно?.. Кто сформулирует „компенсирующую идею“? Только культура… Истина, скорее всего, не на площади, не во дворце, не в научном центре, а в какой-нибудь закопченной баньке. Сидит, свесив кривые ножки, сосет палец».
В первом же номере предсказуемо реставрируется «Жизнь слепых» – с кооперативными очками евродизайна: протоиерей Лев Лебедев сосет палец, размышляя об иконах, коротающий последние свои парижские денечки Мамлеев окунается в Нигредо («Управдом перед смертью»); на что действительно трудно не обратить внимание, так это на странное интервью В. Огрызко с Л. Гумилевым. Последний, рассуждая об облучении Земли потоками космической энергии, обращается к теме мутаций и неожиданно осведомляется у своего собеседника: «Вы на каком этаже живете?» – «На втором». – «Комары беспокоят?» – «Пока нет». – «А нас уже беспокоят. Причем появились совершенно новые комары, которые летят и не жужжат, но очень больно кусаются. И я слышал доклад профессора Яблокова, который сказал, что в Ленинграде появились мутации комаров!». Как видите, нормы перестроечной журналистики расширились настолько, что допускают появление в печати ранее немыслимых неформальных элементов.
Экзотические инсекты были не единственной мутацией конца 80-х. Если Л. Н. Гумилева донимали бесшумные комары, то А. А. Проханов, наоборот, страдал от бесконечного жужжания, доносившегося из-под его окон. Там кафе «Лира» непостижимым образом трансформировалась в «Макдоналдс», куда слетались колоссальные орды истерзанных коммунистическим режимом граждан СССР. Спустился ли он со своего Олимпа, чтобы заказать полдюжины макнаггетсов? Ни боже мой, и даже наоборот: вместе с «единомышленниками» организовал и возглавил первую в СССР антиглобалистскую демонстрацию: с плакатом «Долой гамбургеры!» домаршировал от памятника Пушкину до собственного подъезда. Что конкретно его не устраивало в «Макдоналдсе»? «Это был символ либеральной демократической экспансии, а я был по другую сторону». «Война символов», «очень смешно» и «контркультура», уточняет он смысл своей акции. Пушкинская площадь еще и до всякого «Макдоналдса» стала советским Гайд-парком, где чуть не 24 часа в сутки бурлили непрерывные митинги. Там, где сейчас фонтан, все кипело людьми. «Товарищи евреи! – кричал в мегафон национал-патриот Осташвили. – Убедительно прошу вас, уезжайте из России». Ему, со своего ящика из-под мыла, отвечала Новодворская: «Вы – фашисты. Вас нужно судить Нюрнбергским трибуналом!».
Этот Осташвили околачивался не только перед прохановскими окнами. 18 января 1990 года вместе с экстремистами из общества «Память» он врывается в ЦДЛ на вечер писательского объединения «Апрель». Тот рейд был одним из самых громких скандалов перестроечной эпохи: писатели в тот момент были авангардом общества, и все с ними происходившее вызывало большой резонанс. По мнению Проханова, группа «Памяти» «просто вошла в зал» с целью сорвать вечер «Апреля» «не то в защиту евреев, не то антифашизма» – «без драк и факельных шествий», «просто пришли базарить, как лимоновцы». Знаменитый инцидент с демократически ориентированным литератором Курчаткиным, коллегой Проханова по клубу «40-летних», в его версии выглядит следующим образом: «он был в очках, и то ли ему по шее двинули эти „памятники“, эти очки упали, и по ним прошлись, их раздавили». Надо сказать, эти события известны и в другой версии. «Это был настоящий черносотенный погром… Осташвили кричал в рупор: „Жиды, убирайтесь в свой Израиль! Вы не писатели – писатели Распутин, Астафьев, Белов. Мы в своей стране, а вы – пришельцы… Сегодня мы пришли с мегафоном, а в следующий раз – с автоматом“. Молодчики из общества „Память“ выламывали руки пожилым женщинам, били по лицу мужчин» (Матусевич, «Записки советского редактора»).
Осташвили был арестован, чтобы – в первый и последний раз в России – предстать перед судом на процессе об антисемитизме. Общественным обвинителем был Черниченко, курчаткинские очки демонстрировались на этом Нюрнберге как улика, свидетельствующая о наступлении русского фашизма. Осташвили получил срок; в апреле 1991-го его нашли в удавке в нужнике – «по заказу», считает Проханов. Это сомнительное самоубийство произвело на него «ужасное впечатление». В высшей степени сочувственное отношение к Осташвили, имя которого всеми известными лично мне людьми в тот момент употреблялось как абсолютный синоним слова «Гитлер», дает представление о стремительно меняющемся круге его общения тех лет. Неудивительно, что злосчастного Курчаткина выставляют из редколлегии «СоЛи», в то время как уцелевшие всячески демонизируют своего экс-коллегу на каждой планерке как «человека, из-за очков которого повесили Осташвили».
В чем вообще состояла редакционная политика «СоЛи»? «Я должен был печатать то, что появлялось в ту пору в литературе, то есть работы скорее перестроечные, других просто не было. Тут же пошли гневные отклики из-за границы от старых коммунистов, которые восприняли перестройку как крушение их идеалов. Но поскольку это было брюзжание людей, получавших журналы бесплатно, я продолжал гнуть свою линию; были отказы от печатания в журнале».
Интересно свидетельство Дугина о тех годах. «Своим знакомством с Александром Прохановым я обязан Юрию Мамлееву… Вернувшись из глупой эмиграции в перестройку, крестясь на фонарные столбы и облизываясь на любимые русские московские лица, как на пасхальные яйца, Мамлеев своим классическим полушепотом сообщил мне в конце 80-х: „А вы знаете, Саша, что Проханов „наш“…“ „Как „наш“?“ – удивился я. Мне казалось, что он по ту сторону баррикад, кадровый, человек, покорно и безропотно обслуживающий догнивавшую Систему. „Проханов же – просоветский писатель, а эти писатели должны быть повешены на фонарях, они погубили великую Россию“, – я был антикоммунистом тогда. „Нет-нет, вы ошибаетесь, – продолжал уверять меня Мамлеев, – он все-таки „наш“, „потаенный“, „обособленный“… „Проханов любит Россию, он хороший, давайте познакомимся“. Я поверил Юрию Витальевичу и пошел в журнал „Советская литература“ к Проханову“. Там сидел Александр Андреевич, и знакомились мы с ним странно, с легким наездом. Он был такой советский начальник, а я – молодой человек, ничего не опубликовавший в российской прессе. Он говорит: „Я главный редактор“. – „А я Дугин“, – и думаю, что б еще сказать. И говорю: „Я друг Мамлеева“. Тут Проханов как-то подумал и говорит: „И я друг Мамлеева“. И это нас уравняло: мы – друзья Мамлеева. Он, будучи всем, а я никем, быстро стали на равных. Мне было весело, и ему, по-моему, тоже».
«Я помню, у него на пальце был исламский, суфийский перстень, который он снял с какого-то заколотого или повешенного моджахеда в Афганистане. Я на него обратил внимание и спросил: „Вы же воевали на стороне безбожной атеистической советской государственности… интернациональный долг… что вы носите, так сказать, регалии совсем другой линии, традиционного общества, которое воевало с вами?“. На что он, как-то так присвистнув, сказал: „Мне и те и те нравятся“. Это меня очень поразило, он уже тогда мыслил в категориях не белых и не красных, над врагами и друзьями».
«После нашей встречи я смутно почувствовал, что Мамлеев был прав».
Второй номер был почти целиком «афганским», гарнирующим повесть главного редактора «Знак девы». С третьего Проханов затевает раздел «Атлас идеологий» – жанр, который через десять лет в глянцевых журналах будет называться «гид»: «очертить ландшафт нашего бурного полифонического общества… молодая поросль, под которой – особая экология». Он хочет продемонстрировать, что под советским куполом находилось множество воззрений – «неосоциализм, русская идея, еврейская версия, централисты, технократы, утописты, шаманы, экологисты» и другие – сформулировать эти идеологии, показать, как они выглядят в позднесоветском контексте, привлечь для интерпретаций этих идеологий их носителей. Одна из «идеологий» называлась «Оборонное сознание», для ее объяснения печатался диалог главного редактора с О. Баклановым – о конверсии, разоружении, военных проектах позднего СССР. Еще здесь есть интервью Проханова с Варенниковым, интервью с «концептуалистом» О. Трезом – «исследование социальных проблем, взгляд на текущий в СССР процесс чрезвычайно жесткий, я бы сказал, катастрофический». Дугину Проханов предложил напечатать статью «Конец пролетарской эры», где тот излагал «традиционалистские» соображения относительно сроков окончания советского периода. Дугин уверяет, что в 1989 году эта статья не могла пройти нигде ни при каких условиях. Александр Андреевич, опубликовавший ее, поразил молодого эзотерика: «это был жест по тем временам немыслимой дерзости». Позднее в «СоЛи» была напечатана статья Дугина «Континент Россия».







