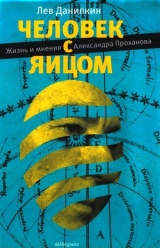
Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"
Автор книги: Лев Данилкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
Нынешняя Москва, которую он, в общем-то, проглядел, пропустил, занимаясь политикой, для него – другая планета, которую он, когда есть время, исследует едва ли не систематически. «Эти годы, начиная с 91-го, я был погружен в свой раскаленный красный кипяток, где сгорали, вываривались и исчезали остатки советского, великого советского. И эти тонкие наслоения нового уклада были мне либо не интересны, либо импульсивно враждебны. Но, по мере того как мой кипяток остывал, эти тонкие эссенции превращались в заметные флюоресцирующие потоки, я к ним приглядывался как к чему-то очень для себя интересному, новому, загадочному и не слишком опасному – и теперь довольно часто я совершаю экспедиции к ним».
Куда именно? «Например, я совершаю экспедицию в гей-клуб. Беру с собой провиант на несколько суток, альпеншток, аптечку, руководство, как обращаться с аборигенами, всевозможные разговорники, ищу, где есть переправы через реки. И двигаюсь туда. Такие экспедиции я совершаю повсюду: и в огромные супермаркеты, и в казино, и в новую гедоническую молодежную среду…»
Я видел Александра Андреевича на одной «гедонической» свадьбе, и он явно чувствовал себя не в своей тарелке; очень сомневаюсь, что он в самом деле был когда-нибудь в гей-клубе.
– И что же с вами происходило, например, в казино?
– Ну, несколько раз проигрывал, потому что я не умею играть.
– Во что вы играли?
– Блэкджек или игральные автоматы. Мне хотелось услышать звяканье этих механизмов, я их эксплуатировал. В этих местах знакомился с девушками, барышнями. Приятно было сесть за стойку бара и угостить каких-нибудь красоток, лица которых были сделаны на таких, видимо, металлургических заводах. Они были покрыты тонкой металлической пыльцой, алюминиевой пудрой, сверкающей золотыми, серебряными блесками, такие лица-маски. Мне доставляло удовольствие с ними посидеть, поболтать, пококетничать.
– Вы ходите сейчас по таким заведениям?
– Мало хожу, но я все равно вижу эту новую Москву, езжу по ней на машине, я восхищаюсь ею, посещаю те места, которые мне не известны, новый уклад я раньше не видел, не знал, и все это мне интересно – ночные клубы, дискотеки.
– Что вы там делаете?
– Что делаю? Что все делают: зайду туда, поужинаю, потанцую, какую-нибудь барышню сниму, в джакузи посижу…
В «Бой» не вошел лучший, наверное, прохановский очерк последних лет – «Игорный дом», напечатанный в «Завтра» в декабре 2001 года. Это история про Москву, напичканную игровыми автоматами, и людей – жертв этих машин. В который раз Проханову удалось «поймать метафору современности»: игральный автомат. Москва – игорный дом. Конец очерка сюрреалистический: игрок сам превращается в автомат, к которому подходит чеченец, владелец зала, рассматривает новинку, не понимает, откуда она взялась, и прочитывает загадочную надпись: «Гонконг»; больше, чем на странную дзенскую шутку, это похоже на приговор Москве.
Также он рассказывал мне, как недавно «посетил супермагазины, мимо которых постоянно проезжал на автомобиле в течение последних лет, куда у меня не было времени заглянуть, потому что у меня не было необходимости обставлять свою новую стокомнатную квартиру итальянской мебелью». Как ему пришло в голову зайти туда? «Я ехал, по приглашению МПО „Энергия“, на завод Хруничева, одно из святилищ советской военной экспансионистской техники и науки. Все эти гигантские заводы, технократические храмы с охраной, за семью печатями, со сторожевыми вышками, секретами, были святилищами советской цивилизации. Я посетил три или четыре подобных центра, они все деградировали, там нет заказов, стоят недоделанные ракеты, этот несчастный трагический „Буран“, который они даже вывезти не могут, окаменел и превратился в какой-то реликт советского угольного периода. И меня охватила тоска, тоска человека, который так или иначе участвовал в создании этого огромного величия». Пребывая в ипохондрическом состоянии духа, на обратном пути он обратил внимание на гигантские храмы торговли, «капища товаров, которые вырастали по всей кольцевой дороге в туманах, сварке, как огромные мегаполисы». Они выгодным образом контрастировали с заводами им. Хруничева – «угнетенными, обезлюдевшими, с печальными руководителями, утратившими свою вальяжность и орденоносную вседозволенность» – и он решил узнать, что там внутри.
– Вы взяли тележку?
– Нет, я поставил свою машину на стоянке и двинулся к стеклянным огромным пузырям, летающим тарелкам, соединенным надувным городам. Я бродил по этим кристаллическим структурам, которые переходили друг в друга, и можно было просто войти в пузырь с одной стороны, и, двигаясь, по стеклянному кишечнику, пройти тысячи километров и выйти где-то у экватора. (Похоже, он описывает посещение ТЦ «Гранд» на Ленинградке.)
– Что вы приобрели там?
– Мне ничего не хотелось купить. Я подхожу к магазину не как к месту совершения покупок, а как к огромному музею современной цивилизации. Мои путешествия в эти новые уклады чисто познавательные. Я чувствую себя Гумбольдтом, который исследует народившуюся планету. Как правило, делаю это для того, чтобы потом реализовать в своих новых писаниях. Какое количество глаз, например! Рыбий глаз, бычьи глаза, овечьи, свиные, я не удивлюсь, если увижу там человечьи глаза с остатками моноклей. Или – бесконечное разнообразие кресел. Какое же количество задниц, с каким, видимо, количеством потребностей, с какими утонченными диспропорциями этих задниц сталкивается рынок, что он создает такое гигантское количество кресел. Бесконечная вариация на одну и ту же тему – вот самое загадочное явление последних времен.
Его персонаж фашист Саблин из «Надписи», оказавшись в голландском супермаркете, испытывает то же изумление перед «разнообразием форм, в которые облекался один и тот же товар. Это перепроизводство, навязчивое изобилие, умопомрачительная избыточность порождали болезнь. Психика не выдерживала материального натиска, разрушалась, агрессивно реагировала на безудержное множество. Саблин с ненавистью смотрел на витрины, понимая, что они предназначены отвлечь его от насущного поиска, замаскировать своим блеском, формами то ничтожно малое отверстие, в которое желала проскользнуть его жизнь». Ненависть Проханов заботливо зарезервировал для своего полубезумного героя, но можно предположить, что нечто подобное испытывает к этим храмам потребления и автор.
2005-й, кроме прочего, был годом, когда специфически его темы и способы письма – Чечня, роман на злобу дня, «левый поворот» – в смысле, социальная ответственность и имперский патриотизм – стали общеупотребительными: если не в Кремле пока, то в литературе и обществе. Литература переварила, наконец, его тяжелые вещи. После «Надписи» его уже гораздо реже в открытую называют аутсайдером и графоманом. Несколько молодых писателей самозабвенно присягают ему на верность, припоминая, что читали его с детских лет. Он резко расширяет ареал своего обитания, став, например, штатным фактически, обозревателем «Эха Москвы» (и реклама в программах с его участием продается влет). Но буквально три-четыре месяца спустя «Надпись» заштриховывается другим романом – и тоже прохановским.
Весь роман «Политолог», странное дело, воспроизводит сюжет антониониевского фильма «Blow-up», где фотограф, многократно увеличивая снимок, замечает на нем мертвеца. То же и в «Политологе» – главный герой, политтехнолог Стрижайло, скрупулезно анализирующий политический ландшафт, тоже обнаруживает в кустах труп – но не чей-то конкретный, а труп Человека вообще.
Увлечение футурологией Фукуямы и генной инженерией, новый статус – главного телебуффона от оппозиции в кремлевских и либеральных СМИ и переживание нового витка политической деградации, в том числе из-за украденной Кремлем идеологии оппозиции, зачистки Ходорковского, полное разочарование в КПРФ и ставка на рогозинскую «Родину» – вот из чего выкристаллизовался «Политолог».
В Михаиле Львовиче Стрижайло узнается вовсе не политолог С. Белковский, как втемяшилось почему-то всем комментаторам, а карикатурный автопортрет самого Проханова – похожая профессия, похожая биография, то же помешательство на Пскове, похожая коллекция «фетишей», в которой, правда, вместо гильз и фляжек – трусы и бюстгальтеры любовниц, и даже день он начинает с газеты «Завтра», которую читает, «чтобы лучше понять левопатриотические настроения». Как и Проханов в последние годы, он нарасхват – за него бьются лидер КПРФ, президент корпорации «Глюкос», опальный лондонский олигарх и, наконец, директор ФСБ. В «Политологе» есть то, что критик Золотусский в свое время с очаровательной неуклюжестью называл «отрицательной энергией самообнажения». Это не то что палинодия главного редактора «Завтра» (за что ему, собственно, каяться?), но анализ вслух собственного рентгеновского снимка: не подсел ли он на Останкинскую иглу, не слишком ли далеко зашел в своих политических альянсах?

Сувенир, который сам Проханов называет «Слеза Ходорковского».
Как и все прохановские герои последних лет, Стрижайло – челнок, курсирующий между десятками планет: он посещает светские рауты и телешоу, а в промежутке таскается на свидания к своей невесте рыбе палтус, которая прохлаждается в рамсторовском рефрижераторе; это и политический триллер, и мистический раек; десятки голов романа расползлись по огромной территории – но это одно существо, которое единственным напряжением мышц может сгруппироваться в компактную огневую точку, – и вот в конце роман смыкает кольца и предстает клубящимся Пифоном.
Конец – это бесланские сцены: Стрижайло, разглядев на своей «фотографии» тревожащую точку, производит финальное фотоувеличение – и отправляется 1 сентября в Осетию, чтобы оказаться в спортзале школы № 1. Проханов так крупно показывает то, что происходило, потому что там убивали не только конкретных людей – но, по его мнению, Человека вообще, человека как особый биологический вид, человека христианской эры, чтобы расчистить пространство для нового постчеловеческого андроида, продукта генных технологий тайных лабораторий ФСБ. Именно это символическое «перекодирование человечества» – реализованный здесь и сейчас проект будущего из книги футуролога Фукуямы. «Наше постчеловеческое будущее» на пороге и есть «романная ситуация» «Политолога»; роман не просто летопись только что закончившегося 2004 года с его ренационализацией ЮКОСа и Бесланом; речь о свершившейся биотехнологической революции – о почти свершившейся, отсроченной благодаря Стрижайло, который ценой жизни помешал «перекодированию».
В мае 2006-го Проханов крутанул штурвал сильнее прежнего – и, похоже, «Теплоход „Иосиф Бродский“» протаранит-таки мол, за которым укрывались от иронии скептиков самые преданные его читатели – чтобы, затонув, надолго стать рестораном-поплавком, где будут проводиться конференции на тему «Проханов – графоман».
Это раньше он клепал реалистические романы «с галлюцинациями», сейчас Проханов не столько сочинил роман, сколько записал на 600 страницах свой сон, в котором «реалистического» – то есть действительности в ее типических чертах – столько же, сколько в кольриджевском сне о Кубла-хане. Из Москвы в Петербург отплывает теплоход «Иосиф Бродский», на котором политики, олигархи и челядь из культуры справляет свадьбу угольного магната Франца Малютки и светской львицы Луизы Кипчак. Главный герой – глава президентской Администрации Василий Есаул – узнав о том, что его шеф отказывается идти на третий срок, лавирует между кишащими на судне врагами России, пытаясь сохранить власть во что бы то ни стало. Пока на «Бродском» элита закатывает оргии и общается с духом нобелевского лауреата, под Воркутой погибают несколько шахтеров, один из которых превращается в ангела-истребителя; прорыв под землей лаз, он выныривает в Исакиевском соборе, чтобы отомстить либералам, геям и американцам за все, что они сделали с его родиной. Тем временем скрывающийся в Петербурге от преследований газеты «Завтра» «писатель Проханов», побеседовав еще с одним ангелом, отправляется на Васильевский остров, где, прислушиваясь к внутреннему голосу, записывает стихотворение Бродского «Ни страны, ни погоста…»
Сразу следует сказать, что в масштабе 1:1 это гораздо чудовищнее, чем в пересказе; роман, по сути, состоит из бесконечных описаний половых органов, «изысканных» блюд и цветовых галлюцинаций. Это даже не сатира уже – потому что сатира обличает негативные явления действительности, а тут химеры и горгульи, и все. Удивительная вещь для Проханова – который всегда превосходил конкурентов именно остротой приметливого журналистского глаза. «Теплоход», такое ощущение, написал слепой, у которого остались только воображение, память и идеи. Писатель не стал разыгрывать даже самую очевидную карту – водный маршрут Москва – Петербург. Герои просто плывут по абстрактной Волге, натыкаясь на курьезные анклавы вроде чеченской и китайской деревень или генерала Макашова, бьющего в набат на затопленной колокольне. Это сугубо визионерская вещь, где вместо деталей – символы, вместо логических связок – причудливая агглютинация сна, и ни о каком правдоподобии речь не идет. За голову хватаешься уже когда понимаешь, что главный герой – Василий Есаул – гибрид, держитесь, Игоря Сечина, Владислава Суркова, Дмитрия Козака, Александра Проханова и Александра Руцкого: менеджер-силовик, изворотливый политический модельер, патриот-государственник, империалист, пророк, близнец и антипод Бродского, военный летчик, сбитый в Афганистане и распятый в плену моджахедами. Не спрашивайте, как такое может быть: это сон, и самое время взяться за его толкование, чтобы понять, с какой стати Проханов взялся его пересказывать.

Карикатура из газеты «Дуэль».
У романа, на отделке которого автор хорошо сэкономил, есть, однако, настоящая боеголовка. Изданный 5000-м тиражом, «Теплоход», на самом деле, адресован трем-четырем читателям. «Иосиф Бродский» – ужасно неуклюжая попытка всучить перспективным фигурам из президентского окружения – сечину-суркову-козаку-медведеву – барашка в бумажке, политический аванс, вовлечь их в свою орбиту. Если перевести провокационный месседж витиеватого романа на вульгату, то получится вот что: «Ребята, Путин вот-вот уйдет и сдаст вас – ну так ответьте ему тем же, если не хотите отправиться в Гаагский трибунал. Продолжив политику восстановления империи, вы не потеряете свои должности, яхты и нефтяные компании, но спасете Россию от либерально-еврейского Антихриста, сбережете народ и заслужите вечную славу». Рисуя Есаула силовиком-интеллектуалом, Проханов предлагает своим колеблющимся политическим партнерам ролевую модель, соблазняет их – и проповедует. «Вот та грязь, в которой вы пребываете (сексуальные оргии), вот те, кто растерзает милую Россию (евреи и американцы), вот то, кем вы можете стать (Сталин)». Я, говорит он, снабжу ваш проект идеологией, обеспечу вам миф: героическую биографию – и место в истории. Я инвестирую в вас свою великолепную фантазию и свою безупречную кровь, привью вам лучшие, избранные гены – полковника-афганца, художника-последнего-солдата-империи. Я сделаю из вас, менеджеров-временщиков, былинных героев. Я достаточно квалифицированный соловей Генштаба, чтобы защитить вас от ястребов Пентагона.

Карикатура из газеты «Дуэль».
Из «Теплохода» можно набрать таких цитат, что за Прохановым начнет охотиться «Моссад»; но едва ли можно обвинять Проханова в подсудном – и даже зоологическом – антисемитизме: призывах к этническим чисткам или чему-то подобному. В сущности, «Теплоход» – вовсе не анафема евреям, но предложение о партнерстве, подход делового человека: работайте в своем направлении, мы будем – в своем, и, будьте уверены, если каждый исполнит свое предназначение, мы непременно обнимемся на Страшном суде, где ваш Бродский станет автором моего «Красно-коричневого», а я, Проханов, выведу на чистом листе его «Ни страны, ни погоста…» – чем, собственно, и заканчивается этот роман, безобразно неполиткорректный, но не расистский, нет.
Если бы не злополучный «Теплоход „Иосиф Бродский“», автор этой книги так и писал бы ее, соревнуясь с героем в долгожительстве: но после моей рецензии на этот роман, где несколько раз было произнесено слово «графомания», Проханов перестал со мной разговаривать. Ну, может быть, не вовсе перестал, но, во всяком случае, мне дано было понять, что я переступил некую черту, и на этом наши с ним отношения – которые я, рискуя показаться наивным, мог бы назвать теплыми, – закончились. Нет худа без добра: где-то надобно ставить и точку.
Эккерман, биограф Гете, обычно начинает свои эпизоды с указания на восхитительную простоту своего общения с поэтом: «Обедал у Гете». «Сегодня прожил подле Гете несколько прекрасных часов». Мои часы, проведенные рядом с Прохановым, несмотря на то что он исключительный рассказчик, неиссякающий генератор идей, образов, шуток и метафор, не были прекрасными – я выходил от него страшно изнуренным. Нет, он никогда не позволял себе разговаривать со мной менторским тоном – если ему и хотелось акцентировать мою неосведомленность, наивность или филистерство, то всегда он делал это крайне иронично; он умеет подтрунивать так, чтобы собеседник не чувствовал себя обиженным. Но даже просто слушая его и практически не вступая с ним в беседу, от него сильно устаешь, испытываешь физиологически ощутимое чувство его интеллектуального превосходства. Рядом с ним всегда горячо, он как вулкан, пышущий жаром, солярис, огромный мозг и память, – и иссушает тебя; раздумывая об эффекте, который производит на окружающую действительность его присутствие, я вспомнил о нашей псковской поездке – тогда я увидел, как рядом с ним в буквальном смысле на глазах замерзала, смерзалась, створаживалась в лед вода; да ведь этот человек – машина, которая перерабатывает, преодолевает текущее состояние любого материала, попадающего в его поле.
В последние годы я не раз и не два ссылался в своих текстах на романы и мнения Проханова, несколько раз я писал заметки апологетического характера о нем самом, но не думаю, чтобы меня можно было квалифицировать как – возьмем наиболее утрированный вариант – «прохановского прихвостня». Я никогда не голосовал за его романы на «Нацбесте», не гулял на его презентациях; в газете «Завтра», бывает, печатают мою фамилию едва ли не в проскрипционных списках. Я всегда воспринимал Проханова с симпатией, но не более того.
По мере возможности я старался сверять сказанное им с другими источниками. Более того, я из кожи вон лез, чтобы раскопать в его биографии что-нибудь в духе главы «У Тихона» из «Бесов» Достоевского; по правде говоря, мне ни разу не удалось поймать моего собеседника за руку. Однажды – последняя надежда – я проник на сайт «Компромат. ру», клондайк для предприимчивых правдоискателей. Наиболее порочащим материалом из тех, что там обнаружились на соответствующую фамилию, были стихи «Насадил на штык я ваххабита» из газеты «Завтра» 1999 года.
Честно говоря, теперь мне даже кажется, я затрачивал на усилия по сохранению дистанции слишком много энергии. Возможно, впрочем, так у книги появляется шанс стать объективной.
Этот шанс невелик – хотя бы потому, что, я уверен, Проханов не был со мной вполне искренен. «Каковы шансы у самого опытного биографа, что объект его внимания, взглянув на автора будущей книги, не вздумает разыграть его?» – задает себе вопрос барнсовский герой в «Попугае Флобера». Может оказаться, что все сказанное клиентом следует воспринимать с известной поправкой на его неусыпную дипломатичность и жовиальный характер. Во всяком случае, я почти уверен, мне ни разу не удалось застать Александра Андреевича в стопроцентно естественном состоянии. Он всегда позировал – разумеется, без фиглярства и с достоинством. В принципе, как и у всех журналистов, у меня были все возможности отредактировать наши интервью в самом невыгодном для него свете, но менее всего мне хотелось выставить ослом человека, который, сам того не осознавая, был для меня тем, кем аббат Фариа был для Эдмона Дантеса.
У Проханова в «Последнем солдате империи» есть один персонаж – некий инженер Тараканер, участник проекта запуска космического челнока «Буран», крайне скептично настроенный ко всему советскому, неутомимый хохмач. Сцена заканчивается тем, что «Буран», в самом деле, возвращается кишащим космическими тараканами; это знак Белосельцеву, знак того, что скептики, тараканеры, выели сердцевину советского проекта. Тараканер – может быть, самое омерзительное существо, созданное фантазией Проханова (сделаем вид, что мы не замечаем антисемитских коннотаций этой фамилии; в конце концов, он был бы не менее отвратительным и с фамилией Тараканов); его скептицизм кажется не просто неуместным, а почти кощунственным. Вообще-то Проханов никоим образом не является любимым моим писателем; если уж на то пошло, вместо безумных фантазий о свиданиях с рыбой палтус я бы с удовольствием прочел новый роман того же Барнса, все написанное которым есть эффектная демонстрация того, что не следует доверять ничему – фактам, эмоциям, предрассудкам, да даже и метафорам. Вот и к Проханову я всегда относился с иронией – да и сейчас отношусь, однако до известного предела. Дело в том, что общение с Александром Андреевичем – и знакомство с его произведениями – некоторым образом учит тому, что зона действия скептицизма имеет свои ограничения; что иногда он неуместен, адекватен пошлости, безвкусице. После такого введения самое время приступить к разъяснению того, о чем дальше, похоже, уже не имеет смысл умалчивать – раз уж автор этой книги не собирается коротать остаток жизни в компании тараканеров.
Боюсь, тому, кто возьмется рассуждать о Проханове, чьей конституирующей чертой является, как мы видели, феноменальная способность к Творчеству, к созданию новых материальных и духовных объектов, придется рано или поздно прибегнуть к термину «Дух». Что такое «Дух», – который дышит, где хочет, как часто напоминает нам Проханов, – в его понимании? Пожалуй, не столько христианский Дух, сколько – способность материи к развитию, к самопреодолению, импульс к переходу в качественно новую, более сложно организованную стадию, некая потенциальная энергия, творческая энергия мироздания. Это Дух, который самонаправляет развитие. Развитие в прохановском мире есть благо; любое изменение, ведущее к преодолению противоречий, свойственных текущей стадии, и подъему на новую ступеньку лестницы развития, есть прогресс, в гегелевско-шеллинговском смысле, поскольку в конечном счете ведет к абсолютному торжеству Духа.
Интенсивнее всего Дух проявляет себя через людей творчества. По-разному. Через одних Дух закрепляется на достигнутых позициях, интерпретирует уже свершенное, тестирует материю на наличие скрытых противоречий, сканирует на разрывы и лакуны – и штопает их в пожарном порядке, заполняет лоскутами материи.
Другим людям творчества поставлена задача преодоления. Это их усилиями человечество преобразуется, штурмует новые ступени все той же лестницы. Этим орудиям Духа некогда выявлять противоречия и копаться в причинах, которые их вызвали, в психологии отдельных индивидов и целых коллективов – им надо преодолевать, приводить материю к новому состоянию. Разумеется, за счет этого «некогда» они теряют нечто.
Проханов яркий представитель класса «штурмовиков». Американский философ К. Уилбер, систематически исследующий то, где и как дышит дух, предпочитает называть таких людей, являющихся инструментами духа, мудрецами: «Я думаю, что мудрецы – это и есть вершина эволюционного развития. Я думаю, что они – лидеры движения самопреодоления, которые всегда выходят за пределы того, что было прежде. Я думаю, что они воплощают в себе само стремление Космоса к большей глубине и более широкому сознанию. Я думаю, что они представляют собой луч света, мчащийся на свидание с Богом».
Если отложить микроскоп, перестать фиксировать отдельные изъяны и попытаться охватить прохановскую биографию одним взглядом, мы увидим, что вся деятельность этого человека обусловлена импульсами, совокупность которых можно назвать программой, заветом, составленным Духом. Человек есть то, что нужно преодолеть. Природа есть то, что нужно преодолеть. Смерть есть то, что нужно преодолеть. Консервативное общество есть то, что нужно преодолеть. Несовершенный политический строй есть то, что должно преодолеть. Обстоятельства – какими бы они ни были – есть то, что должно преодолеть. География (расстояния/климат/пространства) есть то, что нужно преодолеть. Стиль – тоже то, что нужно преодолеть. Если лестница развития существует, то по ней надо подниматься, преодолевать текущие состояния и творчески конструировать новые миры. Это не рацио, это инстинкт.
Этим инстинктом – и этой миссией, возложенной Духом – все и объясняется: поступки, «графомания», эстетические предпочтения, политическое кредо.
Что касается «графомании», то тут лучше всего держать в уме прохановское соображение (или даже афоризм) о том, что «стиль – результат великих неудач художника». Как можно это интерпретировать? Как признание в неудаче – или как открытие, что стиль – это инструмент преодоления?
По существу, история Проханова-писателя – это история о «преодолении стиля» – сначала хемингуэевского, потом набоковского, потом «советского», потом новорусского-вседозволенного – всегда сильными методами, «фольклором», «авангардом» сначала и «галлюцинозом» потом.
Его, кажущееся обывателю анекдотичным, экстенсивное письмо, безудержное писательство, стремление моментально «закатать в роман» все что ни попадя – есть, по сути, инстинкт преодоления хаоса наличных явлений, инстинкт переработки частиц низшего порядка в более сложно организованные системы, инстинкт создания конструкции, движения, развития, перевод слов/информации из одной стадии в другую, не идеальную, но более высоко организованную, отвечающую более строгим требованиям. Просто «события», факты истории, пусть даже самые курьезные, в его иерархии – это частицы низшего порядка; не закатанные в роман, не переработанные, они – ничто, не преодолевший себя материал, не имеющий, по сути, ценности. Чтобы извлечь из него энергию, его нужно преодолеть, переработать.
Пресловутая «энергетика» прохановских текстов, в которой ему не отказывают даже самые скептичные эксперты, как мы видели, не сводится ни к оригинальным метафорам, ни к «галлюцинозу», ни к впечатляющему богатству тезауруса, ни к универсальной эрудиции автора, склонного оперировать терминами и метафорами из гуманитарных и естественных наук – геологии, естествознания, медицины, агрономии и инженерии, ни к словосочетаниям вроде «ионизированная плазма» и «контакт с биосферой», употребленным вне свойственного им контекста. «Энергетика» – это заложенная в стиле способность к самопреодолению.
Генетически прохановская «энергетика» связана с прохановским «конструктивизмом», конструктивистским восприятием материала: он сам обнажает техническую основу и функциональность своих творений, не стесняется экономить на отделке – ради того, чтобы добиться выработки максимального количества энергии. Любимая цитата Проханова – из Корбюзье: «Дом – комфортная машина для жилья». Прохановский роман – машина (не слишком комфортная, увы) для преобразования материи, комбинат, преодолевающий наличное состояние материала – словесного, исторического, идеологического; плотина, куда нагнетается некий природный, собранный в ходе многочисленных разведок материал, с тем чтобы переработать его в новое состояние и извлечь из него энергию. Не случайно любимые объекты Проханова – плотина, ГЭС, АЭС, искусственно сооруженные перегородки, созданные для того, чтобы, одолев природную инерцию, заставить материю работать, выжать из нее энергию. У него даже Курский вокзал описывается как «плотина из стекла и бетона, дрожащая от давления, в бурлящих водосбросах толпы». Такой же плотиной является и писатель, который нагнетает в текст поток слов и явлений, чтобы затем выработать из них энергию. Слишком толстые романы? Слишком монотонные синтаксические конструкции? «Ющенко ужасен. Засыпан холерными отметинами. Укушен… Обмазан…» Ну так чем больше слов, чем мощнее поток – тем больше энергии, тем больше шансов преодолеть уже достигнутое и известное; безусловное благо в его системе ценностей. Дух дышит где хочет, и в передовице про Ющенко тоже.
Что касается эстетических предпочтений Проханова – наугад вспоминаются кишащие экскаваторами котлованы, конструктивистская архитектура, фольклорный примитивизм – то такой почти эксцентричный выбор также связан с присущим ему представлением о том, что мир, в том числе его наличная, нынешняя красота – это тоже объект не просто эстетического любования, но и то, что нужно преодолеть. Проханов – ярко выраженный наследник – точнее, последыш – советского модерна 20-х годов; его уверенность в том, что у человечества есть некий общий проект, и в необходимости изменения текущего состояния человека и мира – отчетливо модернистская. Красота сама по себе, желающая только законсервироваться в наличном состоянии, – опять же, наугад: викторианской Англии, киплинговского поместья – не имеет в его системе ценности; красиво лишь то, что страстно хочет себя преодолеть. А «просто-красота», желающая только законсервироваться в наличном состоянии – мертвая материя, оставляющая Проханова равнодушным. Это объясняет его кажущееся посторонним абсурдным предпочтение отечественной природы открыточным европейским пейзажам, русской азиатчины – западному орднунгу.
С «текущей» точки зрения у скептиков всегда найдутся предлоги дисквалифицировать его как «плохого писателя», а то и «графомана». Да, со стороны все эти его попытки «закатать» и «преодолеть» могут казаться нелепыми, смехотворными, несдержанными – у здравого смысла на этот счет есть множество диктумов, вплоть до «поспешишь – людей насмешишь» и проч. Однако если смотреть на мир не с точки зрения сегодняшней, синхронной, а «из завтра», – то именно такие экземпляры человеческой породы представляются наиболее ценными, поскольку они подталкивают человечество к самопреодолению и, соответственно, к развитию.
Проханов – тот тип, что порождается российскими просторами, которые, по мнению философа Федорова, служат переходом к космической шири; бесконечная повторяемость отечественного ландшафта способствует появлению интеллектов, ищущих, как преодолеть это однообразие метафизически, какой смысл заложен в отсутствии здесь всякой структуры, почему рациональный подход пробуксовывает, – и уловить божий промысел, касающийся их самих. Зачем я здесь? – в сущности, это самый частый вопрос из тех, что задают себе прохановские герои – гораздо чаще, чем вступать ли им в партию и нужно ли вторгаться в Афганистан. Затем – отвечают они всей своей деятельностью, – чтобы зафиксировать полноту этого мира и творчески преодолеть ее. Почему может быть интересна его биография? Потому что это не только история на тему «как может быть», «русский эксцентрик» – а «как должно быть», «русский извод Духа-в-действии».







