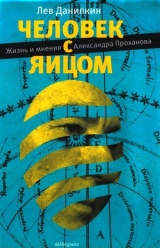
Текст книги "Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова"
Автор книги: Лев Данилкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Среди педагогов выделялись старорежимные персонажи. Историк, например, был бывшим кадетом и даже входил в кадетский ЦК – отсидев потом за это, разумеется. Это был конец 40-х – начало 50-х годов, и аресты в учительской среде вообще были частым делом: некоторые вдруг исчезали и могли явиться через несколько месяцев с бритыми головами («а если женщины, то в платочках»). Кроме учителей, на занятия приглашали специальных аниматоров, которые назывались массовиками-затейниками. Те проводили «минуты организованного смеха»: «Давайте сейчас мы все коллективно улыбнемся. Раз, два, три! Молодцы! А теперь организованно похлопаем себе и чихнем!». Школьная жизнь Александра Андреевича была похожа на волька-костыльковскую, описанную в «Хоттабыче». И так же как Волька обнаружил кувшин с джинном, Александр Андреевич наткнулся однажды на нечто не менее странное.
«Мистический» эпизод, связанный со школой, возникает в одной из передовиц 2003 года. Проханов уведомляет читателей своей газеты, что учился в школе, «которая была построена в тридцатые годы на территории огромного Миусского кладбища, вокруг монастыря. Во время весенних субботников каждую весну мы сажали деревья на школьном дворе. Долбили грунт, рыли ямы, раскапывали старые склепы, извлекали истлевшие чиновничьи мундиры с двуглавыми орлами на пуговицах, челюсти с золотыми зубами. Сажали молодой сталинский сад на костях исчезнувших поколений».
Вообще, тема находок была в те времена, что называется, первополосной. Во-первых, в городе вовсю строилось метро и Москва была наводнена шахтерами; герой Михалкова в «Я шагаю по Москве» не случайно вкалывает метростроевцем. Кроме того, в московской земле копались прочие коммунальщики, в частности, в 1947–1948 годах в городе стали прокладывать газовые трубы, церкви и кладбища существенным препятствием при этом не считались. Экскаваторы вырывали из-под земли множество скелетов, стройплощадки часто напоминали съемочные площадки для «Восстания мертвецов». Неудивительно, что весь этот эффектный реквизит привлекал внимание молодых людей: мальчишки собирали кости, черепа и похоронные принадлежности, чтобы затем отнести их в лавки старьевщикам – иногда по несколько мешков черепов за раз. Одним из этих черных археологов как раз и был Александр Андреевич.
«Когда мы обустраивали футбольное поле и ставили ворота, то выкопали череп. Мы все были молодыми футболистами, болели за „Спартак“ и „Динамо“. Стали пинать этот череп ногами, играть в футбол, и я помню, как мой носок ударил в пустые глазницы. Много позже, когда я исследовал топографию этого кладбища, уже зная, что там похоронен Федоров, я обнаружил, что его могила находилась примерно в том месте, где мы ставили ворота. Конечно, у меня нет полной уверенности, но некое мистическое чувство подсказывает мне, что я играл в футбол черепом Федорова».
«Именно из этого попранного черепа, из гулкой костяной чаши, – уверяет Проханов, – впервые донеслись до меня слова федоровской проповеди „воскрешения из мертвых“, искупления грехов отцов подвигами сыновей».

Гверчино. «Et in Arcadia Ego» («И в Аркадии Я есть». «Я» в смысле «Смерть»).
В самом деле, философ Николай Федоров, умерший в 1903 году, был похоронен на кладбище Скорбященского монастыря – там, где сейчас находится Новослободская улица. В 1929-м его могила, в числе прочих, подверглась надругательству – кладбище монастыря было стерто с лица земли, утрамбовано под парк и детскую игровую площадку. «Симптом нравственного одичания, – возмущенно комментирует снос исследовательница жизни и творчества Н. Федорова С. Семенова, – о котором предупреждал философ памяти, призывавший живущих обратиться сердцем и умом к кладбищам, к ушедшим из жизни, отчетливо выступил наружу: „сыны человеческие“ с очевидностью превратились в „блудных сынов, пирующих на могиле отцов“». В этой картине, напоминающей сюжет Пуссена и Гверчино «Et in Arcadia Ego» – «Проханов натыкается на череп Федорова», – чувствуется не только ирония истории, но и совершенно романная, редко случающаяся в жизни неотвратимость: смерть есть везде, все предрешено, чему быть, того не миновать.
Что касается футбола, то, сколько я смог понять, в зрелом возрасте его уже нельзя назвать болельщиком. Мы разговаривали с ним после майской, 2005 года, победы ЦСКА над «Спортингом» в кубке УЕФА: издатель Александр Иванов заявил, что для народного сознания эта победа оправдывает все 15 лет здешнего капитализма. Проханов по-иезуитски согласился – да, конечно, в том числе отдачу двух островов на Амуре и тайно готовящееся соглашение о передаче двух Курильских островов. Футбол – быстро вырулил он на взлетную полосу – это ведь как кока-кола, спорт масс, «удел плебеев», полу криминальных, люмпенизированных. «И на самом деле, Александр, это подмена идеи национальной победы – реально ведь играют четыре негра на деньги абрамовичевской „Сибнефти“».
С кем он играл в этот футбол? Кто был в его компании? Марьинорощинская шпана? Нет. «В этом круге я не общался».
Классе в пятом он вместе с тем же Витькой Ивановым, несостоявшимся душегубом, посещает кружок в Ботаническом саду. Затем записывается в Дом пионеров, куда приносит обнаруженные в ящиках комода амулеты, найденные его двоюродной бабкой на археологических изысканиях в Египте: статуэтки богов, скарабеев. Уже через десять минут пионервожатый выцыганивает их у простодушного школьника: «Вот такой был мой первый контакт с пионерской организацией». Уже тогда Александр Андреевич был медиа-востребованным человеком: я видел «Пионерскую правду» с фотографией его и его коллег по кружку.
Однажды в прохановскую школу явился Евгений Адольфович Кибрик – замечательный художник-график, бывший одно время, среди прочего, наставником М. Шемякина. По заказу Госиздата он иллюстрировал роман Островского «Как закалялась сталь» и подыскивал модель для юного Павки Корчагина. Отсмотрев несколько десятков детей, он остановился на будущем герое этой книги, он оказался самым колоритным. Тот согласился позировать – и раз пять ходил к художнику в мастерскую на Масловку (в тот же дом, между прочим, где в тот момент продолжал еще биться над своей моделью «летающего велосипеда» футурист Владимир Татлин). Чтобы изобразить Павку, скачущего на коне, Кибрик сажал Проханова на спортивный снаряд «козел», давал в руку палку, предлагал размахивать ею и вопить «ура!». Александр Андреевич с удовольствием выполнял все, что от него требовалось, один раз на крик даже прибежали уборщицы и потребовали прекратить безобразие. Несмотря на противодействие обывателей, портрет все же получился, он воспроизведен в издании «Как закалялась сталь» 1953 года.
С тех пор Проханову часто придется позировать – и художникам, и журналистам, его не раз выводили в литературных произведениях, снимали про него телепрограммы, но самыми любопытными оказались опыты профессиональных художников – Марата Самсонова, Ильи Глазунова. Можно оспаривать степень художественности получившихся работ, но очевидным представляется то, что портреты «идут» Проханову: в нем есть нечто монументальное, и он хорошо на них выглядит. Урок, который следует извлечь потенциальным прохановским портретописцам из опытов Кибрика, Самсонова и Глазунова, состоит в том, что им следует думать не о фотографическом сходстве с клиентом, а о своего рода «нимбе», то есть метафизическом аспекте фигуры Александра Андреевича.

Иллюстрация Кибрика к «Как закалялась сталь».
Есть свидетельства, что самым важным для Проханова учителем был словесник Михаил Кузьмич Фатеев – тощий, длинный, в пиджаке, с портфелем, напоминавший не то молодого Белинского, не то Писарева, не то педагога в бурсе, не то просто земского интеллигента из чеховских рассказов: педант, очень закрытый, сухой, скептичный, постоянно заботившийся о дистанции между собой и окружающими, он рассказывал о «факультативных» авторах – Блоке, Достоевском, сам любил декламировать классические тексты, устраивал литературные вечера – поскольку школа носила имя Горького – горьковские. «Я, честолюбивый человек, добился того, что по сочинению и по диктанту два раза у него получал „пять с плюсом“. Это была редкость, я был единственным, но то был вопрос игры, честолюбия, мне страшно хотелось ему понравиться, и я добивался». Этот Фатеев был для него «абсолютно загадочным и пленительно притягательным образцом», и он запомнил его надолго, а в 1967-м написал о нем в «Литературной России» «житие, очерк, песнь»: тот был страшно растроган. Уже после выпускного Проханов сблизился ним почти по-приятельски. Они вместе гуляли в парках – вокруг Театра Советской армии, Тимирязевском – и выяснилось, что в душе тот был едва ли не антисоветчик, во всяком случае, он не мог простить советской власти раскулачивание и коллективизацию. Проханову он доверял как своему лучшему ученику.
Они любили вспоминать эпизод, когда Фатеев задал им выучить наизусть некоторые куски из «Войны и мира»: Болконский на Аустерлице, первый бал Наташи Ростовой, но Проханов выбрал фрагмент не из списка, а сам. Обладатель феноменальной памяти (он до сих пор, в его-то возрасте, может читать стихи часами), сам к тому времени уже заядлый охотник, он продекламировал сцену охоты, в том числе следующий пассаж из четвертой главы второго тома: «„Жопа, – крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа. – Просрали волка-то!.. охотники!“ – И как бы не удостаивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленною на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и понесся за гончими».
«Я доходил до этого момента, мне страшно нравилось, когда доезжачий Данило проскакивал мимо графа с криком „Просрали волка, жопа“. И я брал на себя смелость говорить это в классе. Класс замирал. А он ухмылялся, позволял».
Проханов утверждает, что «в школе был постоянным диссидентом. Я устраивал обструкции своим педагогам, поднимал класс на борьбу с классным руководителем. Я не выносил халтуру, она меня возмущала». Предметом насмешек часто становились не только профессиональная, но и эстетическая компетентность преподавателей. В частности, все про того же словесника, годами ходившего в одной и той же косоворотке и мятых, годами не глаженных брюках, он сочинил своего рода фаблио, в котором были, в частности, строки: «Кузьмичишко, Кузьмичишко, где добыл свои портишки? – Было мне шешнадцать лет, подарил мне их мой дед!» – которое, с его легкой руки, распевал весь класс.
В романе «Дворец» описана влюбленность героя в свою учительницу начальных классов. «Нежность, которую он (Калмыков. – Л. Д.) к ней испытал, была не похожа на нежность к матери, а была мучительным обожанием ее голоса, ее волос, ее розовых губ, ее ног в темных туфлях с ремешками, перетягивающими подъем стопы…». Он в самом деле был влюблен в учительницу? По-видимому, это хороший вопрос Проханов начинает вспоминать с воодушевлением. «Однажды у нас в классе появилась молодая стерва, грубо, жестко, с визгом, криком с нами обращавшаяся. И тогда, в первом классе, я заметил ее ногу с ремешком. Потом, после четвертого класса, она была у нас классная дама, и вот все время в моих с ней отношениях война, вражда, я поднимал бунт класса – было связано с этой задавленной или, наоборот, с растущей молодой эротикой. Когда она забеременела, я страшно ревновал, как будто это и должен был трахнуть ее, а трахнул ее муж. На выпускном балу и пригласил ее на танец. И мы танцевали в огромном зале: сумрак, цисты… и я ее к себе прижал. Грудь, живот, ноги ее почувствовал, и но время танца она ответила мне на это прикосновение, как бы отдалась на одну секунду. А потом умерла. Не после этого, естественно. И до сих пор в моем дряхлом сознании возникает этот танец, прикосновение, нога[1]1
Эта злополучная часть тела вызвала в свое время пристальный интерес традиционного прохановского оппонента, главною редактора газеты «Дуэль» Ю. Мухина. Поводом стал пассаж в «Господине Гексогене»: «На солнечном дворе стояла железная кровать с пружинами. На ней, раскинув усталые руки, лежала мертвая женщина, и двое солдат насиловали голый остывающий труп. Один колыхался на женщине, двигая тощими ягодицами, другой держал женщину и босую ступню, и его глаза, не видя Белосельцева, были полны безумным солнечным блеском». «А я вот, – замечает проницательный Мухин, – задумался, почему Проханов поручил второму солдату держать труп за стопу? Это что – по Проханову – самая соблазнительная часть женского тела?»
[Закрыть]. Удивительно: мужские миры, в которых гуляют эти женские ноги, пластика, потаенная красота, тайны женских мест. Может быть, это такое сластолюбие, нет, это витальные силы. То, что делает самца самцом, это то, что Господь заложил в отношения полов, то, что отличает нас от женщины, постоянно, до смерти Господь напоминает, что ты мужчина, а не женщина. Над могилами сладострастников в тумане вьются тени – это женщины».
Как насчет собственных текстов? Первый свой стих он сочинил 24 августа 1947 года. То был день города в год 800-летия Москвы, один из нерутинных, запомнившихся на десятилетия, праздников. Отдельной строкой в бюджете были прописаны затраты на иллюминацию Кремля, фабрикам предписывалось выпустить специальные сувениры, а завлитам театров – оживить репертуар пьесами соответствующей тематики. В ту ночь в Парке культуры состоялся карнавал, посвященный истории Москвы. Они гуляли там с теткой Ириной Петровной, разглядывали висевший в небе аэростат с флагом карнавала, подходили к гадалкам, гипнотизерам и звездочетам, на эстраде выступали артисты, а в детском городке был представлен уголок старой Москвы. Все это вдохновило Александра Андреевича на сочинение стиха, который, к сожалению, дошел до нас не целиком, но лишь отдельными фрагментами: «Воскликнул хан Батый сердито: все сжечь! и поднялся над Москворечьем татарский острый и кровавый меч…» – и далее: «Над Красной площадью дни и ночи горит красавица звезда».
Когда умер Сталин, ему исполнилось 15. Помнит ли он массовую истерию, похороны? «Смерть я помню, но сам этот день я проболел – как и многие крупные события и даты. Меня в детстве мучили ангины, которые порождали температуру страшную, скачки температуры, а температуры порождали бреды. И эти бреды носили достаточно творческий характер. В этих бредах, когда раскалялся мозг, кипела кровь, а в крови совершались сражения под стать сражениям мировой войны, когда эритроциты и лейкоциты бились с вирусами и я сам был Сталинградской битвой, в этих бредах проступала первооснова, возникали ощущения, мне казалось, что я влетаю в матку, откуда я вышел, возвращаюсь в смерть через ступени своего развития и рождения. И было страшно и сладко ужасно. День смерти Сталина я провел именно таким образом. Но чуть ли не на следующий день я позволил себе определенное, на мой взгляд, кощунство. Когда меня вызвали отвечать на уроке немецкого, я сделал ужасно огорченное трагическое лицо и сказал, что я настолько потрясен кончиной Иосифа Виссарионовича, что не могу сейчас отвечать. И она поняла мое состояние и не стала меня спрашивать. Хотя я вполне мог ответить. Я помню, что я решил почему-то проэксплуатировать эту социальную риторику, и до сих пор не знаю, что это – смелый, бравый, интересный или гнусный поступок?».
Взрослея, он больше времени проводит дома, глотая старые французские романы и поэзию символистов, но у него по-прежнему много друзей, в том числе одноклассников. У него есть не только обычные приятели, но и чуть ли не апостолы, ходившие за ним по пятам, например Гарик, художник, тоже поступивший вслед за Прохановым в МАИ и тоже в какой-то момент переставший учиться, но, как и многие вокруг него, быстро спекшийся и сошедший с дистанции: «увлекся экстрасенсами, стал медитировать и спятил».
К десятому классу Проханов, хотя и обладающий математическими способностями, ощущает себя скорее гуманитарием. Он часами мог читать наизусть Блока, сочинял романсы, музыку к стихотворениям Блока. Импровизировал на гитаре – целыми днями качался в кресле: «А когда пройдет всё мимо, / Чем тревожила земля, / Та, кого любил ты много, / Поведет рукой любимой / В Елисейские поля».
Относительно советской школы тех лет принято считать, что она было торжеством серости, но, похоже, Проханову повезло больше, чем его среднестатистическим соотечественникам. С самого начала жизни к нему будто притягиваются эксцентричные персонажи – и вот он сводит знакомство к неким полусумасшедшим учителем психологии, посещает его дом на Масловке, где тот часами рассказывает ему о феноменологии Христа и Достоевского. «Я чувствую, – шамкал тот, паря в тазу свои подагрические ноги, – как во мне необъяснимо слились черты Достоевского и Христа». Проханов всегда очень ценил эту возможность отыскивать важную информацию независимо от режима и презрительно отзывается о диссидентах, ноющих, что в СССР они задыхались от информационного голода. «Никогда я не был обделен информацией, в самые советские годы. Была семейная библиотека, было общение, и главное было уметь находить». И «поэтому вся эта перестроечная гласность – все это херня».
Ближе к выпуску в его сознании происходит «поворот винта». Он по-прежнему частенько околачивается у окна, где программы вот уже много лет идут словно по расписанию: покачивается тотемный тополь, пробивается к свету деревце на крыше колокольни, в домике напротив, будто кукушка в часах, утром и вечером на авансцену выдвигается женщина, чтобы совершить свой традиционный стриптиз. Но однажды весной он открыл форточку, и «там трепетала мартовская синева, ослепительно синее, как у Грабаря, небо, мистическая лазурь, и сквозь эту лазурь неслись самолеты. Это была пора, когда авиационная техника каждый год рождала серии самолетов. Над Москвой каждый год летали десятки новых реактивных самолетов. Вдруг появлялась какая-то гигантская сумасшедшая машина, от которой грохочет весь город. Это было зрелище, они готовились к весенним, майским, победным парадам».
Освоением неба занимались в массовом порядке, систематически, как сорок лет спустя, тоже в массовом порядке, начнут осваивать киберпространство. В небе бушует настоящая «война миров»: там столпотворение, биток, ходынка, оно не пустое, оно кишмя кишит живыми существами и рукотворными объектами. Незнайка с друзьями – и те летят на воздушном шаре: «и все доступно уж, эх-ма, теперь для нашего ума». «Я высовывался и долго смотрел, и идея самолетов поразила мое воображение. Она была поэтическая, а не техническая, конечно. Эти самолеты тайно говорили, что развивается авиационно-космическая программа. Это было рождение реактивной авиации, и бомбардировщики должны были таскать ядерное оружие через океан, создавались носители». Так у него возникла идея поступать в МАИ, и летом 1955-го, впервые соблазненный «романтикой техносферы», он поступает на радиофакульет Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. Институт был на Соколе.
Весь первый курс Проханов настойчиво вгрызается в учебники, пытаясь понять, каким образом над колокольней воспаряют летательные аппараты, но довольно быстро математика, радиоуправление, сопромат, специальные технические знания, «всякая мура, которая не была связана с самолетной мифологией», наскучивают ему, он начинает прогуливать. Одна за другой следуют «мучительные» сессии, за которые он отхватывает но три двойки. Несколько раз его почти отчисляли.
По идее, Проханов почти ровесник персонажей «Я шагаю по Москве», и почему бы не предположить, что его повседневная жизнь тех лет очень напоминала ту, что вели шпаликовские герои? Но, похоже, этот фильм имел к нему не больше отношения, чем, к примеру, «На последнем дыхании». Ом не участвовал в КВНах, не рисовал на скорость лошадь, не шшмался комсомольской работой, зато вел жизнь «декадента»: унимался Блоком, участвовал в литературных вечерах и даже – однажды, на первом курсе – занял первое место на конкурсе циклических галстуков. «Ваш лиловый аббат будет искренне рад и отпустит грехи наугад», – манерным баском вытягивает он на литературных вечерах, под гитару, романс Вертинского. Там же он декламирует свои «декадентские», позиционируемые им как написанные «под Северянина и Бальмонта», стихи: «Умирают левкои, легко им, как сиреневый пар – парк», – словом, ведет полубогемное существование модного в студенческой среде человека, неформала и диссидента; не зря полвека спустя он с явной симпатией будет наблюдать за Бугаевым-Африкой, почувствовав, по-видимому, в нем знакомую натуру. В компании с актерами, балеринами и художниками он зависает в мастерских каких-то инакомыслящих скульпторов. Они пьют сухие вина, рассматривают слайды Парижа, острят, беседуют о стихах и романсах. Однажды в каких-то гостях он впервые встречает живого Евтушенко, который тогда уже находился в ореоле своей славы: «накачанный адреналином, был красив, прекрасно владел средой, на него восторженно смотрели девушки, ему внимали взрослые мужчины». С одной стороны, он ему страшно понравился, с другой, что неудивительно, вызвал дикое раздражение: «потому что я, конечно, внутренне ревновал». Тогда он еще даже не предполагал, что сорок лет спустя Евтушенко посвятит ему несколько глав своего автобиографического романа.

Евзерихин. «Парад в Тушино».
С этих вечеринок он часто уходил не один; во «Дворце» упомянута женщина старше его, которую все называли «жена дипломата».
– Правда ли, что вы заняли первое место на конкурсе экзотических галстуков? Честно говоря, это про какого-то вашего героя сказано, но вы же обычно ничего не придумываете.
– Это и правда, и не совсем. Это был первый курс, новая среда, после школы… нас пригласили в какой-то соседний институт, может быть кулинарный, где было обилие женщин… там было состязание какое-то… и я выиграл галстук, мне девушка подарила его… более чудовищного я не встречал в жизни… подбор цветов… какая-то химия… Нет, он не сохранился, я очень быстро от него избавился… он сразу стал причинять мне эстетическое страдание. Но да, я его выиграл.
По желанию он имеет возможность менять плотность и состав своей коммуникативной среды. Витька Иванов – тот самый, который столкнул его в яму, случайно отдыхал в санатории с неким Гурием Окским, который на самом деле был Сидоровым, но предпочитал представляться более экзотическим псевдонимом. Этот Сидоров, лет шестидесяти, был из Серпухова и работал директором краеведческого музея внутри Троице-Сергиевой лавры, а жил прямо там, внутри монастыря, в доме, где сейчас находится ризница. В свободное от основной работы время он сочинял дадаистские стихи, занимался резьбой по дереву на манер «народного» скульптора 20–30-х годов Цаплина (которого Проханов успеет застать в живых и даже сделает с ним интервью в конце 60-х годов) и объемной фотографией. «Он был бонвиваном и красил себе волосы». Познакомившись с этим экстравагантным человеком, Витька рассказал ему о своем друге детства Саше, уже тогда имевшем репутацию оригинала и раритета. Проханова привезли в Загорск, их представили друг другу – Проханова, в частности, как автора стиха, который, с точки зрения Окского, показывал всю глубину понимания женской психологии: «Вот рука, садитесь глубже в кресло, пальцами коснитесь темной кожи. Слышите? Сучок в комоде треснул, дом вздохнул и в одночасье ожил. Это мне у женщины знакомо, этот страх за прожитые годы. Эти скрипы старого комода. Этот вид давно забытых комнат…». Окского восхитило, что Проханов, будучи молодым человеком, уже, судя по всему, имел огромный любовный и житейский опыт.
Проханов начинает часто наезжать к нему. После непременного визита в Троицкий собор, к раке преподобного Сергия, они приступали к домашним развлечениям. Там были женщины, местная богема, служители музея, краеведы – словом, это был настоящий салон, насколько эта институция была возможна в конце 50-х годов в советском обществе, причем салон, в котором «эротика и декадентство соединялись с мистикой православия» (не самая уникальная, как мы дальше увидим, комбинация в прохановской биографии). По ночам, уже разгоряченные алкоголем, они выходили из дома и рассматривали огромные купола монастыря, слушали крик ворон, созерцали темные луга за церковью Сергия Радонежского. Сорок лет спустя, в 1999 году, туда в поисках решения приедет генерал Белосельцев – и уйдет оттуда ни с чем: преподобный Сергий ему «не ответил».
Этот параллельный мир никоим образом не соприкасался с институтскими делами и московскими знакомыми: «Я с этим своим восхитительным декадентским безумием являлся на кафедры и лаборатории». Тем не менее, утверждает Проханов, «мой образ жизни не был ветреным. Я не был стилягой, не ходил в брюках-дудках, не посещал дансинги. Я очень любил природу и, если бывала возможность, брал ружье и уезжал на охоту. Это был такой эпатаж: когда вы увлекаетесь танцами и портите паркет, я в это время хожу по болотам и стреляю там гусей и лебедей». Стрельбу по движущимся мишеням он впервые освоил еще в школе. У него было один друг, Володя Лебедев, у которого был старший брат и отец, уцелевший, потому что работал на оборонном заводе и имел бронь. Эта счастливая мещанская семья, не похожая на траурный прохановский дом, увлекалась охотой. Лет с 13 они стали брать его с собой. Ружье? «О, мать моя, великая, конечно, женщина, она решила так: поскольку у меня нет отца, она будет у меня отцом, а бабка будет мне матерью. От бабушки я получал бесконечную любовь, ласку, обожание, все, что делает человека прекрасным, что заставляет его любить, прощать, терпеть, обожать, помогать. А все, что делает человека строгим, крепким, энергичным, мужским, – это я получил от матери. Мать меня никогда не хвалила, например. Бабка позволяла мне все – все что я ни сделаю, было сверхгениально, никогда не позволяла на меня нападать, защищала как курица. А мать всегда была строга, порицала меня, была скупа. Но она мне купила ружье, одностволку».
С этой тулкой он и выезжал на охоту – под Волоколамск, Лобню, в Дубосеково. «Мои охоты протекали, с одной стороны, среди восхитительной природы подмосковной…» – с позволения читателей, я опущу воспоминания о том, как именно трепещет на осеннем ветру малиновый куст. «Это была природа, это была страсть, это была погоня за птицами, за зверями, за белками, за зайцами, за утками». Они бродили по болотам и перелескам и часто оставались ночевать, просясь на постой к деревенским бабушкам. Именно на этих охотах он, горожанин до мозга костей, впервые столкнулся с деревенской, «лубяной» Россией. Проханову досталась «стихия окончившейся войны». Он видел крепких крестьян, которые вернулись с войны израненными, но победителями, которым государство дало золотые ордена, хромовые сапоги, статус, и он видел, как они «лупили самогон, была гармонь, рассказы». По сравнению с поздним брежневским официозом то была живая энергия победы, которая перетекла в него и кипит в нем до сих пор: чтобы убедиться в этом, достаточно купить в ближайшую среду газету «Завтра» и прочесть там статью под шапкой.
С другой стороны, это были «странные деревни», наполненные не столько бабушками, сколько «нестарыми волоколамскими вдовами» погибших на войне солдат. Именно в этих местах располагались поля сражений, здесь погибли 28 героев-панфиловцев, там до сих пор были могилы, следы боев, остатки разгромленной техники. В деревнях, где останавливались охотники, определенно витали духи. Вдовы рассказывали про бои, как собирали на лугах трупы убитых солдат, хоронили их. Мистические интервенции в эти места продолжаются, о чем свидетельствует, например, военный памятник в Ленино, на Волоколамке, где танки заросли какими-то невиданными многогранниками, а на 38-м км. Новориги вылезла из земли циклопическая «пирамида Голода».
Дичь и посиделки с вдовами были не единственной причиной, по которой молодые люди выдвигались на охоту. В одной деревне под Лобней им удалось познакомиться с туземными девушками. «Визгливые, смешливые, – вспоминает главный герой „Дворца“ Калмыков, – они ждали нас с нетерпением». Из-за этих аборигенок, если, по крайней мере, верить все тому же герою «Дворца», и закончилась та его подростковая дружба. Однажды он заболел и пропустил выезд на охоту, друга это не смутило, и он поехал один. При встрече Проханов стал расспрашивать его об одной из своих знакомиц. Тот рассказал, что ему удалось переспать с ней, «и то, что случилось, было отлично…». Он испытал «боль, одиночество, чувство потери… Так кончилась моя дружба, моя первая дружба», и теперь он уезжал на охоту один: садился на электричку, сходил на каком-нибудь «лесном малолюдном перроне и шел наугад по дорогам, отдыхал у маленьких речек, выбредал к разрушенным старым усадьбам…». Не думаю, чтобы он слишком долго переживал эту волоколамскую фрустрацию. Судя по всему, он пользовался известной популярностью в женском обществе, во всяком случае, демонстрируя мне фотографии своих сокурсниц, непременно добавлял – а, такая-то: была влюблена в меня очень. «А, вот та, которую я впервые полюбил. А, Таня, на берегу Плещеева озера, под Переяславлем: креолка, с косыми глазами бурятскими, искусствовед. А, Ритка Евстигнеева, у нее был роман с маишником старшим, но на первом курсе она мною увлеклась, у нас был скоротечный роман, а потом она к нему вернулась, я не мог понять, почему мной пренебрегли».
В это же время, на первом курсе, в жизни Проханова возникает Псков. И именно Псков вытесняет из него МАИ. «Мои университеты были в Пскове».







