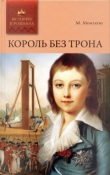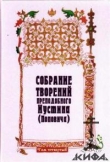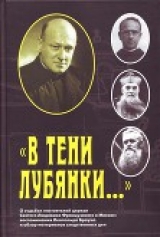
Текст книги "«В тени Лубянки…»
О судьбах настоятелей церкви Святого Людовика Французского в Москве: воспоминания Леопольда Брауна и обзор материалов следственных дел"
Автор книги: Леопольд Браун
Соавторы: И. Осипова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Глава X. Ликвидация «реакционного духовенства»
Менее чем через три месяца после моего приезда в Москву мне пришлось взять на себя ответственность за все дела в церкви. Епископ Пий Неве не был на родине более двадцати лет и в течение этого времени ни разу даже не покидал пределов России, так что, разумеется, он захотел воспользоваться моим присутствием. Тогдашний посол Франции Шарль Альфан договорился насчет его выездной и въездной визы. Для самого епископа его отъезд после долгого пребывания в России был большим событием; он возвращался в совершенно новый для него мир. Никогда не забуду его волнения, когда я помогал ему готовиться к отъезду. Я проводил его на Белорусский вокзал, откуда он должен был ехать на поезде до Варшавы, а затем в Берлин и Париж. Из предосторожности епископ ехал с послом Альфаном, возвращающимся вместе с семьей в Париж в отпуск.
В том же поезде направлялся в Женеву на ассамблею Лиги Наций Литвинов[131]131
Литвинов Максим Максимович, с 1930 по 1939 – народный комиссар по иностранным делам СССР. – Прим. сост.
[Закрыть]. Так я встретился с советским министром иностранных дел, подписавшим вместе с Рузвельтом Религиозный протокол. Посол Альфан представил меня человеку, благодаря которому я оказался в России. Интересно, о чем думал Литвинов, пожимая мне руку? В тот период комиссар Литвинов практически делал историю, выдвигая свою теорию «коллективной безопасности», которая позднее оказалась фикцией. Пока Литвинов привлекал все взоры в Женеве, в Москве Коминтерн готовился к революционному международному конгрессу 1935 года.
С отъездом епископа Неве я остался в церкви Святого Людовика один. По известным причинам воскресенья были не такими загруженными днями, какими они стали позднее; однако церковь Святого Людовика никогда не пустовала. Мои контакты с местным населением начались с супругов моих французских прихожан. До революции многие из этих французов принимали российское гражданство для того, чтобы иметь возможность работать по своим специальностям. Большая их часть хорошо говорила по-русски, но о духовных делах они предпочитали говорить на родном языке. Меня нередко вызывали к ним домой, или, точнее, в их однокомнатные квартиры; таким образом, я начал знакомиться с неприкрашенным советским бытом, который иностранцам неведом.
Дома, которые я посещал, не выбирались пропагандистским агентством, и поэтому мои посещения приводили власти в ярость. Но самая главная причина состояла в том, что у меня были частые неконтролируемые контакты с русскими людьми. Мои обязанности призывали меня в различные районы города и в окрестные деревни. Я посещал бывшие частные дома, теперь преобразованные во множество отдельных жилищ с самыми примитивными удобствами: четыре стены, электрическое освещение, «коллективная» кухня и кран с холодной водой на всех жильцов этажа. Никогда прежде я не видел в коридоре очереди жильцов для отправления самых естественных надобностей; и это еще была роскошь по сравнению с полным отсутствием гигиенических возможностей в семи километрах от столицы.
Вокруг Москвы до сегодняшнего дня можно видеть группы добротно построенных изб, образующих небольшие деревни, преобразованные сейчас в колхозы и совхозы. Если бы Петр Великий появился вдруг в тех же местах, где он проезжал во время оно, он бы не нашел никаких внешних перемен в этих домах, стоящих и сегодня под соломенными крышами, как двести или триста лет назад. Временное знакомство с этими примитивными удобствами на отдыхе в деревне не так ужасно, но необходимость жить в таких условиях на протяжении долгих зимних месяцев, когда температура опускается намного ниже нуля, должна быть невыносима. Может быть, это объясняет, почему русские намного крепче и устойчивее к лишениям и нужде по сравнению с изнеженными людьми Запада. Перегородки в русской избе сделаны из досок полудюймовой толщины, прибитых гвоздями к балкам. Полы сделаны из длинных досок, по которым дети, играя, бегают босиком. Если деревня находится далеко от электрической линии, тогда избы освещаются самодельными светильниками, заправляемыми маслом или керосином, из которых торчит фитиль. Светильник подвешивался в центре потолка или прикреплялся к дверному косяку, давая столько света, сколько необходимо, чтобы не наталкиваться друг на друга.
Во время моих поездок я познакомился с системой неравномерного распределения продуктов, разработанной режимом, гордящимся своим бесклассовым обществом. При близком рассмотрении я увидел в действии жесткую систему трудовой повинности. Я видел, как паспортизация позволяла держать население смертной хваткой; наблюдал, каким образом регистрируются жильцы в домовой книге. Я был свидетелем постоянной слежки за путешествующими; иностранцы едва ли появлялись в таких местах, далеко удаленных от города. Независимо от постоянного места проживания каждый приезжающий обязан представить документы, удостоверяющие личность, сразу же по прибытии в любой пункт, не обозначенный в его прописке или паспорте. Так я узнал о всевидящем глазе и всеслышащих ушах партии, следящих за гражданами двадцать четыре часа в сутки. Я общался с милицией и устрашающими органами коммунистической безопасности, тогда называемыми НКВД; много раз я видел их в действии, не предназначенном для чужих глаз. Будучи постоянным гостем посла Франции и живя за позолоченными стенами его резиденции, я в то же время проводил большую часть времени, сталкиваясь с реалиями примитивного существования людей, живущих в страхе, немыслимом за пределами России.
Моя служба в отсутствие епископа продолжалась четыре месяца. Тогда еще работали магазины Торгсина; оплата продовольствия, одежды и некоторых предметов роскоши производилась только в иностранной валюте или в драгоценных металлах. Русские, имевшие за границей родственников, друзей или знакомых, могли получать от них ваучеры, на которые можно было покупать товары в этих магазинах. Проводя политику религиозных преследований, Советы внезапно арестовали группу священно-служителей-немцев из Поволжья: лютеран и католиков. Благотворительные организации из Германии и США вкладывали деньги в фонды, признаваемые Советами, для поддержки во время голода нуждающихся родственников и братьев по вере, чьи имена были получены от арестованных священников. Их всех обвинили в заговоре с целью нанесения урона престижу СССР. Признание вины проводилось в традиционной манере НКВД, и все были приговорены к «высшей мере социалистического наказания» – расстрелу; к счастью, благодаря иностранному вмешательству этот приговор был заменен на 10 лет каторжных работ[132]132
20 апреля 1931 – римско-католические священники Августин Баумтрог, Петр Вейгель, Алоизий Каппес, Иосиф Пауль, Франц Рау, Петр Ридель, Мартын Фикс и Андрей Шенбергер были приговорены к высшей мере наказания с заменой на 10 лет лагерей и отправлены в Соловецкий лагерь особого назначения. Все они вместе с другими католическими священниками будут расстреляны осенью 1937 года (Августин Баумтрог скончался там в марте 1937 года). – Прим. сост.
[Закрыть].
На весь долгий период распределительной системы на продовольствие все духовные лица были по закону лишены карточек на получение продовольствия и одежды. И это была лишь часть политики по ликвидации «реакционного духовенства». Дети священников имели право только на начальное образование; они были лишены возможности продвижения в жизни, пока их отец оставался в должности священника. Все служители церкви, раввины и муллы считались, как и я, «паразитами общества». Для членов семей священников некоторые профессии были закрыты: медицина, право, искусство, преподавание, инженерная деятельность были недоступны сыновьям и дочерям лиц духовного звания; им разрешалось заниматься только «черной работой». Я лично знал нескольких преследуемых священников, которым пришлось зарабатывать на жизнь, становясь сапожниками, плотниками и землекопами.
Моя первая встреча с русским католическим священником византийского обряда произошла в одной московской больнице.
Больной был зарегистрирован в карточке как инженер, кем он и являлся, имея диплом императорского института в Санкт-Петербурге и будучи известен своими математическими способностями. Из-за нехватки инженеров он, будучи заключенным, работал в качестве инженера на строительстве канала Москва – Волга. Меня позвали к умирающему доверенные лица. Я пришел к нему под видом знакомого, а не как служитель культа. Я совершил елеопомазание и дал ему Святое Причастие, делая вид, что я просто разговариваю с ним, – я не мог и не желал создавать умирающему человеку лишние неприятности. Больничные койки и врачебная помощь были, как правило, предназначены для «трудящихся масс». Такие «непроизводительные» элементы, как старики, инвалиды, служители культа и другой бесполезный народ, с точки зрения Советов, имели доступ к лечению только после длительной проверки.
Вопреки советской пропаганде, распространяемой за рубежом, в Советском Союзе недопустимо никакое частное религиозное обучение; впрочем, священникам также не разрешалось преподавать и другие предметы. Представляю, как внутренне усмехался Литвинов, когда в 1933 году убеждал президента Рузвельта, что советское законодательство «поддерживает» религиозное обучение. С другой стороны, если священник любого вероисповедания отказывался от своих религиозных обязанностей, ему немедленно выдавали хлебную карточку и под трубные звуки заносили в ряды трудящихся масс. Для такой огромной страны подобные перебежки происходили на удивление редко. Некоторых чиновников нынешней, новой государственной Церкви можно сравнить с Талейраном, трагической фигурой Французской революции. Но большинство священников, монахов и монахинь предпочитали страдать от преследований, но не отказывались от своего священного призвания.
Как и в других странах, в Советском Союзе больше преступников, судимых за уголовные преступления, чем приговоренных по политическим статьям. Однако в тюрьмах и лагерях люди этих обеих категорий содержались вместе. Лагерное же начальство обычно отдавало предпочтение бандитам и убийцам. Свидетельства, полученные мной от людей, избежавших приговора или выживших в заключении, единодушны. В моей памяти остались двое из них. Оба были священниками, приговоренными к десяти годам каторжных работ с киркой и лопатой. С тысячами других они рыли Беломоро-Балтийский канал, один из самых популярных советских проектов. Удивительно, но этим двоим было по силам выполнять дневную норму: полностью еда выдавалась заключенным только при выполнении нормы, в противном случае рацион питания сокращался соответственно. Инстинкт самосохранения так сильно заложен в каждом человеке, что он способен сделать даже невозможное, чтобы выжить. Эту истину Советы быстро усвоили и научились ее использовать для выжимания всех соков из людей. После десяти лет такого обращения здоровье этих священников было полностью подорвано. Они были освобождены только потому, что стали бесполезными на тяжелых работах. Обычно политические заключенные теряли все свои права; их срок заключения мог быть продлен без объяснения причин; в исключительных случаях при хорошем поведении срок могли сократить. После бунта заключенных в воркутинском лагере в 50-х годах в лагерях были немного смягчены условия содержания и введены некоторые законные процедуры. Начальник лагеря имеет полную власть над заключенными.
Эти двое священников получили право на «вольное поселение»; и хотя они оказались по другую сторону колючей проволоки, они должны были два раза в месяц отмечаться в отделении НКВД, чтобы власти могли убедиться, что они не сбежали. С клеймом в паспорте у освободившегося заключенного едва ли был шанс начать новую жизнь в какой-либо части Советского Союза. У всех бывших политзаключенных в паспорте была постоянная запись о приговоре, вносившаяся в новые удостоверения личности; такое официальное «клеймо» служило информацией для сведения МВД – КГБ. И страна постепенно наполнялась такими неблагонадежными гражданами.
Вскоре после освобождения одного из этих священников я назначил его настоятелем в очень большой приход в Белоруссии. Местный совет церкви совершил все формальности для регистрации этого священника. НКВД не трогал его какое-то время, но постоянно наблюдал за ним: в 1941 году, после того как круг его новых знакомств был установлен, он был снова арестован и вскоре умер в лагере. Ниже приводится отрывок из письма, полученного мной от его доверенного лица. По понятным причинам я опускаю даты, названия мест и имена.
«Х…, СССР.
16 января 19…
Ваше Преподобие.
Мы получили от Вас назначение нового настоятеля. Однако с большим сожалением сообщаем, что до настоящего времени власти не разрешили его регистрацию, и мы очень обеспокоены, что нам будет отказано. Желая забрать нашу церковь, они под всеми предлогами мешают этому назначению. Нами оплачены все налоги за этот год, но городские власти прислали техническую комиссию, которая осмотрела церковь в отсутствие совета.
Многие из их решений, обозначенных в протоколе, не соответствуют реальному положению дел, и ремонтные работы, возложенные на нас, являются чрезмерными. Поскольку у нас нет священника, мало прихожан посещают церковь и к нам никто не приходит из других районов, наши денежные сборы малы.
Советы хотят отбить у нас охоту добиваться священника, желая заставить произвести немедленный и сложный ремонт. Мы просим, чтобы они подождали до того времени, когда у нас будут возобновлены богослужения. Нам было отказано в выдаче копии списка требуемых ремонтных работ, и не была названа дата их проведения.
После того, как наша просьба о священнике была отослана в облисполком, ее отвергли на основании якобы нашего отказа произвести ремонт и опасности для людей находиться в церкви.
Нас обвинили в пренебрежении должным содержанием здания. Они требуют, чтобы мы снова ввели в действие систему отопления, которая не функционировала последние 20 лет. Мы пригласили инженера осмотреть здание, и он нашел в представленном комиссией плане ремонта множество недостатков.
В результате у нас нет богослужений. Старые и больные остаются без духовной заботы. Мы терпеливо прождали целый год, несмотря на Статью 124 Конституции, провозглашающую свободу вероисповедания.
Эта церковь, построенная 40 лет назад, находится в хорошем состоянии. Есть всего две трещины в стене, которые не расширяются. Советы сами признали, что это не представляет угрозы. На стенах находятся масляные фрески, но власти приказали побелить их. Отопительная система долгое время не работала из-за отсутствия дров и денег. На зиму нам требуется 600 кубометров дров. Но сырость вовсе не вредит интерьеру, как это было записано в протоколе. В общем, ничто не мешает проведению богослужений.
Я благодарю Вас за сочувствие…
Зам. председателя церковного совета, подпись».
Все описанное в письме не требует комментариев. Документ ясно показывает чинимые властями препятствия для обеспечения религиозной свободы, «гарантированной» законом.
В городе X, находящемся от Москвы в шести часах езды на поезде, местные власти применили один из их «классических» методов закрытия церкви. В церковь тайком были свезены кипы бумаг старого государственного архива, после этого здание было объявлено «находящимся в ведении государства». И хотя налоги были полностью уплачены, церковный совет вынудили передать ключи. Члены совета срочно обратились в Москву в Центральный исполком. Я говорил с делегатом, приехавшим в столицу по этому делу, но и здесь, как и в других случаях, лично наблюдаемых мной закон, «поддерживающий» свободу совести, не действовал. Эта церковь была не только закрыта, ее содержимое было полностью вывезено и рассеяно. Она стала государственной собственностью в соответствии с Декретом 1918 года. Драгоценная церковная утварь оказалась в антикварных магазинах некоторых европейских столиц; священные сосуды, алтарные покрывала и богато расшитые одеяния продавались за валюту в другие страны через международных брокеров.
Пока еще был жив президент М. И. Калинин[133]133
М. И. Калинин был председателем Президиума Верховного Совета СССР. – Прим. сост.
[Закрыть], на углу Моховой и улицы Коминтерна существовало некое подобие бюро жалоб в здании, которое с восточной стороны выходило на один из входов в Кремль. Время от времени Калинин лично выслушивал обращения и жалобы крестьян; по всей стране было известно, что Калинин серьезно относится к их проблемам. Сам вышедший из крестьян, Калинин понимал этих людей и умел с ними разговаривать. Многие из них чувствовали удовлетворение, лишь только поговорив с ним. Жалобы собирал штат из шести секретарей. Во время Второй мировой войны Калинин неожиданно открыл для себя, что религия все еще остается важным фактором в Советском Союзе, о чем он открыто заявил. Это было поразительным признанием, учитывая все те репрессии, которые проводились против верующих всех вероисповеданий в предшествующие двадцать шесть лет.
Но к этому времени Советы были вынуждены полностью изменить отношение к религии. На оккупированных территориях немцы восстановили церкви менее чем за год; как это ни покажется странным, по личному распоряжению Гитлера православные церкви, многие годы стоявшие закрытыми, были вновь открыты для русского населения[134]134
Леопольд Браун ошибается; церкви были открыты по инициативе самих верующих, поддержанной немецкой военной и гражданской администрацией. Гитлер был поставлен перед фактом и почел за лучшее не препятствовать. – Прим. сост.
[Закрыть], желавшего вернуться к своим прекрасным богослужениям. Заявление Калинина было напечатано в «Блокноте агитатора», выходящем два раза в месяц и стоившем 20 копеек. А так как у русских людей не было большого выбора книг для чтения, эти брошюрки быстро раскупались. Статьи, появлявшиеся в «Блокноте», формировали темы дискуссий для политических бесед, которые, по крайней мере, два раза в месяц проводились во всех пятнадцати республиках. Идеологический контроль в СССР был хорошо организован.
В одном из выпусков этого издания Калинин комментировал тот факт, что солдаты Красной армии носят кресты и молятся. Скрывая истинное отношение Советов к религии ввиду ужасающих условий, вызванных войной, и из-за того, что большое число верующих открыто заявили о своей вере в Бога, Калинин писал: «Следует помнить, что мы никого не преследуем из-за его веры. Мы считаем религию ошибкой и боремся с ней с помощью просвещения. Но поскольку и сегодня религия оказывает влияние на значительную часть населения и поскольку некоторые люди глубоко верят в Бога, мы не собираемся преодолевать эту веру насмешками». Эта цитата из статьи Калинина является сильным аргументом против тех, кто торопится списать религию как незначительный фактор в современной России.
Главная церковь Саратова была закрыта, несмотря на уплату всех налогов, но после многих обращений и жалоб верующих местные власти позволили открыть церковь на Рождество 1937 года. Весть об этом быстро докатилась до окрестных деревень на Волге. Перед войной почти все население этой части Поволжья было немцами по происхождению, здесь все говорили по-немецки, хотя русский оставался официальным языком. В прежние годы эти добрые люди имели свои церкви, монастыри, школы, дома для престарелых и другие социальные учреждения; у них также была знаменитая семинария, выпускавшая образованных служителей Церкви. В то Рождество, последнее, справлявшееся в этой церкви, многие верующие прошли долгий путь, чтобы посетить ее; каждый принес с собой полено для отопления церкви. Последний раз эти отважные люди спели гимн «Тихая ночь». Вскоре после этого церковь была переделана под кинотеатр для «подъема» культурного уровня населения.
В это же время до меня дошли сведения об аресте восьмидесятилетнего отца Кучинского[135]135
Справка о нем приведена в Приложении I. – Прим. сост.
[Закрыть], настоятеля из города Орел. Вскоре после этого исчез настоятель из Воронежа[136]136
Справка на Антония Трачинского приведена в Приложении I. – Прим. сост.
[Закрыть], следующего священника арестовали под предлогом создания нелегального церковного совета. Продовольственная посылка, присланная из Лондона через Международный Красный Крест для священника, приговоренного к каторжным работам, была без объяснений возвращена обратно. Апостольский администратор Белоруссии Петр Авгло[137]137
Справка о нем приведена в Приложении I. – Прим. сост.
[Закрыть] был заключен в тюрьму в Могилеве: уважаемый священник, семидесятилетний старик, многие годы страдавший от болезней и лишений, умер в тюрьме. В те годы тюремная администрация была более «милосердной», чем впоследствии, и просьба прихожан выдать тело священника для христианских похорон была удовлетворена – НКВД выдал его тело полностью обнаженным. В то время как множились эти безмолвные трагедии, свобода совести, записанная в конституции, продолжала официально «действовать» уже больше года. Вскоре пропали священники Курска[138]138
Справка о Якове Розенбахе приведена в Приложении I. – Прим. сост.
[Закрыть] и Подольска; один за другим исчезали священники, и их уже никто не заменял.
В Москве приемная Международного Красного Креста помещалась на втором этаже здания, известного как ГУМ, окна которого выходили на Красную площадь и Кремль. Эта организация перестала существовать в 1939 году; но за год до ее закрытия я приехал туда по делу, как обычно. Там мне показали расписку в получении продуктовой посылки для 74-летнего прелата[139]139
Справка о Иосифе Крушинском приведена в Приложении I. – Прим. сост.
[Закрыть]; в ней удостоверялось, что адресат получил столько-то фунтов муки, риса, сахара и других непортящихся продуктов, присланных из-за рубежа; завершалась она подписью ссыльного и просьбой – не присылать больше посылок! Причина этой странной просьбы выяснилась позднее: каждый раз, когда этот престарелый ссыльный получал посылку из Красного Креста, НКВД разрешал ее получение, но ссылал его еще на 200–300 миль дальше.
Они не понимали, почему кого-то за границей может интересовать здоровье и благополучие сосланного священника, и все новые посылки для него от Красного Креста приводили их в ярость. Они отыгрывались на старом священнике тем, что продлевали срок его ссылки и отсылали его все дальше и дальше. Это все более затрудняло поиск его следов: когда адрес заключенного изменялся, требовались новые запросы, официальные обращения и преодоление бюрократических препон, чтобы найти заключенного. И каждая следующая посылка находилась в пути многие недели, прежде чем она достигала адресата. Последний раз я слышал о прелате во время войны. О его смерти мне устно сообщил человек, который привез фотографию скончавшегося священника, лежавшего в грубо сколоченном гробу. Покойного звали Иосиф Петрович Крушинский, когда-то он был профессором моральной теологии Тираспольской семинарии. С точки зрения Советов, еще один «паразит» был убран с дороги.
В операциях по устранению духовенства возраст намеченной жертвы не служил препятствием; кампания, проводимая последователями Ленина, была жестокой и безжалостной. Служители культа всех вероисповеданий имели особый приоритет среди тех, кого на протяжении сорока четырех лет существования режима органы ЧК – ОГПУ – НКВД – МВД – МГБ – КГБ объявляли «врагами народа». Его преподобие отец Карапет, Апостольский администратор армян-католиков в Краснодаре[140]140
Справка на Карапета Дилургяна приведена в Приложении I. – Прим. сост.
[Закрыть], был арестован в возрасте семидесяти одного года. Он был приговорен к ссылке и отправлен из теплого климата в заполярный Кировск. Собственно говоря, его не подвергали физическим страданиям, НКВД просто переместил его через всю страну в арктический район с суровыми климатическими условиями. Я видел этого человека по истечении срока его ссылки по пути на Кавказ, где он и умер вскоре после возвращения.
Отец Михаэль Хаценбюллер[141]141
Справка о Михаиле Хаценбюллере приведена в Приложении I (как о Михаиле Гаченбюллере). – Прим. сост.
[Закрыть] умер 66 лет от роду в тюрьме Мариуполя. Отец Болеслав Рошкевич[142]142
Справка о Болеславе Рошкевиче приведена в Приложении I. – Прим. сост.
[Закрыть] с Украины умер после двух лет работы киркой и лопатой на Беломоро-Балтийском канале, отбывая десятилетний срок. В Воронеже католический священник, уже отбывший шестилетний срок в Сибири, был арестован второй раз[143]143
Речь идет об Антонии Трачинском, упоминавшемся ранее. – Прим. сост.
[Закрыть], а председатель церковного совета этой церкви был арестован в возрасте 73 лет. Просьба прихожан сохранить церковь была отвергнута исполкомом на том основании, что без священника и председателя совета церковь не имела права на существование.
В городе Самаре, на Волге, католическая церковь была закрыта уже в 1920 году. Она неожиданно была обложена налогом в десять тысяч рублей, а так как такую немыслимую по тем временам сумму было невозможно заплатить, здание опечатали. Потом ее снова открыли, но уже как антирелигиозный музей, один из первых в России. Через двадцать один год музей был закрыт при весьма странных обстоятельствах. В 1941 году Красная армия стремительно отступала, в то время Москве угрожала наступающая германская армия, и в Кремле срочно приняли решение об эвакуации столицы в Куйбышев (так называлась в те годы Самара).
Аккредитованные посольства и дипломатические миссии тоже готовились уехать в глубь России за пятьсот миль от Москвы. Но прежде чем разрешить исход посольств и миссий, в облисполком Куйбышева из Кремля полетели разъяренные приказы о немедленном закрытии антирелигиозного музея. Церковь, в которой он находился, так и не была открыта для богослужений, ведь главной целью приказа о закрытии музея было не оскорбить религиозные чувства иностранных дипломатов и журналистов, собравшихся ехать в Куйбышев на все время войны. В это же время Политбюро партии начало лить крокодиловы слезы по поводу уничтожения православных церквей, якобы разрушенных немцами.
В начале войны известная американская дама сделала свой вклад в энтузиазм иностранцев по поводу успехов Советов в военных действиях. Она совершила поездку с фотокамерой по не оккупированным районам России, и образчики ее искусства были опубликованы в журнале «Лайф». Возмущению русских, видевших этот журнал, не было предела, когда они обнаружили там фотографию псевдомитрополита Александра Введенского с женой и великовозрастным сыном. Дама-фотограф не понимала абсолютную неуместность такой «рекламы», оскорбительной для православных традиций. Дело в том, что митрополиты, архиепископы и епископы в церквях византийской традиции всегда выбирались из монашествующего духовенства. Безбрачие высшего духовенства является в Православной Церкви одной из наиболее чтимых традиций. На верующих Москвы эти иллюстрации произвели шоковое впечатление. Дама-фотограф, безусловно, действовала с самыми добрыми намерениями, но ее ввели в заблуждение. Несмотря на неуместность этой публикации и благодаря тому, что она играла на руку советской пропаганде, все фотографии прошли без цензуры!
И это неудивительно: в период, когда Россия напрягала все свои силы перед лицом германского вторжения, ей было важно, чтобы весь мир считал, что в религиозной сфере все благополучно. Советы настолько оценили свидетельства этой леди, что процитировали их в своих пропагандистских изданиях, выходящих на многих европейских языках. В 1945 году Советы охотно цитировали ее книгу «Война в России, увиденная через объектив фотокамеры», где приводились ее интервью с верующими и священниками. Один из перлов среди цитат: «Мы свободны. Никто не мешает нашему богослужению». Неудивительно, что общественное мнение западных стран было введено в заблуждение безответственными заявлениями такого рода.
К 1935 году в России оставалось только три католических епископа. 1. Пий Эжен Неве, Апостольский администратор Москвы и соседних регионов. 2. Морис Жан-Батист Амудрю, Апостольский администратор Ленинграда. 3. Александр Фризон, российский гражданин, отправленный в тюрьму в начале 30-х годов, в 1937 году он был расстрелян НКВД. Высылка двух французских епископов Пия Неве и Мориса Амудрю и расстрел Александра Фризона в Симферополе покончили с апостольским преемством в России, убрав последних, кому удавалось избегать расправы со стороны Андрея Вышинского.
Летом 1935 года, когда я побывал в Ленинграде, девять из четырнадцати прежних католических церквей были все еще открыты, в том числе самая большая – церковь Святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Но вскоре она была преобразована в товарный склад и школу обучения сапожному ремеслу. Большая лютеранская церковь Святого Петра[144]144
Имеется в виду лютеранская церковь Святых Апостолов Петра и Павла, закрыта в 1937 году и превращена в склад, в 1958 – в ней устроен бассейн. – Прим. сост.
[Закрыть] на той же улице была ликвидирована подобным же образом. Когда в Москве был построен Концертный зал имени П. И. Чайковского, в нем был установлен орган из ленинградской церкви. С этим органом связана интересная история. Он был разобран, перевезен в Москву и некоторое время хранился в разобранном виде. И когда Московская комиссия по искусству захотела восстановить его в новом прекрасном здании Концертного зала на углу Садовой и улицы Горького, то в Советском Союзе не нашлось ни одного органного мастера.
Известно, что в церквях византийской традиции не бывает органов; религиозные церемонии в немногочисленных оставшихся церквях сопровождаются замечательными двухклиросными хорами, образующими вокальный диалог. Многие известные русские композиторы писали церковную музыку, например, сам Чайковский написал вокальную партитуру полной литургии Святого Иоанна Златоуста. Но органного искусства в России никогда не было; для установки импортных органов всегда приглашались иностранные мастера. Итак, в руках у Советов был замечательный орган, представляющий собой груду из трех тысяч труб, и они понятия не имели, как их собрать.
Решение этой проблемы было достаточно любопытным. В 1939 году, когда «аннексировали» город Львов, как и другие города Юго-Восточной Польши, Советы обыскали его в поисках специалиста, который мог бы приняться за работу по восстановлению органа. В результате в Москву был «откомандирован» некий монах, с которым я тогда встречался. С помощью неквалифицированных помощников ему удалось установить инструмент. Позолоченные трубы основного регистра внешне выглядели очень эффектно, но результат был не слишком удовлетворительным: на органе было неудобно играть из-за того, что пневматический пульт был удален от воздушных камер, и задержка между манипуляциями органиста и получением звука была слишком велика, что было неприемлемо, особенно для быстрых пассажей[145]145
В 1959 году в зале Чайковского был установлен новый, электрический орган чешского производства. – Прим. сост.
[Закрыть].
Исаакиевский собор в Ленинграде много лет использовался в качестве музея антирелигиозной пропаганды с ее нелепыми и богохульными плакатами и прочими экспонатами. В 1945 году состоялось целое представление передачи знаменитого собора для его первоначальных целей. На самом деле Советы оказались в весьма затруднительном положении: в конце Второй мировой войны власти сделали все, чтобы доказать миру, что в Советском Союзе религия никогда не подвергалась гонениям. В этот кризисный период перехода от жестоких преследований к толерантности в Ленинград приехала иностранная делегация, и протокольный отдел ВОКСа предпринял специальные усилия, чтобы показать этой делегации Исаакиевский собор. Они хотели произвести на нее хорошее впечатление и опровергнуть «клевету» западных газет, в которых появлялись сведения о религиозных преследованиях.
ВОКС намеревался продемонстрировать, что с богослужением все обстоит нормально, но ошибка в выборе времени для этого визита все испортила. В то время, когда в расписании делегации было посещение собора, несколько срочно собранных бригад рабочих расставляли горшки и вазы с цветами, которые только что привезли сюда. Члены делегации застали рабочих, ликвидировавших следы антирелигиозных лозунгов, все еще висящих на стенах, и я сам видел, как те, кто знал русский язык, читали атеистические цитаты из Маркса, Ленина и Сталина. Огромные малахитовые колонны все еще были обернуты ужасными красными полотнищами с пропагандой безбожия.