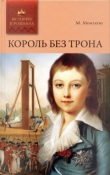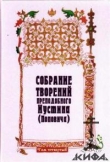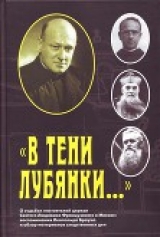
Текст книги "«В тени Лубянки…»
О судьбах настоятелей церкви Святого Людовика Французского в Москве: воспоминания Леопольда Брауна и обзор материалов следственных дел"
Автор книги: Леопольд Браун
Соавторы: И. Осипова
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
Контролер, проверяющий правильность оплаты за проезд, может появиться в вагоне на любой остановке, и если он обнаруживает, что пассажир проехал дальше оплаченной остановки, пассажира штрафуют на месте. Если контролер обнаруживает безбилетника, его ссаживают на ближайшей остановке и ведут в милицию; правонарушитель должен предъявить паспорт, или трудовую книжку, или другие документы. Если при нем нет достаточно денег, из его зарплаты или пенсии ежемесячно высчитывается сумма штрафа. Штраф особенно велик на поездах дальнего следования, где есть еще и дополнительный риск нарваться на агентов МВД помимо железнодорожной милиции. Вся транспортная система Советского Союза контролируется специальным подразделением МВД. У любого иностранца, осмелившегося в часы пик ехать в трамвае или автобусе, останутся незабываемые воспоминания; ему будет достаточно лишь одной поездки. «Крупные шишки», директора предприятий, известные артисты и военные высокого ранга оставляют эти транспортные «удовольствия» для трудящихся масс в соответствии с лозунгом «каждому по потребностям».
Есть еще одно явление, с которым коммунистам не удалось справиться, – это мелкое воровство. Им занимаются в общественном транспорте специалисты своего дела, работающие парами, которые обычно бритвенными лезвиями разрезают одежду своих жертв. Боязнь получить телесное повреждение предостерегает от того, чтобы поднимать шум, – разве что милиционер окажется совсем рядом.
Я ездил практически по всем трамвайным маршрутам, а мой «ангел-хранитель» стоял рядом с глупым, самоуглубленным видом, которым отличаются все эти парни. Мне часто хотелось заплатить за его проезд, но я не показывал виду, что знаю о слежке. Если бы я подал малейший знак одному из них, что знаю его, то второй сообщил бы об этом куда следует. И этого было бы достаточно для обвинения в раскрытии государственной тайны.
Вначале меня не сочли достаточно важной персоной для такого эскорта: его ко мне прикрепили позже. Мой автомобиль был в списке французского посольства; на бумаге он принадлежал посольству. В Советском Союзе автомобили, так же как и частные лица, должны иметь паспорта, выданные специальным отделом МВД, функционирующим под вывеской «Городская милиция». Он ведет учет всем личным автомобилям, так же как и гражданам любой страны, находящимся в границах СССР. Такая регистрация давала возможность получать бензин на мой номер автомобиля; иначе я бы не смог покупать его. Такой порядок существовал до Второй мировой войны, когда Франция разорвала дипломатические отношения через неделю после нападения Германии на СССР. Даже после этого я продолжал получать ограниченное количество топлива через турецкое посольство, представлявшее интересы Франции в то время. Но это длилось недолго.
Проблема возникла, когда Министерство иностранных дел дало указание конфисковать все французские автомобили в Москве. А так как мой был в этом списке, Бюробин прилагало массу усилий, чтобы отобрать у меня автомобиль. Но мне удалось отстоять его благодаря быстрому маневру с моей стороны: к большому удивлению главы Бюробин, мне удалось зарегистрировать автомобиль в собственность. В наказание меня вообще лишили права на заправку топливом, причем этот особый знак «заботы» был продемонстрирован в тот самый момент, когда США начали поставлять на основании ленд-лиза тысячи тонн высокооктанового бензина своему «доблестному союзнику».
Я вполне уживался с моими «ангелами». Я вовсе не замечал их, за исключением тех случаев, когда у хороших русских людей, общавшихся со мной, начинались большие неприятности после моего появления в их домах при вызове для совершения религиозных обрядов. Слежка порой прерывалась на несколько месяцев, похоже, что мои соглядатаи требовались Берии для более важных дел, чем наблюдение за тем, как я совершаю помазание больного или отпевание умершего. Сигнал о возобновлении слежки появился в виде маленького «форда» модели 1937 года. Сначала мои «ангелы» следовали за мной на советском автомобиле М-1, 4-цилиндровой машине, которая более-менее едет, только если ее не слишком понукать. Не являясь специалистом в автомеханике, я все-таки не согласен с теми, кто превозносит успехи советского автомобилестроения.
По мнению некоторых, советские автомобили очень прочные потому, что состоят из небольшого количества деталей. Это хорошо для обычных обстоятельств мирной жизни, когда они не работают на износ. В условиях войны, когда машина эксплуатируется на полную мощность и в любую погоду, советские автомобили не выдерживают. Я видел бесконечные колонны и конвои моторизованного транспорта, идущего на фронт и обратно. В стране только через год после начала войны почти не осталось советских автомобилей. Эти бесчисленные колонны включали американские грузовики, британские и канадские машины и поврежденные в боях немецкие дизели.
Многие ли знают о том, что во время войны в СССР было передано полмиллиона американских грузовиков и транспортных средств всех типов? А то, что Советы производят сегодня в области авиационных двигателей, в том числе и реактивных, купленных в Великобритании, – это другое дело. И то, что они создают эти модели после войны, используя в качестве экспертов немецких и чешских инженеров, – это тоже другая история. Я не пытаюсь дискредитировать возможности Советов при условии, что им помогают иностранные специалисты. И доказательство этого – выпуск в Советском Союзе великолепных «линкольнов», пока американские техники заставляли русских механиков и конструкторов придерживаться технических заданий и инструкций. Производство этих автомобилей было остановлено, как только прекратилась иностранная помощь.
М-1, на котором мои «ангелы-хранители» меня преследовали, был «чистопородный» советский автомобиль. В его двигателе не было ничего лишнего и никаких технических аксессуаров. Я ездил на этих автомобилях и знаю их: после достижения определенной скорости эта штука просто начинает разваливаться. Время от времени, просто для развлечения, когда они преследовали меня, я жал на акселератор моего «Рено-14» и получал массу удовольствия, когда они, пыхтя, устремлялись за мной на своем М-1, но вскоре исчезали из вида. Я не стремился уйти от них, я прекрасно знал, что по их тревоге меня может остановить любой милицейский патруль.
Но они бы это сделали только в самом крайнем случае; они, должно быть, знали, что мне нечего скрывать и в моих планах не было свержения власти. Они могли видеть меня на загородных кладбищах и проверить, что я делаю, когда посещаю больных в их избах. Но их начальство требовало, чтобы они следили за мной, и они делали это. Ответом на скорость моего автомобиля стало появление у них «форда» модели 1937 года. После 1939 года и «освобождения» советскими войсками балтийских республик было удивительно видеть большое число зарубежных автомобилей в распоряжении МВД. С того времени все автомобили секретной полиции и других служб подобного типа были иностранного производства.
Глава IX. Неправославное богослужение в Советской России
В своих пресс-релизах для иностранных журналистов ТАСС обходил полным молчанием аресты священнослужителей, закрытие церквей и другие религиозные репрессии. Новости с положительным отношением к религии сообщаются после жесткой цензуры в тех случаях, когда советская пропаганда может извлечь выгоду из таких сообщений. Например, в 50-е годы советская цензура не только пропустила, но и поддержала серию репортажей о религиозных представлениях и обрядах в Ереване. Одна из статей была написана корреспондентом «Нью-Йорк Сити дейли», имеющим большой опыт работы в СССР, который прекрасно понимал, что его информация дает совершенно искаженное представление о положении с религией в СССР.
В течение двух десятилетий, предшествующих Второй мировой войне, советская пресса и репортажи иностранных корреспондентов из Москвы изобиловали сообщениями о якобы контрреволюционной деятельности покойного патриарха Тихона. Лишь несколько обозревателей за пределами России заметили, что имя этого достойного человека публично восхваляется теми же людьми, которые так активно поносили его в начале 1920-х, пока он не скончался в 1925 году узником ОГПУ[129]129
Патриарх Тихон (Белавин) в 1922 году был арестован, но вскоре был освобожден из заключения и год содержался под строгим домашним арестом. 25 марта 1925 года, в праздник Благовещения, он скончался в лечебнице Бакуниных на Остоженке. По официальным данным, он скончался от сердечной недостаточности, хотя существует версия о его отравлении на приеме в Кремле. – Прим. сост.
[Закрыть].
В середине 30-х годов ТАСС пытался настроить международное мнение против лютеранских пасторов из колоний немцев Поволжья, которые после нападения Германии были разогнаны по приказу Сталина. Такая же тактика использовалась для гонений на баптистов и адвентистов Седьмого дня, которые к тому времени уже влачили жалкое существование. Иностранные корреспонденты все время получали «сводки новостей», ловко сфабрикованные с целью оклеветать евангелистские и реформаторские протестантские религиозные сообщества, которые пока еще продолжали существовать. Иудейские и мусульманские организации испытали тот же способ публичной известности. Когда всему миру была представлена пародия на правосудие в судебном процессе по делу католических епископов Северо-Западной России, злобно преследуемых главным прокурором Андреем Вышинским, ТАСС снова снабжал мировую прессу сведениями, основанными на вырванных признаниях. Не считая этих примеров, обо всем, что касалось общей религиозной ситуации, молчание советской и иностранной прессы было полным.
Практически все сообщения иностранных новостных агентств лишь переписывались из местных газет. И можно сказать, что, несмотря на присутствие в советской столице многочисленных иностранных корреспондентов, западный мир оставался в неведении относительно продолжающейся религиозной трагедии верующих всех конфессий; и в том числе подконтрольной государству Русской Православной Церкви. Я являюсь свидетелем этой многолетней государственной политики. Когда иностранным корреспондентам удается раздобыть надежную информацию о религиозной ситуации и связанных с ней трагедиях, советская цензура попросту блокирует ее передачу. Некоторые журналисты предпринимают попытки переправить свои сообщения за рубеж, но большинство не придают большого значения таким событиям и просто игнорируют их, этим частично объясняется заговор молчания многих крупных новостных агентств, старающихся любой ценой сохранить своих корреспондентов в Москве. Такая «политика молчания» проводилась Советами на протяжении многих лет, в течение которых многие как ведущие, так и рядовые священнослужители всех вероисповеданий испытывали жестокие репрессии, сравнимые со страданиями служителей Церкви в первые четыре века христианства.
Причиной внезапного прекращения такой политики и полного ее изменения было германское вторжение 1941 года. Очень скоро советские атеисты стали лить слезы по поводу разрушений религиозных святынь и памятников старины, совершенных ими же самими, но приписываемых вермахту. Антирелигиозная пропаганда вдруг прекратилась; через государственные органы печати и массовой агитации начали литься хвалебные публикации о славных святых традициях русского народа, оскверненных армией захватчика. «Правда» и «Известия» моментально отправили в архив свои антирелигиозные передовицы (позднее они появились снова) и присоединились к хору плакальщиков о страданиях и унижениях, нанесенных немцами русским верующим. Когда русские люди увидели такой разворот, они едва сдерживали возмущение. «Подумать только, – говорили некоторые, – наши сыновья погибают, чтобы спасти этот режим!»
Говоря исключительно об СССР в границах 1934 года, в соответствии с коммунистическими понятиями о «религиозной свободе» были закрыты 1460 католических церквей только римского обряда, не считая христианских церквей византийского и армянского обрядов. Спустя пять лет были закрыты последние сорок католических церквей; к 1939 году с возможностью организованного католического богослужения было покончено. Это означает, что католики, постоянно живущие в Советском Союзе, еще могли «веровать», но уже были лишены возможности посещать церковь. К этому времени католическое священство было полностью ликвидировано; ждать новых священников было неоткуда, поскольку были закрыты все семинарии и рукоположения не совершались. Подготовка новых священников, требующая многих лет учебы, была прекращена в первое десятилетие после революции.
Практически в каждом городе царской России была римско-католическая церковь. В Санкт-Петербурге существовало 14 церквей, в том числе две в окрестностях города. В Москве и Одессе – по три церкви, в Киеве – две, в Могилеве и Минске было несколько римско-католических церквей, поскольку в этих городах находились престолы бывших епархий. Римско-католические церкви были также во многих других городах европейской и азиатской частей России. Собственно говоря, три полностью организованные католические епархии в России и частично две других были разогнаны в результате провозглашения Советами «свободы вероисповедания».
Могилевская епархия, в прошлом самая большая в мире, охватывала три четверти Европейской России и все азиатские провинции. Четырнадцатый и последний духовный глава Могилевской епархии епископ Эдвард фон Ропп был арестован Советами в 1919 году. Все, что осталось от этой епархии, находится за пределами России, в бывшем Великом княжестве Финляндском, и теперь представляет собой апостольский викариат со штаб-квартирой в Хельсинки. Вторая епархия, с центром в городе Каменец, была основана в XIV веке и прекратила свое существование в 1918 году, когда добрая треть прихожан исчезла в результате преследований. Эта епархия еще «агонизировала» до 1932 года, когда был ликвидирован последний администратор. Третья епархия, основанная в 1848 году, с центром в Тирасполе прекратила свое существование в 1930 году, когда Советы вынудили последнего епископа сложить с себя полномочия и не разрешили назначить преемника.
В общей сложности в этих епархиях было 800 католических священников, которые практически все были репрессированы, лишь несколько из них умерли естественной смертью. Некоторые закончили свою земную жизнь на рытье Беломоро-Балтийского канала, другие католические священники надорвались на строительстве железной дороги «Печора», гордости советской инженерной мысли. Эта дорога была использована для перевозки по ленд-лизу американских грузов во время Второй мировой войны. Много католических священников закончили свои дни на лесоповале в северных лесах вместе с политическими заключенными, приговоренными к принудительным работам. Многие католические священники провели свои последние дни плечом к плечу с православными и протестантскими священнослужителями в отдаленных районах, добывая золото, медь, железную руду и таким образом внося свой вклад в «советское экономическое развитие». Еще больше священников оказались на рыболовецких предприятиях, и многие умерли на этой неоплачиваемой тяжелой работе; такая практика позволяла советскому экспортному тресту конкурировать на международном рынке, обрушивая цены за счет продажи по демпинговым ценам.
Огромное количество священников всех вероисповеданий были осуждены на расстрел грозными тройками Ежова и Ягоды, двух предшественников Берии. Невозможно описать словами те испытания, которым подвергались священнослужители только за то, что оставались верны своему духовному долгу. Они могли бы избежать многих неслыханных страданий, если бы отказались от своего духовного сана и веры в Бога. Подавляющее большинство не сделали этого. Цена, которую они заплатили за это, известна только Богу.
Уже к середине 30-х годов во всем Советском Союзе у протестантов не осталось ни одной богословской школы, семинарии или обучающего центра. Факты подобного рода, почти неизвестные за пределами России, делают весьма сомнительными вдохновенные заявления советских священнослужителей, посетивших США в 1956 году. Так же было с евреями Белоруссии, Малороссии, Украины и Великороссии: синагоги и храмы исчезали один за другим, так же как и сами раввины, которые пытались, несмотря ни на что, сохранить древнееврейские традиции богослужения.
Летом 1956 года делегация из пяти иудейских раввинов США добилась разрешения посетить Россию. Это был первый официальный контакт американских раввинов с российскими братьями по вере за тридцать девять лет. Рассматривая его с точки зрения моего длительного опыта в СССР, я мог бы сказать, что отчеты этой еврейской делегации были самыми объективными и адекватными тому, что я сам наблюдал за эти долгие годы. Члены этой организации заслуживают особой похвалы за одно открытие: в Советском Союзе нет никакой возможности изучать не только законы Моисея и традиционную иудейскую религию, но и другие религии. Приехавшие раввины, к счастью, могли быть вполне независимыми благодаря своему языку: они говорили со своими людьми на иврите или на идише, не нуждаясь в сомнительной помощи переводчиков. Эти американские раввины проявили мудрость, отстранив всех прочих от своего общения.
И взрыв, произведенный их отчетами, стоил того, чтобы преодолеть 5000 миль от Америки до России.
Во время расцвета иностранного туризма в СССР перед началом Второй мировой войны в Армении была принята смягчающая политика в отношении армяно-григорианской Церкви, отличающейся от католичества армянского обряда. Католикосу, главе армяно-григорианской Церкви, была разрешена сравнительно свободная деятельность в Ереване. Иностранные туристы восхищались великолепием религиозных обрядов, при которых они присутствовали; их красноречивые переводчики сумели убедить какую-то часть туристов в том, что все разговоры о религиозных преследованиях являются клеветническими и сфабрикованы врагами Советского Союза. Таким образом, кремлевские атеисты извлекали большую выгоду из пропаганды за рубежом. Точно так же они делают и сейчас, когда принимают у себя клерикальные миссии и отправляют за рубеж свои собственные. И это было не единственной выгодой кремлевских лидеров, на мгновение приоткрывавших завесу перед огромной черной камерой – Советским Союзом, чтобы создать у иностранцев запланированное впечатление.
О капиталистической жадности советского режима к твердой иностранной валюте уже упоминалось в эпизодах с золотыми и бумажными рублями; теперь читатель узнает о существовании организации, почти неизвестной за пределами России. Простые русские люди не принимали и не желали принимать участия в ее работе, но правящая партия своим железным кулаком заставляла их это делать. Это МОПР – Международная организация помощи борцам революции. В СССР она финансируется «добровольными» вкладами в форме членских взносов более чем от двенадцати миллионов членов, волей-неволей оказавшихся в ее рядах. Из-за границы МОПР косвенно поддерживалась иностранной валютой, стекающейся в сейфы «Интуриста», от ничего не подозревающих иностранных туристов, которые обычно платят от семнадцати до тридцати долларов в день за привилегию таращить глаза на приготовленные для них театральные декорации.
МОПР – это тайный источник фондов для выплаты залога и других судебных издержек из средств, поступающих через секретные каналы для защиты коммунистов, обвиненных за границей в попытке свержения правительств, неугодных Кремлю. Известно, что советские посольства, дипломатические, торговые и культурные миссии, работающие через ВОКС, злоупотребляют иммунитетом дипломатической почты, выполняя темные дела МОПРа. Деятельность этой организации еще раз свидетельствует о коварной советской способности вводить в заблуждение даже тех, кто платит деньги за то, чтобы поехать и увидеть, насколько «свободна» религия в этой стране.
И хотя Русская Православная Церковь остается преобладающей религией в России, католичество является фактором, которым нельзя пренебречь. После аннексии территорий балтийских республик, Буковины, Бессарабии, Западной Украины, части Карелии и особенно большой части территории Польши католичество приобретает все большее значение. Сегодня можно сказать, что Советский Союз фактически, если не юридически приобрел географический контроль над почти семнадцатью миллионами католиков римского, византийского и армянского обрядов. Что касается прав этих верующих в отправлении своей религии – это уже совсем другое дело.
Лютеране жили в основном на юго-западе Украины, в центре России и в Поволжье. На всем протяжении левого берега Волги почти до самой Казани были разбросаны поселения немцев Поволжья. Их духовное руководство было полностью разгромлено еще в середине 30-х годов, хотя последняя церковь доживала свои дни в Москве до 1938 года. Массовая депортация почти двух миллионов человек, добрая треть которых были католиками, подвела черту под организованным богослужением.
Иудейская вера со строгим соблюдением законов Моисея концентрировалась в основном по границам России с Европой. Наибольшее число верующих находились по обеим сторонам бывшей польско-советской границы, до корректировки ее линией Керзона[130]130
Условное наименование границы, инициированной во время советско-польской войны 1920 года лордом Керзоном (МИД Великобритании). – Прим. сост.
[Закрыть]. Синагоги были закрыты, и раввины арестованы.
Однако как религия иудаизм подвергся нападкам позднее, когда начались всеобщие репрессии верующих.
Мусульмане подверглись тем же преследованиям частично в Крыму, но в основном в азиатских республиках; их религиозные обычаи и священные традиции отчаянно сопротивлялись атакам атеистов. И снова, отбрасывая свои многократно провозглашенные принципы отделения Церкви от государства, советское правительство начало издавать богохульные антирелигиозные брошюры против Аллаха; книжка под названием «Праздники и посты ислама» распространялась по всему СССР. Множество таких книг было напечатано и переплетено молодежью на учебных предприятиях фабрично-заводских училищ (ФЗУ). Эти рабочие школы при заводах были довольно распространенными формами обучения; на самом деле многие ФЗУ представляли собой скрытую форму эксплуатации детского труда, запрещенной в СССР по закону.
Но Советы не могли считать успешной свою кампанию по разрушению церквей и массовой ликвидации католических священников до тех пор, пока действовала церковь Святого Людовика, открытая для всех без исключения. Они бы не возражали против того, чтобы церковь существовала только для иностранцев и обслуживалась иностранным священником. Но их раздражало, что толпы русских людей приходили в этот храм к священнику, который находился вне их контроля.
Иностранцы при желании всегда могли посещать театры, оперу или советские кинотеатры; но дипломаты редко смотрели советские кинофильмы, американское посольство устраивало просмотры в Спасо-Хаусе. Если при посещении театра или футбольного матча иностранцу удавалось переброситься несколькими словами с русскими, кроме обычного приветствия, это уже считалось событием и служило темой для разговоров в посольстве во время коктейлей и приемов.
Я же, напротив, продолжал общаться с русскими людьми на протяжении всего дня. Они исключительно благоговейно воспринимали слова Священного Писания; различные эпизоды из Евангелия соответствовали их собственному жизненному опыту, по мере того как весь литургический цикл разворачивался перед ними на протяжении года. Они особо эмоционально реагировали на цитаты, подобные этой: «Блажен изгнанные за правду, ибо их есть Царство небесное» (Матфей: 5, 10). Моя церковь служила местом встречи русских верующих, объединенных общими безмолвными страданиями, где они соединяли свои молитвы в единстве духовного сочувствия. За исключением иностранных прихожан, почти каждый верующий был представителем семьи, разрушенной НКВД. С точки зрения Советов, солидарность этих людей считалась опасной. На меня как на священника, который несет людям Священное Писание, власти также смотрели косо – одно мое присутствие было вызовом их идеологии.
Русские люди цеплялись за Церковь с безнадежным чувством веры в Бога и надежды на него. Среди наших прихожан, включая и тех, кто приезжал из других городов, сотни исчезали без следа, и я никогда больше о них не слышал. В глазах государства их преступление состояло только в том, что они верили в Бога, но, чтобы придать подобие законности своим преследованиям, Советы неизменно обвиняли своих жертв в контрреволюционной деятельности. Они должны были бы знать, что бесполезно пытаться уничтожить веру в Бога; несмотря на аресты, заключение в тюрьмы, ссылки и расстрелы, верующие продолжали приходить в церковь. Они хорошо знали, что одно их присутствие в этой церкви (а другой и не было) вызывало подозрение НКВД; и все равно они приезжали со всех уголков страны.
В интерпретации советских материалистов верующие в храме представляли собой публичное собрание, невозможное ни в каком другом месте. Многие наивные люди были одурачены псевдорелигиозной политикой Кремля; здесь не мешает процитировать сталинское заявление, повторенное Хрущевым в его обычной грубой манере. «Разве мы не ликвидировали реакционное духовенство? – спрашивал Сталин, и, отвечая на свой собственный вопрос, он добавлял откровенный комментарий: – Да, мы ликвидировали их. Жаль только, что не всех». Применительно ко мне это означало, что мой приход, вследствие их собственных действий постоянно увеличивающийся за счет русских верующих, заставлял их мириться и с моим существованием против их воли. Если бы они не закрыли другие католические церкви в Москве, я бы не имел таких широких контактов с местным населением.
Если бы не был подписан религиозный протокол Рузвельта – Литвинова, я бы никогда не приехал в Россию. Если бы не было лавины писем в Белый дом, настаивающих на том, чтобы президент и Госдепартамент добились официальных религиозных гарантий для американских граждан, живущих в России, вряд ли этот протокол был бы подписан. А затем благодаря целой цепочке обстоятельств американский священник остался совершенно один в самом сердце атеизма. И хотя круг моих обязанностей был изо дня в день одним и тем же, моя жизнь на этой терроризируемой земле не была однообразной. Все, что советская власть могла сделать, чтобы досадить мне, сводилось к ограничениям на самые элементарные потребности человеческого существования. Они ждали, что я попадусь в одну из постоянно расставляемых ими ловушек; но с Божией помощью я всегда находил силы выпутаться из них. Когда я возвратился в США, меня часто спрашивали, не хотел ли я вернуться домой раньше. На самом деле я был готов остаться в России на неограниченный срок. Но Сталин был сыт мной по горло уже через двенадцать лет.