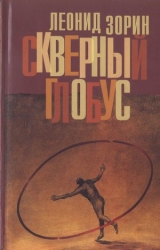
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
Путь мой лежал через Швейцарию. Вот она, вольная Гельвеция. Милая спящая красавица. Вот она, умница-разумница, производящая и выдающая добротное европейское счастье в опрятной аптекарской упаковке. Но я понимал, какой ценой, каким бессонным трудом поколений оплачены этот уют и покой. О, нет, мы скроены по-другому – нам подавай все и сейчас.
Здесь жили Екатерина Павловна и дети – перед долгой разлукой мне захотелось на них взглянуть. После великолепной гранд-дамы, так артистически сочетавшей действа Художественного театра с театром революционных действий, было особенным наслаждением видеть лицо, любезное сердцу, естественное в любой своей черточке, слышать ее задушевный голос. Мне было грустно проститься с нею, с Максимом, со щебетуньей-малышкой. Бедную смешливую Катеньку видел тогда я в последний раз – кто знал, что срок ее будет так краток?
И скоро под моими ногами была уже не прочная твердь, не тихое лоно Вильгельма Телля, под ними свободно ходила палуба громадного мрачного корабля – огонь в его топке, казалось, подпитывался не столько равнодушным углем, сколько надеждами пассажиров. И я был такой же частицей исхода, одним из барашков этого стада. Здесь, ограниченные бортами и грозным безмолвием океана, все мы – и каждый из нас – утратили свою особость, свою отдельность, стали людьми одной судьбы. Куда-то везут и где-то высадят, если до этого не потонем.
Не знаю, кто чувствовал сходно со мною, да я и не стремился узнать. Я молча, непримиримо пестовал врожденную неприязнь к толпе, свою отчужденность и сепаратность.
Возможно, из глухого протеста, из неосознанной скрытой потребности отмежеваться от общей массы я выбрал Канаду, а не Америку. О да, тут был и выбор, и вызов. Я еду не в новый Вавилон, не на смотрины ловцов удачи, не на многоголосое торжище. Еду в пустынный морозный мир, похожий на мою снежную землю, в которой не нашел своей доли. А здесь я найду ее непременно. Это страна первопроходцев, страна мужчин – на этих просторах ты существуешь сам по себе.
Ну что же, ты хотел независимости? Ты получил ее полной мерой. С первого вечера в Торонто был предоставлен себе самому. Хотел доказать, что чего-то стоишь, что не намерен пропасть бесследно? Доказывай, и Бог тебе в помощь! Поныне не хочется воскрешать это жестокое пестрое время. Самое тяжкое одиночество – то, что томит тебя в муравейнике – его-то пришлось хлебнуть с избытком.
Была бессмысленная работа на крохотной меховой фабричонке. И еще более бессмысленная в одной подвернувшейся типографии. Стоило бросить Большую Покровку, чтобы опять дышать свинцом, парами кислот и медной пылью! Но дальше меня поджидала прачечная. И вновь мне представился отчий город и голоногие слобожанки с подолами, задранными до бедер, их круглые склоненные спины и мощные грушевидные груди, почти уходившие в мыльную воду, плескавшуюся в серых лоханях. Похоже, что я и сам очутился у старого треснувшего корыта!
Не диво ли, что ожившая память оказывается такою дыбой? Какое пыточное занятие – перебирать свои неудачи, свои изнурительные усилия пробиться сквозь чужую броню? Как убедить в своей достаточности, в своей способности и готовности преодолеть любые горы? Всмотритесь в меня, я тот, кто вам нужен. Я буду полезен – не сомневайтесь! Увидите сами – но дайте мне шанс!
Чем больше стараешься приглянуться, тем это менее удается. Столь же постыдно, сколь и бесплодно – люди, как правило, глухи и слепы.
Поистине – испытать унижение легче, чем о нем вспоминать. Удар бича – он, как ожог. Быстрая боль быстро проходит. Но если неспешно, миг за мигом, переживаешь былой позор, она становится невыносимой. Старый рубец набухает вновь неисцеленной густой обидой.
Естественно, я предпочел бродяжничество. Вместе с одним моим земляком, устав от безнадежных попыток найти подходящую работенку, мы дважды обошли материк.
В те дни мы вдоволь хлебнули Севера. Он навсегда продул наши легкие, и я за малым не задохнулся от этой арктической струи. Ни увлеченье морозостойкими авантюристами Джека Лондона, ни грозные образы русской зимы уже не помогали нам больше. Хотелось тепла, хотелось дома, почувствовать под ногами почву не как дорогу, а как пристанище.
Так, может быть, мы ищем жар-птицу не там, где она обычно летает? Все, наделенные энергией, не огибающие жизни, расставшиеся со страхом люди находят фортуну свою в сопредельной великой стране равных возможностей. И вот решились – в пасхальные праздники мы через озеро Эри сумели переправиться в Штаты.
Как тяжело нам дались, Америка, твои гудящие города, твое бесстрастное многоэтажье! Как равнодушно и беспощадно обрушилась ты камнем и сталью на наши бесприютные головы. Мой спутник по складу своей души и в малой мере не относился к тем фанатическим мазохистам, которые готовы поджариваться в урбанистическом аду. При этом – воркуя от наслаждения. Он прививал мне любовь к отшельничеству, к лесу, к природе, к ее тишине. Какое-то время я увлеченно изображал анахорета, тем более, вдруг повлекло к перу. Мне захотелось запечатлеть свои метания и кочевья, а это требовало уединения.
Не странно ли? Я почти повторял судьбу моего второго отца. Подобно ему ушел я в люди, подобно ему потянуло к странничеству, подобно ему – с грехом пополам – прошел я свои университеты. И вот, подобно ему, ощутил присутствие дьявола литературы. Едва ли такая сходность случайна, меж нами и впрямь возникло родство!
Однако писателем я не стал. Довольно легко сумел укротить это опасное наваждение. Я не умножил собою армии (впрочем, она неисчислима) несчастных, которые добровольно приклеились к письменному столу. Бесспорно, я испытал удовольствие, увидев, как рукопись стала книгой – судьба мне доставила эту радость, – но зуд графоманства не был так мощен, чтоб я не сумел его одолеть. Я предпочел стать героем сюжета, нежели только его творцом. Не спорю, словесность – мужское дело, возможно – одно из самых мужских. Я – сын Алексея, и это знаю. Но если ты избираешь каторгу, ты просто обязан ее обожать. Меня ожидала совсем иная.
25 октября
И вдруг я понял, что это конец. «Черт побери, я умираю. Так вот, как все это происходит. Больше не будет ни этого луга, ни этой запекшейся земли, ни красного неба над головой…»
Я устоял. Овладел языком. Я укоренился в Нью-Йорке. И в процветающей типографии (вновь типография – наваждение!) сумел оттеснить других претендентов. Я сдал экзамен этому городу, привыкшему пожирать мечтателей. Но он запросил немалую цену. Стань недоверчивей, суше, жестче. Поглубже припрячь свою чувствительность. Не вздумай церемониться с женщинами, им церемонии не по вкусу. Когда-то Алексей поучал: «Женщину необходимо беречь. Надо уважать ее волю». Теперь-то я знал, что женскую волю не следует принимать всерьез. Когда вы послушно ее уважаете, женщина уходит к тому, кто этой воли не уважает. Стоило позже, в Адирондаке, забыть об этом, и в жизни моей случился вулканический взрыв.
У этого взрыва было имя. И не одно – Грейс Латимор Джонс. Весьма эксцентричное существо – учительница из Чикаго. Как видно, мне очень уж захотелось стать первым учеником, ибо вскорости мисс Джонс оказалась моей невестой. История длилась довольно долго.
Все это приключилось впоследствии, в доме у Мартинов, в лесу, неподалеку от Элизабеттауна, а также – от границы с Канадой. Эту границу я пересек всего только в прошлом году – без денег и под другой, сочиненной фамилией. Новая жизнь меня захлестнула с какой-то оглушительной щедростью переживаньями и событиями.
Главнейшее случилось весной. Двадцать восьмого марта, в полдень, на корабле «Кайзер Фридрих-Вильгельм» в город Нью-Йорк приплыл Алексей. В тот день ему стукнуло тридцать восемь – совсем немного, до сорока мужчину можно считать молодым, – но уже весь переполненный мир, занятый вечной своей круговертью, обычно незрячий и равнодушный, знал и повторял его имя. Чтобы пробиться к нему, мне понадобилось прорваться сквозь потную толчею корреспондентов и репортеров – зубастых взмыленных наглецов. Но я уже научился расталкивать, умело орудовать локтями – Нью-Йорк меня этому научил. Я продирался к Алексею со всей моей ненавистью к толпе, со всей затопившей меня любовью к тому, кого я назвал отцом.
В тот миг, когда я прижался щекой к его груди, когда целовал, заглядывал в его глаза, которые сразу же увлажнились, я понял, как он мне близок, как нужен и как пуста без него моя жизнь. Пусть она деятельна, пусть напориста, но как несущественна, как незначительна!
Их было трое. Кроме Андреевой, один господин – Николай Евгеньевич. Горький приехал за сбором средств для передового движения. Ему надлежало собрать налог с собственной славы – в Новом Свете слава имела твердую цену. Поэтому передовое движение следило, чтоб добровольный мытарь действовал строго в его интересах. Движение сочло недостаточным иметь в наблюдателях только жену, тем более, «жена есть жена», как сказано у покойного Чехова, за женами нужен глаз да глаз. В помощь ей был придан Буренин. Он оказался вполне приятным, легким в общении человеком, но помнил о том, зачем он прибыл.
Лет пять спустя, под небом Италии, я окончательно убедился, что это движение крайне прожорливо. Я заходился от возмущения, я клокотал от бессильной ярости, видя, как наши идеалисты неутомимо доят Алексея. Естественно, не его одного. Они безошибочно находили весьма состоятельных филантропов. Вот так же эти славные люди почти разорили Савву Морозова. Не только ободрали, как липку. По мере сил своих поспособствовали его помешательству и суициду.
С самого первого мгновенья я безошибочно ощутил: мой обретенный вновь Алексей чувствует то же, что чувствую я. И если я обнимаю отца, то он сейчас обнимает сына. Он не хотел со мной расставаться, уже назавтра после приезда на званом обеде он усадил меня рядом с собой, по правую руку. Так было и дальше – мне даже казалось, что без меня ему неуютно.
Вначале были встречи с писателями. Сперва с Марком Твеном, потом – с Уэллсом. Марк Твен Алексею понравился сразу. Мне – тоже. Он не мог не понравиться. Высокий, плечистый, широкогрудый, беловолосый и белоусый, в белом пластроне с белой бабочкой под черным смокингом – в этом наряде он выглядел несколько официально, и, кажется, это его смешило. Улыбка была лукавой, но грустной. Такой, какая почти неизбежна у настоящего юмориста. Я знал, что он вдов и, хотя покойница теснила его своим благочестием, он тяжко переносил одиночество. Знакомясь, он меня оглядел мудрыми выцветшими глазами сильно уставшего Тома Сойера. Впоследствии я не раз вспоминал этот совиный всеведущий взгляд – я не ошибся, он не был счастлив. Все то же – ни поклоненье Америки, ни эта ее простодушная гордость своим неуемным озорником были бессильны перед безжалостным, стремительным убыванием дней. В тот день я впервые подумал о странной и неизбежной закономерности: чем ярче жизнь, тем горше старость.
Уэллса Алексей невзлюбил, по-моему, сразу – меж тем, еще долго играли они в высокую дружбу. Так полагалось: властители дум, парящие на духовных вершинах, должны испытывать только приязнь, естественное влеченье друг к другу. Они окликают один другого, ибо им больше общаться не с кем.
Эта возвышенная игра дорого обошлась Алексею. В голодном, продутом насквозь Петрограде провидец в клетчатом пиджаке провел в его доме две недели – отсутствовал он всего два дня, ездил в Москву побеседовать с Лениным о будущем «России во мгле».
Когда британский пророк вернулся, он выглядел еще более мрачным. Впрочем, он никогда не скрывал презрения к миру, где вынужден жить, и к людям, которые в нем барахтаются, – оно было накрепко отпечатано на круглом, всегда недовольном лике. Недаром предсмертное обращение к несовершенному человечеству звучало исчерпывающе: «Будьте вы прокляты! Я вас предупреждал». Вот так-то. Он вас предупреждал, недоноски.
Однако до прощания с космосом ему предстояло жить еще долго – сорок весьма насыщенных лет. Намного дольше, чем Алексею. И судьбы их вновь пересеклись. В те стылые петроградские дни сам Алексей и свел его с женщиной, которая была светом в окне. Если б он знал, что гость и собрат ее уведет и обессмыслит все его последние годы! Правда, последняя жирная точка была поставлена лет через десять, когда мой отец вернулся в Москву.
Поныне мне больно об этом думать и сознавать, как был он несчастен, прежде чем завершил свое странствие. Так хочется его защитить, прикрыть собой от людей, от рока. Он-то всегда приходил на выручку, мог взбудоражить, мог остеречь.
Вдруг вспоминаешь: тогда, в Нью-Йорке, узнав, что я пробую литераторствовать, он оживился: доброе дело. Но – необходима среда. Какое-то время совсем невредно пожить с писателями бок о бок. Они, конечно, бывают всякие. Есть те, кого лучше знать по книгам. Не ближе. Ибо встречаются сволочи.
СвОлОчи. Как меня ублажало его нижегородское оканье. Любил я в нем решительно все. Его привычку постукивать пальцами, тягу к кострам, его покашливанье, даже легко закипавшие слезы, о них вспоминали при каждой возможности. Все было мне мило, все стало родным, рождало беспричинную нежность. Иной раз казалось, что в этом союзе я – старший, отец, гордящийся сыном.
Я ощутил перемену ролей, когда целомудренная Америка закрыла перед ним и Андреевой свои непорочные отели. Газеты стонали от возмущения. Пока оставленная жена томится с брошенными малютками, он путешествует с любовницей. Позор! Никто не подаст руки столь бессердечному сластолюбцу.
Эти припадки копеечной нравственности, бьющаяся в падучей мораль, громоподобная и фарисейская, рождали во мне горючую смесь из острой тоски, омерзения, боли. Переживал я ту вакханалию еще острее, чем Алексей. Страдал за него и краснел за Америку. Я словно отвечал за нее! Странное свойство – прожив два года, вчерашний гость, я уже испытывал это хозяйское чувство туземца. Я точно прирастал к новой почве, точно спешил породниться с нею.
О, сколько же раз я болел и страдал за новоявленное отечество! Поистине, непонятная участь. Благо, всегда хватало в избытке поводов для стыда и боли. Терзался из-за своей России, из-за Канады, из-за Америки. Из-за Италии. Из-за Франции. Повсюду – больший католик, чем Папа.
Я сделал все, чтоб найти приют. Мы обрели его в Адирондаке, у Мартинов, в их лесной твердыне. В ней было тихо и благодатно, мы жили вдали от суеты, от воя разоренных пуристов, от борзописцев и от поклонников. Великий труженик Алексей исписывал белые листы своим каллиграфическим почерком, при этом неизменно вступая в свои особые отношения со строгими знаками препинания. Была система фаворитизма – всем знакам предпочитал тире. Оно возникало почти внезапно, решительно разрубая фразу и придавая ей неуступчивость.
Мария Федоровна освещала тенистый дом неземной красой – газетная буря не отразилась на королевской невозмутимости. Зато ко мне она подобрела, похоже, что оценила преданность, столь украшающую вассалов. Буренин – талантливый музыкант – все колдовал над фортепиано, отыскивал именно те мелодии, которые легче ложились на́ душу, в зависимости от настроения. А я делал все, чтобы мой отец не отвлекался на пустяки и мог спокойно сидеть над рукописью. Был переводчиком, секретарем, вел деловые переговоры. Он знал, что я неизменно рядом, если понадоблюсь – отзовусь. «Где ты, сынок?» – «Я здесь, Алексей».
Почти идиллическая картина! Так ли все было на самом деле или так хочет сегодня память? Нет, шесть десятилетий назад вряд ли я чувствовал по-другому. Мы все были счастливы – каждый по-своему, мы верили, что овладели жизнью. И даже появление Грейс, созревшей для периода нереста, не помешало той пасторали. Щепотка перца была лишь кстати.
Увы, всему приходит конец. Прекрасным дням в Аранжуэце, прекрасным дням в Адирондаке. Впрочем, как знать – в их скоротечности, возможно, и скрыто их обаяние. Не доживают до рутины, однажды не становятся буднями, их назначение – согревать наше мертвеющее сознание и примирять с прощальной бессонницей.
Расстались в последний день сентября. На сей раз он уезжал в Неаполь. Я выучил это звучное слово давным-давно, на Большой Покровке. Мне было сладко его повторять. Казалось, что звонкая тарантелла когда-то обрела свое имя и стала городом, вознеслась над яркой дугой знаменитой бухты.
«Увидеть Неаполь и умереть». Увидеть Венецию и умереть. Увидеть Париж – и – вновь умереть. Чуть ли не каждая точка на карте тебя обольщала и властно требовала – увидеть ее хотя бы разочек, а после ты вправе отдать концы. Но я не хотел послушно твердить эти лукавые заклинания. Увидеть, но увидеть не раз. Увидеть, но жить и жить без привалов. Взахлеб, не давая крови застаиваться и превращаться в бесстрастную известь. Жить, когда сила неистребима и даже когда она оставляет. Жить жадно, не признавая антрактов. Жить, добираясь до горизонта. Пока не изойду, не свалюсь – в шаге от цели, в последнем хрипе.
Он обнял меня, пробормотал: «Даже не знаешь, как ты мне дорог». Я заглянул в его увлажненные, немыслимо голубые глаза, шепнул ему: кликни, когда буду нужен. Помни, что я здесь, Алексей.
Я задержался еще на два месяца. Я уже понял, что Америка не станет моей последней пристанью. Не то что не мог в ней укорениться – я не хотел укореняться. Время для этого не пришло. В путь, в путь. Прощай, эмигрантская Мекка. Спасибо за твои оплеухи, ты сделала из меня мужчину. Мое путешествие продолжается.
Скорее всего, оно будет тяжким. Что ж, жизнь – опасное приключение. А будущее имеет смысл, если оно таит загадку. Я независим, свободен, молод, распоряжаюсь своей судьбой. Она как глина – будь гончаром, меси, лепи из нее что хочешь. Мни ее по-хозяйски, как женщину. Ты можешь придать ей любую форму. То, что открыто другими, – не в счет. Только ты сам открываешь земли.
Я слышу, как поет подо мной дорога Тихого океана. Вперед. Уже позади Гавайи и позади острова Самоа. Все ближе Тасманово море и час, когда корабль уткнется в берег.
Мне предстояло прожить полгода в новозеландском овечьем раю. Такое счастливое преображение земли беглецов, земли каторжан. Но я не овца, меня там не ждали сочные травы зеленых пастбищ. Я должен был вновь не пропасть, устоять, сдать свой очередной экзамен. Горбиться грузчиком в Лоуэр-Хатт, после – на ферме близ Данидина. Перепахать своими ногами кентерберийские равнины и побывать во всех городах – от Уэллингтона до Крайстчерча.
Мало-помалу жизнь наладилась. Я стал посматривать по сторонам – отвоевал эту возможность. Мне попадались разные люди – и преуспевшие и проигравшие. И те, кто просто отсчитывал дни, урвав себе свой скромный клочок новозеландского благополучия. Выпали мне и ночные радости – несколько радушных красоток. Одна из них была мне по нраву даже и в дневные часы. Но – не настолько, чтоб я захотел стать гражданином ее отечества.
Время от времени я получал добрые весточки от Алексея. Он по-отечески ободрял: «Зинка, держись, не вешай носа». Я и не вешал. Я уже понял: не дрогну ни при каких обстоятельствах. Что ни случится – не пропаду.
28 октября
«Запоминай их, запоминай! О Господи, я совсем помешался. О чем я думаю? Через час не будет ни памяти, ни меня».
Так сладостно вспоминать Италию. Пусть даже все ее великолепие, ее цезарианская древность невольно тебя побуждают думать о собственной малости и мгновенности.
Хочу возвращаться к ней вновь и вновь. К той, что предстала тогда, впервые, безоблачной, как небо над нею, и простодушной, как ее дети. Еще не охваченной амбициями, дурацкой колонизаторской спесью. Не подожженной трескучими искрами писателя Габриэле д’Аннунцио, не соблазненной еще Муссолини, напялившим черную рубашку. Нет, я хочу вспоминать Италию без этих напыщенных декламаторов. Своим слабеющим обонянием почуять запах лимонных рощ, услышать утренний шелест пиний, увидеть прибрежный сырой песок, будто вбирающий и приручающий адриатическую волну.
Хочу, хочу вспоминать Италию, похожую на ложе любви. В какую-то озорную минуту Верховный Зодчий ее задумал и воплотил как арену страсти. Недаром же, сохраненные временем, все изваянья ее богов одарены обилием плоти и так ошеломительно сходны с могучебедрыми любовниками.
Поныне хочу вспоминать ее женщин. Решительно всех, без исключения. От той трактирщицы в Кастенамаре с розовым гибким телом форели (она меня гостеприимно баловала обоими дарами природы), до королевы, меня поившей – сама поднесла стакан воды, не соблюдая протокола – жажда томила меня в тот день. «Сынок, всех ягод не съешь». Ох, знаю. Но – предпочитаю не знать.
Кончался май девятьсот седьмого. На Капри, благословенном Капри, соединились оба изгнанника. Звучит достаточно самонадеянно. Словно покинувший свою родину, известный всей планете писатель – такой же летучий лист на ветру, что и молодой человек, скитающийся по белу свету. Чего он хочет, чего он ищет? Счастья? Фортуны? Слепой любви? Возможно, что себя самого. Пора бы понять, зачем Всевышний вложил в него сгусток воли и страсти.
Но не было времени долго задумываться над тем, кем он был и кем он стал, тем более кем он был замыслен. Знать все об этом бродяге и грешнике, о блудном сыне – дело Создателя, а дело блудного сына – жить. Жить, не давая себе передышки.
Впрочем, я вновь помогал Алексею, тем более что Марии Федоровне было не до этой заботы. Муза была занята по-прежнему своим революционным призванием и строго следила, чтоб Алексей служил пером великому делу и был опорой его вождям. Прежде всего опорой финансовой. По-прежнему бо́льшая часть гонораров текла в бездонную пасть движения. Теперь оно называлось партией, и в ней обозначились два крыла. То, что спокойней, объединяло так называемых меньшевиков – людей относительно приличных, другое (оно хлопало резче и взмахивало с особым шумом) – принадлежало большевикам. Думаю, эти обозначения, возникшие довольно случайно (от одного из голосований) сыграли впоследствии важную роль. Масса, немногое понимая, доверясь инстинкту, тянулась к большему, надеясь, что большее значит большое. Сегодня я с грустью должен признать: большевики оказались удачливы. Да и успешны. На всех поворотах судьба им явно благоволила.
Она им дала прирожденного лидера. Настолько уверенного в себе, в своем всеведении, исключительности, в своем несравненном интеллекте, что эта уверенность перешла ко всей богомольно внемлющей пастве. Думаю, что вправе сказать, используя нынешнюю терминологию: его суггестивные возможности превосходили нормальный уровень.
Среди малочисленных еретиков гуляла скептическая шутка: «это случится только тогда, когда Ульянов станет премьером». Но утопический вариант, смешивший своей невероятностью, в один трагический день стал реальностью. Ульянов был утвержден премьером всея Руси, а братец мой Яков – ее президентом, пусть номинальным. В мире абсурда шутить опасно. По меньшей мере – недальновидно. Самые мудрые иронисты часто оказываются в луже.
Не странно ль, что люди, не выносящие усекновения общей свободы, столь радостно расстаются с личной?! Мне так и не удалось понять, чем добровольное рабство роскошней навязанного и унаследованного.
Естественно, для чувства протеста всегда достаточно оснований. Мы видим тупость, скотство и свинство. Видим насилье над духом, над правом, над собственным существованием, и мы выражаем свое несогласие, свое неприятие хода вещей. В этом, бесспорно, нет преступления. Преступное помутнение разума нас посещает в тот час роковой, когда мы изъявляем готовность наставить и просветить человечество. Тем более – его осчастливить. Для этой цели есть чудодейственное непобедимое слово «вперед!». Все просветители и благодетели несокрушимо убеждены в том, что движение поступательно. При этом им не приходит в голову, что дело вовсе не в поступательности, а в направлении движения.
Долгий мой век меня привел к взвешенному отрицанию касты, которую принято называть неким политическим классом. А между тем, я ведь и сам принадлежу к этой породе. Суждение мое непоследовательно, но, полагаю, тем достоверней.
Внимание! Эти монстры опасны. Ни горсточки сочувствия к людям, ни грошика сострадания к миру – одно лишь создание мертвых схем и невесть откуда взятое право топтать и сушить живую жизнь.
Чем дольше бродил я по белу свету, тем больше крепла во мне потребность (странная при моей дружбе с де Голлем и несомненной к нему любви) каким-то образом отделить и изолировать эту касту от бедных наших детей человеческих. Похоже, что она зародилась, когда я впервые увидел Ульянова.
Забавно (не для его оппонентов), что сей выдающийся гипнотизер жил купно со всей своей аудиторией под властью собственного гипноза. Вместе со всеми он был убежден, что он и есть долгожданный мессия, носитель той абсолютной истины, которой так трепетно ждут народы. И он вбивал ее в наши головы, порой удивляясь, сколь тугодумны и удручающе неповоротливы эти предметы на наших плечах.
Но еще больше он поражался, когда натыкался на несогласие. Он просто отказывался понять, как жалкие сосунки осмелились ему возразить – ни стыда, ни совести! Распущенность, двойка за поведение! Пусть сразу же отправляются в угол и помнят, что в следующий раз он выпорет их без сожаления – они не смогут ни встать, ни сесть.
Мария Федоровна Андреева, звезда Художественного Театра, не возражала ни словом, ни вздохом. Молилась на этого режиссера, который готовился к постановке кровавой исторической драмы на сцене распростертой России. При этом она ревниво следила за Алексеем – достаточно ль истово он отдается богослужению.
Вел себя Алексей образцово. Как подобает властителю дум, певцу пробужденного авангарда. Больше того, побывал на съезде не слишком давно учрежденной партии. (О, боги! Сколько их предстояло!) Там и увидел он всю верхушку. Мерцал усталый, высокомерный, уже отодвинутый Плеханов. Сиял торжествующий новый гуру.
Мне довелось его наблюдать достаточно близко и убедиться в его непостижимой уверенности, что люди должны ему повиноваться. Он ведь и мне давал поручения, и я не сразу сумел уклониться. Вначале тянуло стать во фрунт. Право же, было над чем задуматься и кое-что почерпнуть на будущее.
Однако в мой первый август на Капри меня завертели иные заботы. Явилась чикагская невеста. Я так и не мог в себе разобраться – сильно я рад или сильно растерян. В этой истории любви было немало присочиненного – как и во всякой такой истории. В Адирондаке меня закружила славная молодая горячка – барышня выглядела заманчивей и привлекательней всех остальных. И безусловно – оригинальней. Ее независимый характер, не признающий постылых правил, меня и занимал и притягивал. Особенно после всех наших тягот, принудивших укрыться в лесу.
И все же, уже в урочище Мартинов, эта ее незаурядность стала во мне вызывать опаску. Новозеландская эскапада должна была многое прояснить. Моя влюбленность не помешала перемещениям в пространстве. К тому же после «страны надежд» (так я потом назвал свой очерк, претендовавший быть рассказом), я перебрался к Алексею. Достаточно странные поступки для жениха и для любовника. И вряд ли свидетельствуют о готовности торжественно обменяться кольцами.
Но Грейс была девушкой целенаправленной и полагала – не беспричинно, – что пенелопово долготерпение должно быть достойно вознаграждено. Я видел, что свадебная церемония неотвратима и неизбежна. Да и куда же было деваться? На стороне законного брака объединились все аргументы.
Прежде всего мои обязательства. Однако не только они одни. В спектакле, который был сыгран в то лето, все обстояло не столь добродетельно, не так хрестоматийно бесполо. Пьеса могла быть не самой удачной, но декорации подавляли. Особенно – волю к сопротивлению. Остров, на котором развертывалась охота за прекрасным Иосифом. Жар юга, жар молодости, жар лета, жар наших тел – такие тропики действуют верней серенад. Когда решительно каждая ночь заканчивается грехопадением, победа буржуазной морали становится почти неминуемой.
Бедняжка! Ее эксцентрический стиль на сей раз сработал против нее. Мелочи, сущие пустяки, казалось, не стоящие внимания, иной раз становятся определяющими.
Не скрою, меня всегда раздражала ее любовь ходить босиком. Я говорил, что хочу быть единственным, кто видит ее босые ноги, что в этом сквозит эротический вызов. Она с учительской назидательностью мне сообщала, что именно так и достигается связь с землей. Но эта антеева зависимость мне представлялась нехитрой игрой – возможностью предъявить свои прелести.
Пугала ее самонадеянность. Была неколебимо уверена, что с морем она – накоротке. Поэтому далеко заплывала. А плавала плохо и неумело, затрачивая уйму энергии. Понятно, что я выходил из себя, боялся, что все это скверно кончится.
И так же вела себя на берегу. Потомственному рыбаку объясняла, какие сети прочней и надежней.
Порой щеголяла своими фантазиями. Они сменяли одна другую. Не раз и не два она твердила, что хочет подняться на Везувий. Я ей сказал: «Лишь в день извержения». Этот ответ привел ее в ярость. Я тоже бесился – я видел претензию. Манерность, игра в оригинальность, которой она так дорожит. Мне вспомнились визитные карточки, которые штамповал мой гравер в своей мастерской на Большой Покровке. Оригинальность была для Грейс ее персональной визитной карточкой.
Да, мелочи. Но они-то оказываются последними гирьками на весах. А если к тому же еще помножаются на суфражистскую эмансипированность! Мы поняли – ничего не выйдет. Она примирилась с этим спокойней, чем я опасался. Скорее всего, ей надоели ее котурны. Да я и сам начинал актерствовать – подобный театр весьма заразителен. Лишь по ночам к нам возвращались наша естественность и свобода. Но вряд ли кому-либо удалось перенести течение жизни на это сладчайшее время суток. Даже самим Катуллу и Лесбии. И мы расстались. Я долго смотрел, как удаляется корабль, как уменьшается, словно истаивает, стоящая у борта фигурка. Прощай, чикагская босоножка! Спасибо тебе за твои дары.
С особым рвением я вернулся к своим неофициальным обязанностям – всемерно помогать Алексею. Я прожил с ним рядом четыре года, очень насыщенных, но нелегких. От вечного круговорота гостей нельзя было не ощутить усталости, а очень часто – и раздражения. Характер мой не был отполированным, похожим на биллиардный шар – теперь он портился на глазах, из всех углов торчали занозы. Вилла «Сеттана» превращалась в странноприимный дом марксистов, в некий дискуссионный клуб. Провинциальные златоусты запальчиво предъявляли права на истину, ведомую лишь им. Они мешали работать отцу и неутомимо его разоряли. Я то и дело переводил очередные суммы на «Искру», то тлевшую, то вновь разгоравшуюся. При этом я скрежетал от злости и мысленно посылал проклятья всей этой беспардонной своре.








