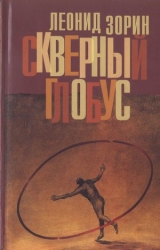
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Не сразу услышал он голоса, которые раздавались снаружи. Нестор беседовал с Поликсеной. Сизов не спеша подошел к окну, застыл и увидел, как Поликсена небрежно взлохматила голову Нестору. Потом осведомилась, зевнув:
– А где же Сизов?
– Наполняет фляжку, – откликнулся Нестор.
Она вздохнула:
– Опять? Только этого не хватало.
– Тоскует.
– Не все же такие, как ты.
Нестор спросил:
– А чем же я плох?
– Тем, что ты слишком хорош, мой милый. Слишком воспитан и деликатен. Слишком легко от меня отступился.
– Этого ты не можешь знать, – меланхолично заметил Нестор. – Я попросту сохранял лицо.
– Ну да, разумеется, разумеется, на всех поворотах, при всех обстоятельствах главное – не потерять лица. Чем нынешние умней Менелая? Важнее лицо сохранить, чем любовь, – сказала она со смутной улыбкой. – Так муж мой тоскует? Такая тоска наносит мне большую обиду.
– Он мне не нравится, Поликсена, – проговорил озабоченно Нестор. – Как бы наш друг не наделал глупостей.
Она нахмурилась и сказала:
– Возможно, он их уже наделал. Тоскует? Можешь сказать ясней?
– Могу. Но давай отойдем от дома. У дома есть стены, у стен есть уши.
6
Он вспомнил свои молодые ночи, когда так сладко изнемогал в умелых объятиях Поликсены. И грустно покачал головой. Даже тогда, в ночном исступлении, не покидала несносная мысль, давняя, жгучая, неотвязная, что там, за поворотом волны, грохочет неведомая Вселенная.
И это – Вселенная улыбается, когда он встает на заре с постели, она подает по ночам сигнал желтым бесшумным звездопадом. И что же подсказывает ему небо? Все то же – что время его уходит. Что ночь за ночью и день за днем оно стремительно убывает.
Так длилось, пока в одну из ночей не сел он в лодчонку и не уплыл. А после настала другая жизнь. Сперва он познавал этот мир, потом он его преобразовывал. И только спустя уже много лет смекнул, что не сумел ни узнать его, ни изменить его, как хотел.
От этих раздумий его отвлек женский нетерпеливый голос:
– Сизов! Ты дома?
– Где же мне быть? Ты, Поликсена? – спросил Сизов.
И вышел, отхлебывая из фляги.
– Знаешь, чего не прощает женщина? – спросила Зоя. – Надо бы знать. Когда ее, бедную, называют именем, принадлежащим не ей. Быстро же ты забыл мой голос. Хватило и двух десятилетий.
Он вынужден был себе признаться, что это сопрано первой любви не пробудило в его душе ни ностальгии, ни умиления – пусть даже достаточно литературных.
Не то что голос его жены, голос неверной порочной женщины, из-за которой он много мучился, много бесчинствовал и безумствовал. Ее-то неторопливый голос рождал в Сизове мгновенный отзвук, даже сейчас, двадцать лет спустя. «Странно устроен человек», – невесело думал он о себе.
Он виновато ухмыльнулся:
– Прости меня, Зоя. Я под хмельком.
И положил на ее плечо руку.
– Да, это твоя рука, Сизов. Твоя. Я сразу ее узнала.
Эти слова его напугали. А еще больше – тот вес и напор, которыми они были нагружены. Он постарался свести разговор к непритязательному обмену легкими безопасными шуточками.
– Стыдно. Я не узнал твой голос, ты же – узнала мою ладонь. Каким манером?
– По когтю льва. Как римляне.
– Ты еще помнишь римлян? Латынь из моды вышла ныне. – Он все еще пытался пошучивать.
– У нас она из моды не вышла, – сказала Зоя почти угрожающе. – Это второй язык античности. Нет, не убирай свою руку. Мне нравится ее ощущать. Когда-то ты не был таким трусливым.
– Я вовсе не боюсь тебя, Зоя.
– Тогда припомни, как говорил мне, что имя мое означает жизнь.
Сизову стало не по себе. Досадуя на свою опаску, он сухо ответил:
– Да. В переводе. По-нашему Зоя – это жизнь. Но я давно ничего не помню.
– Ты хочешь обидеть меня, Сизов? – Сопрано первой любви посуровело.
– Я не хочу тебя обидеть. Я просто давно уехал с Итаки и подзабыл, как тут разговаривают.
Она усмехнулась и сказала:
– Теперь ты хочешь обидеть Итаку. Этого тоже не стоит делать. Лишь на Итаке могла я выжить, когда ты предпочел Поликсену.
– А я-то поверил, что в самом деле здесь незлопамятны и неревнивы.
– А так и есть, – подтвердила Зоя. – Лишь на Итаке возможна дружба между твоей женой и мною. О ревности, конечно, нет речи. Однако никто не запретит мне сравнивать себя с Поликсеной. Вот я и сравниваю, дружок. Мечтаю понять – в чем ее преимущества? В том, как она колышет бедрышками? В этой ленце? В особой грации, с которой она разводит ножки? Длинные, длинные!..
– Бедняжка, – сочувственно проговорил Сизов.
– Нет уж, избавь от великодушия. – Глаза ее совсем потемнели. – Я долго занималась сравнением. Потом поняла, что я не хуже. Я еще помню, как ты желал меня. Как действовали на тебя моя тихость, моя белогрудость, босые ноги. Да у тебя голова мутилась! К несчастью, меж вами вдруг заискрило. Тебя замкнуло и коротнуло. Несчастный случай, вот что обидно. Однажды Нестор, твой заместитель, сказал мне: не трави свою душу. Те, кто приходят вторыми, – выигрывают. А первые – постоянно в проигрыше. Вторые имеют верные козыри – к ним не успели притерпеться. Каким ты был у нее по счету?
Сизов постарался возможно небрежней пожать плечами:
– Уже не помню. Однако не первым и не вторым.
– Вот видишь. Чертова потаскуха. – И Зоя неразборчиво выругалась. – Этим она тебя и взяла.
– Бедняжка, – еще раз вздохнул Сизов.
– Сказала тебе: не жалей меня. Я тебе – не вдова с Рязанщины. Я еще сведу с тобой счеты. Кем, по-твоему, я была в прошлой жизни?
– В прошлой жизни ты была человеком.
– Лечишь хамством? – не сразу спросила Зоя. – Даром это тебе не пройдет. Не удивляйся.
– За эти дни отвык удивляться, – сказал Сизов.
– Зря ты вернулся сюда, мой первый, – заботливо процедила Зоя. – И ты тут томишься – меня не обманешь, – и я не в себе.
– Могу уехать. Сделаю тебе доброе дело.
Она засмеялась:
– Да кто ж тебя выпустит? Чтоб ты привел сюда, в наш монастырь, чужих людей с чужим уставом?
– А ты помоги мне.
– Не помогу. – Она помотала головой.
– Ну и не надо, – сказал Сизов. – Я ведь пришел сюда не спросясь. Могу вот так, не спросясь, и отчалить. Ты бы обрадовалась?
Зоя помедлила. Потом кивнула:
– Пожалуй, что так. Противно смотреть на чужие ласки. И я сказала – устала сравнивать. Черт знает, до чего надоело. Сними с моего плеча свою граблю. Знаешь, ни к чему эти нежности. Тем более идет Поликсена. Она уже видела. С нее хватит. Хватит и с меня. С тебя – тоже.
7
Давным-давно, тогда ему было лет десять, не больше, Сизов проснулся среди густой итакийской ночи. И сразу же услышал два голоса, должно быть, они его и разбудили. Беседовали отец и мать. И говорили они о нем. Оказывается, приятель отца, в молодости моряк и гуляка, кичащийся простотой в обращении, сказал ему: «Приглядись к малышу. Очень жизнеопасный характер. Такие становятся самоубийцами». Мать плакала, отец утешал ее. А сам Сизов не спал до утра.
Он долго думал, что это значит. Какой в нем изъян, какой в нем вывих, что там подметил осипший оракул? Он колебался, не знал, сказать ли, что слышал этот ночной разговор. Сперва он твердо решил молчать, однако, когда он утром увидел красные материны глаза, он, неожиданно для себя, ткнулся лицом в ее грудь и буркнул: «Не слушай этого дурака. Я ничего с собой не сделаю». Мать заревела еще сильнее, отец же дал ему подзатыльника. Чтоб впредь он не слушал, дрянной мальчишка, о чем говорят родители ночью.
Но было поздно. И предсказание произвело не него впечатление. Возможно, тогда в нем и зародилась мысль оставить свой дом и остров.
Освобождение пришло с Поликсеной. А заодно – и преображенье. Он ли открыл себя самого, или она ему это внушила – с ней он себя ощутил мужчиной и человеком своей судьбы.
В своих скитаньях, в часы бессонниц, он распалял себя, вспоминал, как в равной мере его одурманивали и ее юность, и ее опытность, не слишком понятная в ее возрасте.
Теперь она была зрелой женщиной, хотя ее облик был все еще молод. Как все эти странные островитяне, выиграла свой спор со временем. Теперь искушенность ее и умелость были естественны и объяснимы, но он уже не был в такой зависимости, похоже, что и она унялась. Стала роднее, стала дороже, однако дурманная власть ослабла.
В их первую ночь после разлуки, когда он сжимал своими ногами ее почти невесомые ноги и чувствовал, как они холодны – лед, да и только! – он ощутил неясное дурное предвестие. С тех пор оно его не оставляло.
Она спросила его с усмешкой, все с той же, знакомой, кружащей голову:
– Что же ты на глазах у жены щупаешь члена Совета мудрейших?
Сизов неожиданно смутился:
– Ей, видно, взгрустнулось, вспомнилось старое.
– Добрый ты человек, Сизов. Сердце у тебя золотое. Не сомневайся. Она – в порядке. Недаром, как только пополнела, нырнула в общественную деятельность. Такая вот, муженек, сублимация. Все сублимируются. Каждый по-своему.
– Нестор тебя приучил посмеиваться. Главное – ничего всерьез. Все вы стараетесь мне внушить, что битва моя была бессмысленной. Но я воевал не на троянской, не за Елену, священную женщину.
– О да. За священную корову. За справедливую планету. Уж лучше бы ты сражался за женщину.
Он заглянул в ее глаза:
– Ты молода и хороша. Мне кажется, что ты моя дочь. Немудрено. Ты отдыхала, пока я обдирал свои руки, ворочал камни и делал время. У вас вершилась ваша Великая Гормональная Революция. И вы научились жить вне времени.
– Это не так, – сказала женщина. – История делалась на Итаке. Тебе это не приходило в голову? Сизов, настоящая история делается на периферии. Именно здесь у нее возникает та почва, что придает ей прочность. В ваших столицах история скачет. Актерствует. Теряет свой облик. Не разговаривает, а витийствует. А здесь она делает вечное дело и сохраняет свое величие. Беседует и с солнцем, и с морем. Вот так мы живем.
– Загробной жизнью, – неласково огрызнулся Сизов.
– Нашел чем пугать. – Она усмехнулась. – Разве не в мертвых твердеет время? Признайся мне, кто его герои? Но – честно. Мертвые или живые?
– Речь Нестора, я ее узнаю, – все больше мрачнея, сказал Сизов. – Его дрессированная философия, к которой он тебя приохотил в антрактах между вашими судорогами. Прошу не принять моих слов за ревность.
– Ну что ты, Сизов. Ты слишком занят своими обязанностями перед людьми, чтоб ревновать любимую женщину. Но разве ты кого-нибудь любишь? То, что ты любишь – или любил – борьбу свою, человечество, будущее, – это я знаю. Я – не о том.
Он глухо и тревожно сказал:
– Я очень люблю тебя, Поликсена. Поэтому я сюда вернулся.
Она спросила, понизив голос:
– Поэтому хочешь сбежать отсюда?
Он растерялся:
– С чего ты взяла?
– Я это чувствую. Своей кожей.
От злости он почти завопил:
– А то, как я весь исхожу от нежности, ты не почувствовала?
– В первую ночь, – сказала она с протяжным вздохом. – Ты меня трогательно голубил. Очень старался мне угодить. И вообще – ты очень старался. Был даже юношески неловок. Меня это тешило и волновало.
– Смешило, – подсказал ей Сизов.
– Если и так, то самую малость. Забота, смешанная со страстью, действует на нашу сестру. Я испытала то самое чувство, что в первые месяцы нашего брака. Я даже забыла, как оно сладко и как пронзительно, мой Сизиф.
– При чем тут Сизиф?
– А при том, что брак, длительный, многолетний брак, – тоже сизифова работа, – сказала назидательно женщина. – Мужчина не хочет с этим мириться.
Он был задет. И сказал с обидой:
– Можешь не продолжать. Я вижу, что сильно тебя разочаровал.
– Ничуть. Я не требовала подвигов. Солдаты – не лучшие любовники. Тем более солдаты свободы. Тем более воины за справедливость.
– Остановись, я сказал. Я понял.
– Ты ничего не понял, дружок. Я же говорю – ты старался. Ты любишь меня. Я это знаю. Поэтому ты хочешь слинять, мой любящий ненадежный муж.
– Я тебе этого не говорил, – сказал он поспешнее, чем нужно.
– Не обязательно говорить. Женщины ощущают, как кошки.
Он помолчал, потом вздохнул:
– Все это грустная история. Дело не в том, чего я хочу. Я рос отдельно от всех ровесников. С Нестором пробовал я сойтись, – как видишь, и тут ничего не вышло. Я должен был с детства дышать без опаски и думать не так, как мне предписано. Традицией, властью, общественным мнением. Я просто не мог от них зависеть. А это возможно не на Итаке. Нет, только на просторах Вселенной. Тот, кто привык не год и не два ставить на кон свою биографию, действовать, перемещаться в пространстве, просто не может греться на солнышке. Пусть и на итакийском, античном. Пусть на груди любимой женщины. На маленькой любимой груди.
– То ли дело – на сизифовом камне. – Она надменно скривила губы.
– Смеешься?
– Оплакиваю, Сизифушко, – сказала она. – Тебя и себя.
Он нерешительно спросил:
– Ты не уедешь со мной, Поликсена?
Она помотала головой:
– Нет, дурачок, я могу быть лишь здесь. Здесь, где я живу не старея. Когда ты сказал о цветущем Некрополе, ты даже не знал, как был ты прав.
Он будто напрягся:
– Откуда ты знаешь, что я так сказал?
Она засмеялась:
– От Нестора. От кого же еще?
Он помолчал. Потом признался:
– Я очень устал. И я заскучал. Поэтому я сюда вернулся. Но я тосковал по старой Итаке. По юности. По тебе, любимая. А на Итаке все изменилось. Решительно все. И здесь я – чужой.
– Мы всюду – чужие. С минуты рожденья, – сухо заметила Поликсена. – Потом к своей чужести привыкаем.
– Я не привыкну, – сказал Сизов.
Смотрели они друг на друга долго. Будто пытались прочесть друг друга. Затем она обреченно спросила:
– Так ты не устал таскать свой камень?
– Конечно устал. Я давно не юноша. Но что-то мешает мне его сбросить, – едва ли не простонал Сизов.
Она усмехнулась:
– Так это твой долг?
– Нет, это не долг. Совсем не долг. Долг сразу же стал бы мне ненавистен. Не долг. Но я должен его тащить. Не долг. Но мною распоряжается угрюмая непонятная сила. Если б я знал, как она зовется! Похоже, что я к ней приговорен.
Он никогда еще не видал ее такой печальной и всепонимающей.
– Слушай, несчастный. – Она вздохнула. – Видишь расщелину, прямо за статуей? Когда стемнеет, совсем стемнеет, войди в нее. Найдешь свою лодку. А в лодке – парус. На самом днище. Но перед этим приди обнять меня. Как обнимал в ту последнюю ночь пред тем, как уплыл на двадцать лет. Уплыл, не сказав мне о том ни слова.
…Он так и сделал. Во тьме непроглядной неслышно ушел от Поликсены, нашел расщелину, а в ней – лодку. С парусом, лежащим на днище.
И тут услышал знакомый голос:
– Похоже, сынок, дружок мой был прав. Ты все-таки склонен к самоубийству.
8
Он знал, что это произойдет. Это должно было произойти. Все эти дни было слишком душно, воздух достиг пугающей спертости, пахло предательством и засадой.
На каждом шагу он ждал удара. В спину. Заточенным ножом. По самую его рукоятку. Но только теперь, когда он стоял близ грозной статуи прародителя и видел неприступные лица, ему стало ясно, что дело плохо.
Они узнали о плане побега. И все же – откуда? И кто эти люди, соорудившие западню?
Неужто одна из этих двух женщин, которых он когда-то любил, которые сами его любили? А может быть, не одна, а обе? Если и впрямь это было так, то незачем жить на белом свете.
– Метафизическая минута, – сказал Пал Палыч. – Сказать по чести, еще не уверен, хватит ли сил, чтоб пережить это испытание. Вот она, истинная античность во всей своей Эсхиловой мощи! Чувствуешь, что и сам превращаешься в ее трагического героя. Недаром сказал тогда Аристотель, опередивший века Аристотель, что нету спора ожесточенней, нежели спор между своими. Воля судьбы сейчас поставила друг перед другом отца и сына – страшное дело, если подумать. Рок, господа, античный рок.
Сизов понимал, что надо молчать. Но злость была сильнее рассудка. И он сказал:
– Необязательно кивать на древнего мудреца, чтоб оправдать свое шпионство.
– Фу, как ты груб, – сказал Пал Палыч. – Вот уж солдатская ограниченность. При чем тут шпионство и прочие пакости? Есть интересы государства. Мы все – государственники, сынок. Я же тебя предупреждал: знаем, что надо, и знаем, как надо.
Зоя сказала:
– А кроме того, есть у нас компетентные люди, понаторевшие в своем деле.
Пал Палыч кивнул:
– Я говорил.
Сизов произнес:
– И ты – одна из них?
– Я не одна из них. Я из них – первая, – высокомерно сказала Зоя.
Пал Палыч проявил объективность:
– Согласен, однажды они прокололись и допустили тебя на остров. Но все мы учимся на ошибках. Ну да, ты был здесь под колпачком. Под легким невидимым колпачком. Они послеживали за тобою. И это – их прямая обязанность. Стало быть, нечего возмущаться. Ты очень виноват, Елисей.
– Да чем же, в конце концов, я виноват? – воскликнул Сизов, ощущая ярость. – Тем, что однажды я испугался выпасть из времени, как из поезда? Не захотел смотреть ему вслед и видеть, как куда-то уносится красный огонь хвостового вагона? Всегда найдется какой-нибудь малый со страстью к скитальчеству и дороге. Вспомните вашего Одиссея.
– Вот это уж никуда не годится, – сказал укоризненно Пал Палыч. – Делать из Одиссея бродягу! Против него была воля богов.
– И обстоятельств. Потом он прозрел, – веско сказал терапевт Чугунов.
– Он не прозрел, он смирился, – крикнул Сизов. – Укротил свое сердце.
Пал Палыч печально развел руками:
– Какой поверхностный взгляд на того, кто стал нашим всем. Стыдись, сыночек.
Сизов нисколько не устыдился. Как видно, закусил удила.
– Обожествили пройдоху и хвата, который сумел внушить противникам то, что дареному коню в зубы не смотрят.
– Был хитроумен, – признал Пал Палыч. – Тебе ли внове, что на войне как на войне? Был мудр, доблестен, богоравен. Не мог простить себе никогда, что вырвал Елену из рук партнера и что жена, его поджидая, должна была изображать ткачиху. Дабы сохранить свою семью. Не зря он проникся отвращением к тому, что ты называешь скитальчеством.
– Слишком ко многому он проникся своим божественным отвращением, – с горечью возразил Сизов. – Да, странники не нужны Итаке, но ей не нужны и странствия духа. И радость неподконтрольной мысли. И страсти. Ей нужен здоровый сон. Она полагает, что этот сон и есть обожаемая античность. А между тем там был Прометей. Не только боги – и богоборцы. А вы приписали ей пастораль и прописали анабиоз. Но даже если движение призрачно, не менее призрачен ваш покой. В конце концов, он не меньший миф.
– Но это хороший и добрый миф, – мягко возразил ему Нестор. – Приятней того, где голодная птица гложет печенку у арестанта.
– Очень сомнительная сласть, – поморщился менестрель Виталий.
– В детстве, – Сизов посмотрел на Нестора, – у нас была общая мечта. Познать белый свет. И ты ее высмеял.
– Я часто посмеиваюсь, не спорю, – с готовностью согласился Нестор. – Но только не над собственным детством. Итака сама – возвращение к детству. Я просто сумел в себе подавить нелепый комплекс провинциала, стремящегося завоевать этот мир, чтобы затем его изменить.
– Да, непоследовательное стремление, – авторитетно сказал Пал Палыч. – Ты непоследователен, мой мальчик. Не верится даже, что ты мой сын.
– И что из того? – спросил Сизов. – Однажды ты обронил свое семя, и я явился на эту землю. Но у меня – свой собственный путь. И суть своя. Тебе непонятная. Все узы вяжут. И узы родства.
Пал Палыч впервые утратил спокойствие. Он даже на миг повысил голос:
– Сукин ты сын, пусть извинит меня бедная покойная мать твоя. Он спрашивает: чем виноват? Звал тебя кто-нибудь, заманивал? Нет, ты явился по собственной воле. Явился в наш вечнозеленый сад, который мы выгородили из планеты. Плохо ли мы тебя здесь приветили? Все у тебя было в ажуре. Отец, влиятельный человек, этакий геронт – симпатяга с широкими толерантными взглядами. Заботливая подруга – жена. Вполне бескорыстный друг-приятель. Зоя, когда-то тобой обольщенная, ныне весьма достойная дама. Я уж не говорю о быте. Взамен от тебя одно лишь и требовалось: жить, соблюдая законы и правила, скромно возделывать свой огород. Не декодируя нашего острова, который ушел в свободное плавание.
Он перевел дух и продолжил:
– Но нет – для тебя это невыполнимо! Ты должен осчастливливать мир, олицетворять идею движения, а также совершенствовать сущее и обеспечивать наше будущее. Ты должен, чучело непотребное, с утра до ночи катать свой камень под звуки песни своей: «Эй, ухнем!» Тебе не лежится с женой на койке и не сидится на мягкой травке – шило в ногах и крапива в заднице! И все это преподносится людям под ложноклассические завывания. На общем фоне твоих метаний, претензий и мировой тоски. В толк не возьму, о чем ты думаешь.
– Я думаю, зачем я родился, – негромко отозвался Сизов.
– Поздно, – сказал его отец. – Ответишь по закону Итаки. Я изложил свой взгляд на предмет. Слово теперь за вами, доктор.
Главный терапевт помолчал. Откашлялся. Потом произнес:
– Сейчас он спросил: зачем родился? Чтоб не терзать себя вопросами, нужно отважиться на ответ. Сказать себе: «Это была ошибка. Я оказался нежизнеспособен». Итак. Многочтимые мною коллеги, частенько – то ли всерьез, то ли в шутку – почтительно звали меня всеведущим. Так вот – кабы знали вы, как утомительна, скучна мне и тягостна эта обязанность. Знать все заранее – что тут приятного?.. И в этот раз все-то мне было видно. Как на ладони. Я сразу же понял, чем кончится вся эта авантюра. Чего ожидал я, то и случилось. Но Высшая цель Итаки – покой. И стало быть, надо его успокоить.
– Креплюсь, но скорблю, – признался Пал Палыч. – Хотя мы здесь все – разумные люди, понаторевшие в своем деле, все мы соборно виноваты. За исключением терапевта. Асклепия нашего. Нашего Брута. Он помнил, что главное – не навредить. А мы смалодушничали и навредили. Что ж, в мир мы приходим, чтобы уйти. Однако – на новой ступени развития. Но это не каждому по зубам. Итак. Терапевт – за энтелехию. Ты знаешь, сынок, что она означает?
– Откуда мне знать? Я простой путешественник, – мрачно проговорил Сизов.
– Меж тем Аристотель сказал: энтелехия есть шаг от возможного к действительному, – торжественно произнес Пал Палыч. – Наше земное существование – всего только данная нам возможность. И данная – на короткое время. Что ж, Нестор, ждем твоего суждения.
– Ну что же, буду и я последователен, коль скоро это достоинство – высшее, – негромко сказал улыбчивый Нестор. – Мы люди спокойные, что нам дергаться? Итак. Сизов получил урок. Я убежден, что впредь он не станет как посягать на ход событий, так и оспаривать суть вещей.
– Привычные либеральные игры, – вздохнул укоризненно Чугунов. – Непобедимая безответственность.
– Хочу обосновать свое мнение, – продолжил Нестор. – Солдатское дело учит признанию поражения. Мой друг, как известно, солдат бывалый. Он знает, что надо уметь проигрывать. Он проиграл – с него довольно. Я призываю к великодушию.
– Нет, с гуманистами каши не сваришь, – угрюмо пробурчал Чугунов.
Пал Палыч призвал его к спокойствию…
– Отлично, Нестор, мы тебя поняли. Что скажешь, Виталий, на этот раз?
Виталий провел рукой по струнам:
– Нелегкое решенье для поэта. Но я не зря вошел в состав Совета.
– Виталий, переходи-ка на прозу, – невольно поморщился Пал Палыч. – Смири, дружочек, тягу к созвучию, заложенную в твоей натуре. У нас идет разговор серьезный.
Виталий вздохнул, отложил гитару. Всем своим видом он показал, что наступает на горло песне.
– Что ж, я, пожалуй, к Нестору примкну, – сказал он и сразу же спохватился: – Прости, председатель, ритм засасывает. Минутку. Позволь мне сменить регистр. Итак. Признавая вашу бесспорную и несомненную правоту и восхищаясь верностью принципам, а также интересам Итаки, я тем не менее делаю выбор, который для меня органичен. Ибо другой – суровый – выбор не оставляет места мелодии. Такой вот, коллеги мои, парадокс.
– Естественно. Труляляшки важней, – неодобрительно фыркнула Зоя.
– У каждого – свои труляляшки. Что делать, я собеседник муз. – Он виновато развел руками.
– Но ты еще и наш собеседник, – напомнил Пал Палыч. – Зоя, сестренка, однажды я смог тебя избавить от трудной необходимости выбора. Ибо щадил твое нежное сердце. Сегодня помочь тебе не могу. Я уж сказал, что грозная тень античного неумолимого рока нависла сегодня над нашим Советом. Вы видели нынче горе отца, отдавшего голос свой против сына. Теперь мы видим страдание женщины, которая вынуждена судить того, кому она отдала несорванный цветок непорочности. Тяжелое дело, но выхода нет. Брось, Зоя, хрупкую свою гирьку на чашу этих Весов Судьбы.
Зоя с достоинством сжала губы:
– Я и той ночью вас не просила об этом сомнительном снисхождении. Сегодня – тем более не прошу. – И, глядя в упор на Сизова, сказала: – Итак. Значит, все решает мой голос? На мне все сомкнулось и все сошлось? Ну что же, я буду на высоте. Я – дочь Итаки, и этим все сказано. Возможно, весь век я жила среди вас ради вот этого краткого мига. Сизов, ты должен быть успокоен.
– Женщина остается женщиной. – Нестор с досадой махнул рукой. – Всегда и во всем. Никогда и нигде ты ею быть не перестанешь.
– Надеюсь на это, – сказала Зоя. – Я женщина. Напрасно твой друг проигнорировал эту подробность.
Виталий сказал, взмахнув кудрями:
– Ты вовремя об этом напомнила. Членство твое в Совете мудрейших иной раз и впрямь сбивает с толку.
Зоя с достоинством возразила:
– Членство не отменяет женственности.
Пал Палыч обратился к Сизову:
– Ну что же, сынок, ты видел и слышал. Античность, возрожденная нами, сейчас разлита, как поток энергии в слоях итакийской атмосферы. Я должен произнести напутствие. Скажу его по праву отца. Причем – не только отца Сизова. По праву к тому же отца всей нации, которого вы облекли доверием.
Самое стойкое заблуждение, способное овладеть душой, твердит, что там хорошо, где нас нет. Поэтому ветхое и залатанное холщовое рубище морехода таит в себе жгучее искушение. Тем более – для юной души. Дети, сынок мой, на то и дети, чтоб их одолевали соблазны. Особенно – в переходном возрасте. Смотрят себе на Сизова и думают: не зря же он предпочел маету нашему миру и благодати.
Но мы-то помним, как некий прохвост, играя на своей чертовой дудке, увел детей из города Гаммельна. И не желаем, чтоб ты за собой увел неразумных детей Итаки. Мы знаем, каково им придется!
Есть искушение Сизова – на это бы можно закрыть глаза. Это его персональное дело, его персональная неприятность. Но есть искушение Сизовым, а это уже угроза, мой мальчик. Это опасность эпидемии.
…Сизов понимал, что должен найти единственно важные слова, способные переломить ситуацию. Он понимал, что грозит катастрофа, еще никогда, за годы скитаний, не сталкивался он с нею так близко. Прекрасная вожделенная родина, которую так часто он видел в своих сновиденьях, которую звал с такою томительной, сладкой болью, грозит пожрать своего поросенка. Но эти спасительные слова не приходили. Они иссякли. А те слова, что ему подсказывало его горячечное сознание, могли еще туже стянуть петлю. Были ненужными и бесполезными.
– Держись, приятель, – сказал Виталий, привычно перебирая струны, – в воде летейской наш ручеек еще далеко не самый худший.
Сизов поискал глазами Нестора. Нестор сочувственно улыбнулся и рассудительно произнес:
– Что делать, в конце концов, жизнь не бывает ни слишком длинной, ни слишком короткой – тут все зависит лишь от того, кто проживает эту жизнь.
Сизов еще раз взглянул на отца. Вот он каков, геронт-симпатяга, однажды родивший его на свет, который в своей почти жреческой службе этой великолепной Итаке, с ее языческой изоляцией и с вызывающе островной национальной ее идеей, готов отправить родного сына на это загадочное успокоение. Странное тяжкое безразличие внезапно сковало его уста, и неожиданно для себя он вымолвил:
– Делайте что хотите.
– Идем, Сизов, – сказал терапевт, – я провожу тебя в этот Дом, который не так давно мы открыли, – Дом Перехода и Приобщения. Твой уважаемый отец своею рукой разрезал ленточку. Отменный Дом. Никакой кустарщины. Пора тебе отдохнуть от лодки, от белого одинокого паруса, от камня Сизифа, от песни «Дубинушка». Следуй за мной, наш блудный сын.
«Где ж Поликсена? – подумал Сизов. – А впрочем, это уже не важно».
Он подивился тому, как бела и как прозрачна рука Чугунова, а заодно подивился тому, как неуместно его наблюдение. «О чем я думаю в этот миг, скорее всего – последний осмысленный…» Но удивление было недолгим. Он посмотрел в глаза Чугунову. Они отливали клеенчатым блеском.
– Идем, Сизов, – повторил терапевт. – Идем. Я разглажу твои морщины и уберу твою седину.
9
Так же, как в летний праздничный вечер, когда итакийцы встречали Сизова, длинная цепочка гостей выстроилась – затылок в затылок, – чтоб выразить искреннее участие Пал Палычу и Поликсене. Она стояла рядом со свекром – черный трагический платок обручем стягивал ее волосы.
– Мужайтесь. – Прочувствованно вздохнув, гость братски потряс руку Пал Палычу. – И вы мужайтесь, великая женщина.
– Мужайтесь, – сказал и другой итакиец. – Мы – с вами. Итака вами гордится.
– Вы, Нестор, держитесь по мере сил. Нетрудно представить, что вы испытываете. Друг детства, товарищ беспечных дней… Сегодня и к вам пришло испытание.
– Пал Палыч, дорогой председатель. Теряя сына, находишь друга.
– И что еще важней – гражданина.
Гостей поддержал терапевт Чугунов:
– Я убежден безоговорочно, что переход совершится плавно.
– Уверен, Поликсена, вы выдержите. И вы, и красота ваша – также.
– Все преходяще, – сказала женщина.
– И вы, дорогая Зоя, мужайтесь.
– Я это делаю как могу, – сказала Зоя проникновенно. – Другого, впрочем, не остается.
– Вы – дочь отечества. Вами гордятся. Вы – героическое существо.
Зоя с достоинством вздохнула:
– Итака не спрашивала меня, хочу ли я стать ее героиней. А я – лишь женщина, и не больше. Но наступает мгновенье истины…
– Да, драматическая ситуация, – сказал Виталий. – Но я в вас верю. И в Поликсену я тоже верю. Вы справитесь. Никаких сомнений.
– Благодарю вас, – сказала Зоя. – Признаюсь, смотрю на вас не без зависти. Пожалуй, и с некоторым восхищением. Умеете остаться в сторонке.
– Умею, сестра моя по Совету, – охотно согласился Виталий. – Искусство обязано быть объективным. Моя зависимость от гитары подсказывает мне диспозицию. «Однажды, вопреки эпохе, ее багровым облакам, послать сигнал: „Дела неплохи“ – и дать надежду простакам».
– Великодушно, – поморщилась Зоя.
Виталий благодушно продолжил:
– «А в дни торжеств, когда так пышно людские празднуют стада, прошелестеть почти неслышно: „Не торопитесь, господа“».
После чего он спросил заботливо:
– Ты что-то говоришь, Поликсена?
– Я повторяю другие строки, – негромко проговорила женщина. – «Чей голос вспомнишь ты сегодня? Чьих рук кольцо? Чьи губы жгут все безысходней твое лицо?» Я помню. И тоже сегодня спрашиваю.
– Спасибо тебе за мои стихи, – очень серьезно сказал Виталий. – В твоих устах они задышали.








