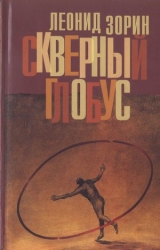
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
А если сейчас ее навестить? Нарушить запрет? Они близкие люди. С ее, почти запредельной чуткостью, она его поймет и простит. Почувствует, что он просто не может сам справиться со своей переполненностью. И тут прогремел дверной звонок. Неужто она? А кто же еще? Неведомо как, но она услышала.
Он кинулся к двери и, отворив ее, увидел перед собой Геннадия.
Геннадий сказал ему:
– Бить не буду.
– Добрый вечер, – откликнулся Жолудев.
– Не больно он добрый, – сказал Геннадий.
– Входите, – пригласил его Жолудев.
В комнате они сели за стол. Почти минута прошла в молчании. Геннадий заметно спал с лица, однако его мощный затылок по-прежнему был квадратен и красен. Лицо его было гладко выбрито. Разбойничьи цепкие глаза цвета каленого ореха смотрели пронзительно и грозно. Все тот же неиссякший кураж.
Он повторил:
– Бить не буду. Нет смысла.
И рассудительно пояснил:
– Только начни – не остановишься.
Немного помедлив, он сделал короткое неуловимое движение, вынул початую бутылку.
– Есть у тебя куда налить?
Жолудев достал два стакана и нерешительно произнес:
– Я, если правду сказать, не пью. Тем более я уж сегодня пригубил. («О господи, – подумал он горестно, – что я порю? Какой-то стыд».)
Добавил:
– Но если у вас есть желание…
– Есть, – энергично кивнул Геннадий. – Только не выкай. Мы теперь – родственники. Вера сказала, что ты ей тоже «вы» говоришь. На самом деле?
– Разумеется, – подтвердил Жолудев.
– Чудила, – угрюмо вздохнул Геннадий. – Ну, будем здоровы.
Неспешно выпили.
– Зла я на тебя не держу, – сказал Геннадий. – Я понимаю. Это мужчина может вытерпеть. А женщина – нет. Одна – засыхает. Закон природы. Но. – Он остерегающе поднял короткий палец, схожий с обрубком. – Что было – прошло. Было и не было. Это понятно?
– Это нормально, – сказал Жолудев.
– То-то. Теперь я пойду.
Он огляделся и усмехнулся:
– Жилье у тебя, как сучья будка. Надо прибирать за собой.
Когда за ним гулко хлопнула дверь, Жолудев глухо пробормотал:
– Ну вот и объяснились. Театр. Сразу и фарс и мелодрама. Выпить еще? Там вроде осталось. Да, это конец. Теперь – конец.
Он лег на тахту и закрыл глаза. Подумать только, он еще днем был возбужден, почти что весел. Господи праведный, что за мрак! Как унизительно и как горько заканчивается этот немыслимый день.
Так значит Геннадию все известно! Вот оно как – его любимая Вера сама исповедалась и повинилась. Вполне отвечает ее правдивости, девической душевной опрятности. Значит – отрезала. Навсегда.
Он вспомнил ее изумленный голос: «Ванечка, какой вы чудесный…». Только она могла так сказать. Только она могла такой быть – естественной, трогательной, простодушной. Смешно даже сравнивать с бывшей женой. То была женщина-цитата. Чужие слова, заемные страсти. И жесты, и вздохи, и монологи – все вычитано и взято из книжек. Она и ушла с какой-то противной ложноклассицистской надсадой. Только с его злосчастным характером вместо того, чтобы ликовать, можно было так долго барахтаться. Так медленно, тяжело отходить от состояния уязвленности.
«Ванечка, какой вы чудесный…» Было же! Встретился на дороге этот прозрачный и чистый родник. Так будь же за него благодарен. Счастье, оно потому и счастье, что коротко, не становится буднями.
Вот уже ночь. Но не спится, не спится. Только ворочаешься в постели. Чудится, что ты видишь въяве за этой стеной покорную Веру в неутомимых объятиях мужа. Хочется плакать, безудержно выть. Бесцельно, безутешно – как в детстве.
Ночь. Сквозь нависшую темноту с улицы пробивается свет, доносится равномерный гул. Это мерцает и дышит столица. Бессонный, неутихающий город, раскинувшийся во весь свой рост, словно вобравший в себя пространство и перемалывающий время.
Не зря в твою комнату проникает его негаснущее свечение. Напоминает: не расслабляйся, срок истекает с каждой минутой. Ты и опомниться не успеешь, как он истает, исчезнет, минет. И ты, подобно твоим предшественникам, смешаешь себя с землей Москвы.
7
«К вам обращаюсь я, братья и сестры, друзья мои, рядовые люди! Я, кровный ваш брат, один из вас, мечтаю быть услышанным вами. Однажды, когда настанет время, мы встретимся с вами лицом к лицу, и вы убедитесь, что мы с вами сделаны, изваяны из одного куска добротной отечественной глины. Нет смысла гадать сейчас, как я выгляжу, как мог бы выглядеть кто-то из нас, занявший это место в эфире. Взгляните в зеркало, вы увидите впечатавшиеся в ваш облик заботы. Поверьте, и на моих чертах такая же общая печать – мы сразу же узнали б друг друга. Я ощущаю вас каждой клеточкой и каждым бьющимся во мне нервом».
Лецкий загадочно улыбнулся, потом попытался насвистать некую бойкую песнь без слов, и, будто послушавшись оратора, внимательно оглядел себя в зеркале. Потом пробурчал:
– Нет, не похож.
Вышел на лестничную площадку, нажал звонок на знакомой двери.
– Входи, неутоленный Арман, – впустила его старуха Спасова. – Кофия захотел? Получишь.
– Очень обяжете.
– Присаживайся. Что скажешь, молодой человек?
– Какой я молодой? Издеваетесь?
– Не молодой, так молодежный. Твоя весовая категория. Струнка натянута и звенит.
– Все это до поры до времени, – сказал меланхолически Лецкий.
– Добьешься своего – погрузнеешь.
– Не знаю я, чего добиваться. Вот когда был молодой, то знал.
– Это мы думали так, что знаем, – устало пробасила старуха. – На самом деле – перемещались. По отведенному желобку.
Она наклонила черный кофейник носиком вниз и разлила по круглобоким уютным чашечкам пузырящийся волшебный напиток. Лецкий, не торопясь, отхлебнул и благодарно застонал:
– Боги мои! Так вот что значило старинное слово «упоительно»! Все точно – вы меня упоили. Ныне и присно – я ваш должник. Если дадите страшную клятву, что будете молчать на допросе, я расскажу вам, как спас человека.
– Считай, что клятва принесена.
Лецкий в подробностях изложил историю обольщения Жолудева.
– И ты решил, что спас человека? – недоуменно спросила старуха. – Скорее, ты его совратил.
– О, бога ради! – взмолился Лецкий. – Сейчас я услышу очередные релятивистские инвективы по поводу мирской суеты и политического болота. Жолудев эскапист от рождения. Это ничуть его не спасло. Он прозябал и расщеплялся. Он погибал с той самой минуты, когда законный муж его женщины вернулся домой из каземата. И, кстати, я не вчера вам сказал, что Жолудев обречен на гибель. Я никогда не ошибаюсь.
– Скромность – твое основное качество. Я поясню тебе свою мысль. Есть драматическое различие между тобой и бедным Жолудевым. Ты, как известно, провинциал, прибывший из своего Ангулема поставить на колени столицу. А Жолудев – это московский гриб в седьмом поколении, и Москва обкатывала эти семь поколений со всем своим материнским усердием. Иван Эдуардович – подосиновик. Умеет прислониться к стволу. Не больше. Он ждет, когда его выдернут и сварят из него суп на первое.
– Прекрасно. Оставьте его в бездействии, пока его не подадут на стол. Пусть он колотится лбом об стенку. Кстати, как раз за этой стенкой томится любимое существо. Княгинюшка, нет у вас милосердия.
Старуха авторитетно дымила.
– Прости, дружочек, я и запамятовала. Ведь Жолудев – твой рядовой человек, которого ты решил защитить. Но нет, он особое растение на севере диком. Ему бы слинять в несуществующий монастырь для уцелевших интеллигентов. Надо искать свое местечко. Евреи две тысячи лет храбрились: «Там, где наш дом, там наша жизнь». А все же отправились к Мертвому морю. Может, и выживут. Время покажет.
– Но Жолудев-то московский гриб. Сами сказали.
– А кто мой Антон? Мало ли среди нас неприкаянных? И ты у нас – русский. А норов – шляхетский. «Я никогда не ошибаюсь». Пан бардзо гонорист и категоричен. Недаром же Лецкий звучит, как Потоцкий.
Лецкий сказал с ностальгическим вздохом:
– Покойный мой отец был Алецкий. Я ликвидировал первую букву. Торчала, как какой-то артикль. Не то английский, не то абхазский. Я и подумал: скромней надо быть.
– Скромность твоя общеизвестна, – она кивнула. – И тем не менее. Не все так бескорыстны, как ты. Страна, разумеется, малость сбрендила. Похоже, что вскорости превратится в какое-то реалити-шоу. Как поглядишь, от хладных скал до пламенного города Сочи только и думает об одном: как заголиться, каким манером попасть на экран или в эфир. Раньше казалось, это тоска разных мятущихся недоносков – прыщавых мальчишек, несчастных девчонок, сходящих с ума от скуки, от бедности, от безнадеги и неприкаянности, мечтающих, чтоб люди узнали. Что есть и они на этой земле – не прах под ногами, не насекомые. Это бы можно еще понять. Однако же эта проказа шире – захватывает все этажи. Это, дружок, уже пандемия.
– И чем же вы ее объясняете? – хмуро осведомился Лецкий.
– А кто я, чтобы тебе объяснять? Живу я с тобой на Второй Песчаной, в том же подъезде. Квартиросъемщица. Иной раз, правда, смотрю в окошко, – она потушила сигарету. – Бывает короткий промежуток, можно даже сказать – пересменка, – одна эпоха сошла с арены, другая еще не родилась, вернее, еще не устоялась. И возникает неопределенность, которую можно принять за время с равными стартовыми возможностями. Длится оно недолгий срок. От нескольких дней до нескольких лет. Потом возрождаются власть имущие, вокруг прорастает сановный круг и доморощенная элита. Лица буржуйские, спины холуйские – есть на кого и на что посмотреть. Не зря же отдельные наши скромники все лезут в игольное ушко, с трудом урывают две-три минуты, чтоб выпить у злющей старухи кофе. Жизнь московская – странная жизнь. По-своему даже парадоксальная.
– Чем же?
– А хоть бы и тем, что стрекозы трудятся больше, чем муравьи. Не знают ни сна, ни передышки. Иначе им, бедняжкам, нельзя.
– Вы так полагаете? – буркнул Лецкий. Чем дольше он слушал, тем больше мрачнел.
– Сам знаешь. Эфемерная деятельность требует исполинских усилий. Но Жолудев из другого теста. Он для нее не приспособлен.
– Не убежден, – огрызнулся Лецкий, – хоть вы и княгинюшка, и Минерва. Я знаю, что наш сосед угасал, и я возродил его из праха. Награды за это я не требую, однако хулы не заслужил. Спасибо за божественный кофе. Я побежал исполнять обязанности, тянуть свою стрекозиную лямку.
Лецкий имел свои резоны. Жолудев, в самом деле, воспрял. Он то и дело возвращался к своей увеличившейся фонотеке и вслушивался в собственный голос. Фактически он впервые в жизни услышал его со стороны, как нечто от него отделившееся. Так вот каков он на самом деле! Поистине, не голос, а глас! Вот почему по воле судьбы он оказался в центре событий и должен сыграть в них немалую роль. Подумать только, если б не Лецкий, лукавый сосед, бес-соблазнитель, которого он недооценивал и даже находил легковесным, если бы не его вторжение в жолудевские опустевшие дни, он, Жолудев, так бы и жил, не догадываясь, какое сокровище в нем таится. А между тем этот странный бас и впрямь обладает какой-то магией, таинственной суггестивной силой. Способен увлечь и заворожить. Способен за собой повести. Сомнительно, чтобы он мог достаться тому рядовому человеку, к которому Жолудев обращается. Нет, он дарован миссионеру с неким особым предназначением.
Если бы Вера была с ним рядом! Если бы она разделила его вдохновение и окрыленность! Однако об этом нельзя и думать. Как верно сказал когда-то Чехов: «Насмешливое ты мое счастье».
Пока он раздумывал о событиях, так изменивших его судьбу, Лецкий прошествовал в офис партии. Там Коновязов созвал на встречу региональных энтузиастов. Их было немного – семеро доблестных, выделившихся среди остальных своей несомненной пассионарностью. Лецкий решил на них поглядеть.
Гости Москвы и Коновязова уже заполнили помещение, недавно полученное в аренду. К мощному письменному столу был прислонен еще один, длинный, стояли стулья и несколько кресел. Стену подпирал книжный шкаф. Были еще аккуратно прикноплены внушительная карта России и выразительный плакат – суровый немолодой простолюдин со строгим и требовательным взором, либо вещающий, либо зовущий. Похоже, что он и олицетворял народ, который обрел свой голос.
Прибывшие были не слишком юные и несколько зажатые люди. Коновязов познакомил их с Лецким, представил его как человека, отвечающего за связи с общественностью и доносящего до нее идеологию «Гласа народа». Лецкий смотрел на них изучающе, точно хотел понять: что за люди? Что их свело в коновязовском штабе? Периферийное честолюбие? Попытка иллюминировать будни? Непостижимый гражданский жар? Счастливая девственность сознания?
«Уж больно я крут, – укорил себя Лецкий. И тут же подумал: у двух или трех вполне интеллигентные лица. Неведомо почему он вспомнил того влажноглазого официанта, который обслуживал на Тверском. – Необъяснимая ассоциация», – подумал Лецкий, сердясь на себя.
Симпатию вызвала очень румяная, высокогрудая активистка, приехавшая из Волгограда. Она была трогательно серьезна.
Когда был объявлен перерыв, он тихо спросил у Коновязова, доволен ли тот своими соратниками. Маврикий Васильевич оживился.
– Отборные люди, – сказал он с нежностью, взглянув при этом на волгоградку. – Я просто испытываю потребность время от времени с ними видеться. Чувство, что ты приник к своей почве. Будто испил живой воды.
Он произнес это с неким вызовом, как, впрочем, едва ли не каждое слово, которое адресовал он Лецкому. И облик его за это время также разительно изменился. Он потемнел, отощал еще больше, к тому же с недавних пор отпустил козлиную остроконечную бороду – стал неприлично похож на фавна. И в поведении Коновязова, и в том, что он теперь говорил, и в интонации постоянно присутствовала все та же тема. Она обозначала обиду. Создатель движения был унижен, был незаслуженно оскорблен, стал жертвой интриги, задвинут в угол. Возвышенной и честной натуре давно уже и тесно и душно. Она оживает в российской провинции, где люди естественны и благородны.
– Могу вас понять, – согласился Лецкий. – Я искренне рад за вас и за них.
Прения вскоре возобновились. Все выступления были окрашены оптимистической убежденностью в неодолимом успехе партии. Голос ее, звучащий в эфире, вызвал у слушателей и отклик и интерес, укрепил надежды.
Когда настала очередь Лецкого, он сообщил, что ему приятно встретиться с истинными подвижниками. Есть еще люди – им в равной степени небезразлична судьба отечества и рядового человека, который и есть его цвет и совесть. Необходимо видеть и помнить, что партия «Глас народа» – не лидерская (при этих словах Коновязов поморщился, словно заныл занемогший зуб), в этом и есть ее отличие от группочек, созданных под карьеристов. Поэтому наше движение чисто, прекрасно и полноводно, как Волга (волжанка вспыхнула и потупилась). Вот здесь перед вами Маврикий Васильевич. Не фюрер, не вождь, такой же, как вы. Просто душа его больше стонет, и сердце его острей болит. (Маврикий Васильевич пригорюнился.) Однако когда пробьет час икс, он выйдет на авансцену истории и поведет за собой полки. (Здесь Коновязов слегка оживился и властно потрепал свою бороду.)
Встреча закончилась очень мажорно и к удовольствию всех участников. Лецкий подошел к волгоградке.
– Мне нужно задать вам пять-шесть вопросов, они меня изрядно тревожат, – сказал он с дружелюбной улыбкой. – Я должен развеять свои сомнения, чтоб сделать необходимые выводы.
Она сказала, что рада помочь.
– Куда же вы? – крикнул им вслед Коновязов. – Нам предстоит сейчас общий обед.
Лецкий печально махнул рукой.
– Работа, – сказал он. – Всегда работа. Вот так и пройдет вся твоя жизнь.
Он веско пообещал Коновязову, что не оставит гостью голодной.
Она оказалась отзывчивой женщиной, сказала, что верит в конечный успех, но, разумеется, прежде всего нужно создать гражданское общество. Это непросто. Тут надо думать не только о собственных интересах. Ходить за примером недалеко, семья, увы, не вполне разделяет ее естественное стремление помочь рядовому человеку. Но мужу придется посчитаться с тем, что жена себя обрела в этом нелегком, но важном деле.
Лецкий посочувствовал ей.
– Мужчины, по сути, эгоцентристы. Иной раз даже диву даешься. Каждый из них буквально уверен, что белый свет на нем клином сошелся. Невесело. Но вы уж держитесь. Все-таки вы наша крепость на Волге.
К вечеру перешли на «ты».
8
«Но есть ведь и те, кто спит и видит, чтоб вы усомнились в своих защитниках, кто хочет, чтоб рядовые люди однажды отвернулись от тех, кто в трудную пору стал их голосом. Не доставляет особой радости напомнить об этом, однако – приходится. Чтоб вы не угодили в ловушку.
Кто они, злобные доброхоты? Что общего у этих господ, всегда стремившихся оказаться среди преуспевших пенкоснимателей, у этих любимчиков фортуны и баловней несправедливой удачи, с теми, кому не услышать звона и не увидеть блеска наград, чьи лица не будут мелькать на экранах? Ответ очевиден и прост: ни-че-го. Давно уже вы – чужие друг другу».
Декабрь накрывает Москву рваной, в подтеках, беличьей шубой. Он прилипает к ее тротуарам коричневатой коростой наледи. Ветер становится жгучим и колким. Машины буксуют и горестно ищут кусочек свободного пространства. А пешеходы лишь прячут щеки за поднятыми воротниками, неловко переставляют ноги, скользят, подобно канатоходцам.
Однажды Иван Эдуардович Жолудев столкнулся близ дома с Верой Сергеевной. До этого дня ему не везло. Или везло? Сразу не скажешь. Встречи он и хотел и страшился. И вот – случилось. Судьба свела.
Сердце Ивана Эдуардовича точно проделало адский кульбит – подпрыгнуло вверх и упало в пропасть, рискуя превратиться в осколки. Как будто бы сквозь мутную пленку, он видел прямо перед собою прелестное дорогое лицо. Заметно осунувшееся, похудевшее, с землистым оттенком на впалых щеках. Волосы ее были спрятаны под теплым оренбургским платком, долгая стройная фигурка, которая так уютно сворачивалась в бережных жолудевских руках, скрывалась под грубоватой овчинкой.
– Как поживаете, Вера Сергеевна? Как самочувствие, настроение? – спросил он тихо и неуверенно, с трудом выталкивая слова.
Она проговорила:
– Спасибо… Так… день да ночь – и сутки прочь.
– Как вам работается?
– Все так же. Глаза боятся, а руки делают.
– А как ваш супруг? Все – честь по чести?
Она опустила глаза.
– Старается.
И неожиданно проговорила:
– Скажите еще чего-нибудь, Ванечка. Мне вашего голоса не хватает.
Он потерял самообладание, прижал к губам ее руку в варежке.
– Мне вас не хватает, Вера Сергеевна. Просто как воздуха – не хватает.
Она отняла торопливо руку и так же быстро пролепетала:
– Ступайте. Неровен час – увидят.
Иван Эдуардович проронил:
– Прощайте. И простите меня.
В подъезде вошел в кабину лифта, боясь увидеть в щербатом зеркале свое почерневшее лицо. С трудом нащупал ключом отверстие, с трудом повернул его раз-другой. Протиснулся боком в тесную, узкую, как горлышко бутылки, прихожую, вздохнув, стащил с головы ушанку, снял шарфик, не понимая, как выжить.
В это же время в квартире Лецкого раздался телефонный звонок. Хозяин неторопливо взял трубку.
– Вас слушают. И очень внимательно.
Раздался начальственный голос Гунина:
– Герман, я рад, что вас застал. Завидую свободным художникам.
– Я еще больше рад, Павел Глебович. Завидовать нечему. Куча забот.
– На завтрашний день вы их отложите. Будем вас ждать к четырем. Не опаздывайте.
– Не сомневайтесь. Я пунктуален.
Они попрощались. Лецкий задумался. Что означает этот вызов? Хотелось бы думать, сейчас звонил высокий государственный муж, а вовсе не муж Валентины Михайловны. Мне только этого не хватало. Очень возможно, мадам наследила.
Она позвонила спустя полчаса. Спросила его, как он себя чувствует. Он мрачно откликнулся:
– Превосходно.
Она уловила его интонацию.
– Ты что – не в духе?
– Наоборот. Ликую.
– Гунин тебе звонил?
– Звонил, звонил. Что там стряслось?
– Завтра Мордвинов у нас обедает. Ты же хотел свести знакомство. Он тоже не прочь на тебя взглянуть.
Лецкий призвал себя к порядку. Снова он дернулся прежде срока.
– Благодарю вас, моя дорогая. Не премину. Весьма обязан.
– Вот видишь. Я могу быть товарищем.
Он словно порхал по своей гарсоньерке – так ласково он ее называл – мерил привычную кубатуру почти танцующими шажками, что-то мурлыкал себе под нос. Только подумать, куда взобрался. Видели бы его воробьи, робкие, без вины виноватые, как машет крылышками их птенчик. Рано осиротел он, рано. Сначала некому было пожаловаться, сегодня не перед кем погордиться, хоть на часок распушить свой хвост. «Так и живешь в родной стране с самим собою наедине». Бодрящая песенка. Но иной раз от этого тайного диалога становится пугающе холодно.
И сразу же вспомнился южный город, в котором он вылупился на свет. В последнее время этот пейзаж все чаще возникал пред глазами. «Дурная примета», – подумал Лецкий. На днях оттуда к нему впорхнуло еще одно легкое напоминание – письмишко от юного земляка. Бедняжка поддерживает связь, боится, что ниточка оборвется, «тревожит», испытывает волнение, которое его адресат, похоже, ощущает сегодня.
Лецкому был знаком этот дом с громадным торжественным подъездом, с тремя ожидающими лифтами, с насупленным консьержем-охранником, должно быть, заслуженным отставником, изнемогающим от сознания своей государственной ответственности. Три раза Лецкий сюда являлся интервьюировать хозяина, весь напружинившийся, собравший в единый клубок свои органы чувств, с отрепетированной улыбкой. Был представлен Валентине Михайловне. Пил кофе – у Спасовой он вкуснее. Выслушивал гунинские суждения, потом шлифовал их, обстругивал фразы, обтачивал, вновь приходил, визировал. Эти беседы в печатном виде имели отзвук, и Павел Глебович остался доволен, благодарил. Не сделать ли книжку? Чуть поразмыслив, Гунин сказал: «Всему свой срок».
Они сидели в огромной комнате, обедали, иногда обменивались незначащими, короткими репликами. За длинным столом их было пятеро – Гунин с Валентиной Михайловной, Мордвинов и юное существо, пятым был взволнованный Лецкий.
Мордвинов оказался нестарым, лет сорока пяти, брюнетом с безукоризненно прочерченным стремительным боковым пробором, с карими замшевыми глазами, поблескивавшими из-под очков, с правильными чертами смуглого тщательно выбритого лица, с крохотной ямочкой на подбородке. Рядом с массивным и шумным Гуниным он выглядел несколько вестернизированным.
Внимание привлекала и спутница. Вдвое моложе Матвея Даниловича. Остроугольное лицо. Узкие руки, узкие губы, очень высокий и бледный лоб под черной башенкой. Легкая, гибкая. С бесстыдной гуттаперчевой талией. Нельзя сказать, что она красива, но есть нечто дьявольски притягательное. Лецкий уже был готов восхититься изысканным мордвиновским вкусом, когда он узнал, что его Нефертити не возлюбленная и не жена, а дочь. Это открытие его обрадовало. Чем именно, он и сам не понял. Ольга. Не Оленька и не Оля. Именно – Ольга. Серьезное дело.
В супе плавали равиоли с сыром, дополненные овощами и пастой. На несколько минут он отвлекся от увлекательных наблюдений. Но тут он услышал голос Мордвинова:
– А славный все же у вас переулочек. Тихий, уютный, вневременной. Похож на такую пушистую кошку.
– Свернулся и спит себе на боку, – добавила юная египтянка.
– Святая правда, – сказал хозяин. – На что уж замучили и достали все плакальщики по старой Москве и историческим клоповникам, а есть местечки, которых жаль.
– Я и сама такая плакальщица, – сказала Валентина Михайловна. – Вцепились в город, и нет спасения, оставили бы хоть малость на память.
– Время, родная, не остановишь, – заметил Гунин. – Оно, как видишь, не спрашивает у нас согласия. Шагает и делает свое дело.
– Остановить бы, – вздохнул Мордвинов.
«Тебя остановишь», – подумал Лецкий.
Он понимал, что нельзя откровенно разглядывать, как нечто диковинное, сидящего перед ним человека. И более того – неприлично. Но любопытство было сильнее. «Занятно, – подумал он уязвленно. – Сидит передо мной человек, в которого неизвестная сила вложила какую-то непомерную, полубезумную энергию, а глянешь на него – не поверишь, кажется, он готов заснуть. Едва-едва шевелит губами».
Он снова взглянул на него украдкой. Хороший рост, сидит, подобравшись. Строгий и неброский костюм, черный шерстяной свитерок. Встретишь на улице, не догадаешься, что это атомное ядро. «Он тот, кто не любит себя обнаруживать», – мелькнула уверенная догадка.
И вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. Ольга исследовала его своими игольчатыми глазенками. Лецкий с трудом подавил смущение. Почудилось, что он уличен в зазорном и недостойном поступке. «Отлично. Слушаю и повинуюсь, Ваше Высочество. С этой минуты буду смотреть на вас лишь одну».
Все больше нарастала досада и некая безотчетная злость, на сей раз – на самого себя.
Непостижимо. Хватило мгновения, может быть, даже меньше мгновения, ведь что такое пятнадцать лет в неисчислимом потоке времени? Но этой песчинки в океане, как видно, оказалось достаточно, чтобы возникла и протянулась астрономическая дистанция между тобой и этим очкариком, который сидит за столом напротив. Дочь, в сущности, ребенок, девчонка, но ты испытываешь почтительность, как будто перед тобой творение особого, высшего порядка, которому ведомо нечто такое, чего ты не знаешь и знать не можешь. С какой фантастической быстротой приобретается новый опыт и новое социальное чувство, и как они крепко овладевают твоим сокровенным, твоим естеством.
Вот так себя ощущали деды несколько десятилетий назад, шагая в первомайских колоннах, перед вождями на Мавзолее. Уже не могли не замечать их тупости, их невежества, свинства – но эти животные были сакральны, как были священны коровы в Индии. Еще не боги, уже не люди. Впрочем, не буду несправедливым. Той шайке далеко до Мордвинова. Вот этот им даст любую фору, черт знает сколько очков вперед.
Внесли второе – легкую стайку воздушных котлеток из лосося. Спасибо за ваше гостеприимство. Но я ведь пришел сюда не заправляться. Я все еще не произнес ни слова. Судьба наконец предоставила шанс, который может не повториться. Отлично же я его использую. Молчу, как Мордвинов. С той только разницей, что он помалкивает как сфинкс, а я как проштрафившийся мальчишка.
Кого он видит перед собой? Некий почтительно улыбающийся, набравший в рот воды господинчик, внимательно слушающий негромкие и сановитые голоса.
«Все верно, – неслышно шепнул себе Лецкий, – ничем не стесненная естественность возможна только на полюсах. Либо ты так несусветно богат, что нет уже дела до тех, кто маячит, стараясь попасть в твою орбиту, либо ты нищ, как последний бомж, – неважно уже ничье суждение. Либо ты выиграл все сражения, либо лежишь, как труп в пустыне, познав абсолютное поражение, такое, как тотальная старость – и в первом случае и во втором актерствовать не для кого и незачем.
Воистину, имеют значение лишь эти крайние состояния. Жизнь на ее высшем взлете или же на последнем пределе – там, где так близко исчезновение. Лишь на вершине или на дне становится бесповоротной их связь, является внутренняя свобода, что бы ни пели мне златоусты».
Меж тем сотрапезники заговорили об эффективности властных структур. У диктатуры, почившей в бозе, были и свои преимущества.
Гунин задумчиво выпил рюмочку и буркнул:
– Знание контингента.
– Система давала возможность расслабиться, – негромко сказал Матвей Данилович.
– А вам оно надо? – спросила хозяйка. – Засохли бы на третий же день.
Мордвинов холодно улыбнулся:
– Я не о себе говорю.
– Была одна шестая планеты, – медленно проговорил Павел Глебович. – И жили там больше трехсот миллионов. И весь табун скакал по команде. Как оседлали? Стоит понять.
– Тоже шарада, – сказала Гунина. – Сено да стойло, поводья да плетка.
– Поверхностно мыслишь, дорогуша, – угрюмо отозвался супруг. – На плетке и сене сто лет не продержишься.
– Вот оттого их гулянка и кончилась.
К немалому своему удивлению, Лецкий услышал собственный голос:
– Идеология многовекторна, многоохватна, но и конечна. Кончается все, Валентина Михайловна. Но жизнь свою господа товарищи, как ни крути, худо-бедно прожили.
Она скривилась, точно от боли.
Ольга спросила:
– Вам нездоровится?
Гунин осклабился:
– Потерпи. Это зуб мудрости разгулялся.
Жена раздраженно махнула рукой, сказала с неприкрытой досадой:
– Вас поскрести – вы все советские. Все – инвалиды двадцатого века.
Ольга одобрительно бросила:
– В яблочко, Валентина Михайловна. Вирус в них въелся со дня рождения.
– Для жен и дочек не существует авторитетов, – сказал Мордвинов. – Надо смириться. Что я и сделал.
«Вперед», – скомандовал себе Лецкий.
И произнес, точно бросился в омут:
– Думаю, Павел Глебович прав – самое время разобраться: что же они собой представляли? Смотрелись и впрямь не лучшим манером, только и разведешь руками – как удалось неприметным людям взобраться однажды до Мавзолея? По виду, действительно, зоопарк. Но вдруг они были, на самом деле, в том зоопарке сторожами? И тут был придуманный маскарад? В какой-то мере они себя делали глупей и разлапистей, чем они были.
Ольга презрительно проговорила:
– И на какой предмет?
– Полагаю, что это мера предосторожности, – весело откликнулся Лецкий. – В какой-то степени даже инстинкт. Им было важно, чтоб им поверили: мы – тех же кровей, не умнее вас, хоть и начальники, а свои. И, в сущности, оно так и было. Они решали – и не без успеха – больную проблему безопасности. В нашем отечестве верхотура столь же любима, сколь ненавидима.
Мордвинов покачал головой:
– Решали, да не больно решили.
– По собственной человеческой слабости, – Лецкий вздохнул. – Вдруг позабыли, что все понарошку и – занесло. Сами поверили в свой титанизм. Ты же угодлива, ты и завистлива, матушка Русь. Сложный характер. В такой дихотомии вся ее сласть. То это Разин, казак-ушкуйник, то пес хозяйский, верный Личарда. То это Пугачев, то Савельич. Всяко бывает. Не обольщайся. Надобно ухо держать востро. Не бронзовей. Будь начеку. Но говорится же: век, да наш! А Разин является раз в столетие.
– Хватит и раза, – хмыкнул Мордвинов.
– Бесспорно. Лучше не дожидаться. Поэтому рядовой человек должен иметь рупор и партию. Которая его направляет. Канализирует его страсти.
Матвей Данилович потянулся:
– Мыслите трезво. Это приятно. То, что не завели себе лидера, – тоже придумано не без перчика. Vox populi – vox dei. Так кажется?
Лецкий кивнул:
– Глас народа – глас божий.
Мордвинов сказал:
– Идея занятная. Но все-таки приходит минута – и нужно товар показать лицом. Нельзя лишь разогревать ожидания. Когда мы с вами играем в прятки, нужно иметь искомый предмет.
Лецкий согласился:
– Бесспорно.
Мордвинов так широко улыбнулся, что на мгновение даже исчезла ямочка на его подбородке.








