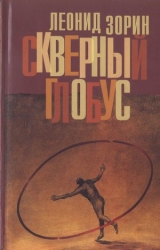
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Я возразил: что значит «едва ли»? Любая женщина, не забывшая, что она женщина, вправе рассчитывать на то, что глаза мои загорятся. Если Эдмонда всерьез полагает, что я в моем возрасте капитулировал, что вижу ее одну на свете, то это не более чем восхитительный, но неумеренный эгоцентризм. Впрочем, естественный и понятный в устах гонкуровского лауреата.
Мысленно я продолжил ответ. Женщина, и только она, может преобразить наш мир в солнечный луг в золотых цветах. Лишь раз я увидел его непридуманным и существующим в самом деле – то было в майский день под Аррасом, когда мы пошли в роковую атаку.
Но эта реальность не обессмыслила того, мальчишеского, видения, и каждая новая встреча с женщиной его ликующе воскрешала.
Так было и в Нейи с Керолайн, и с Саломеей, и с милой княгиней, которой я посвятил свою книгу. Не зря же я вспоминал ее профиль, валяясь с очередным ранением в легионерском лазарете. И не однажды так было в жизни, которой вдосталь выпало войн, кровопусканий, азарта, риска.
И все же Эдмонде не стоит хмуриться – она и стала, в конце концов, моей заминированной любовью, последней ставкой в последней войне, моей обреченной войне со временем, теперь, когда всякий мой день и час могут вдруг стать прыжком с обрыва.
Она уверяет меня, что в старости я стал похож на Андре Моруа. В ответ я пожимаю плечами: жаль, что не на его героев. Она усмехается: не завидуй. Твоя биография увлекательней, чем участь этих несчастных каторжников, прикованных к своему столу.
Не знаю. Не дерзну им сочувствовать. Когда-то Алексей мне сказал: чтоб сделать из своей жизни каторгу, ты просто обязан ее обожать.
Впрочем, а почему бы мне не походить на Андре Моруа? Мне попадались его портреты. Внешнее сходство неоспоримо. Ну что ж, если я, Зиновий Пешков, когда-то был Заломоном Свердловым, то этот непревзойденный стилист, прежде чем стать Андре Моруа, успел побывать Эмилем Эрзогом. И очень возможно, что нас с ним связывает не только наше внешнее сходство. Да, у нас разные сюжеты, и тем не менее, тем не менее… Он точно такой же бастард, как я. Ибо Зиновий Пешков – бастард. И что из того, что он академик, а я генерал? Мы оба бастарды. Кочующие дети Вселенной. Такими однажды мы были изваяны нашим жестоковыйным родом.
Эта навязчивая мысль сразу же заставила вспомнить другой многозначительный ужин – в самом начале октября. Я был приглашен на него моим Гизом, и за столом мы были вдвоем.
Сначала наш диалог брал разбег. Неторопливые мемории и элегические шутки. Я чувствовал, что мой президент нащупывает и тон и ритм. Он вспомнил, как много лет назад я пошутил («весьма изящно»), коснувшись своих арамейских корней: «Народ мой произошел от бедняги, которого собственный отец обрек на жертву». («Печальная шутка», – прокомментировал президент.)
Теперь, повторяя эти слова, он усмехнулся: «Так вы, мой друг, не пожелали наследовать бремя – быть обреченным на жертву Богу. Даже от рук своего отца». «И брата», – добавил я, вспомнив Якова.
Мы посмеялись. Но я уловил момент перехода лирической встречи в беседу патрона с его подчиненным.
Итак, его дьявольски тяготит этот тугой палестинский узел. Обычно в разговорах со мной он избегал иудейской темы. Однажды я мимоходом заметил, что тема эта весьма опасна – способна поссорить и старых друзей. Он поспешил со мной согласиться, и это слегка меня удивило – он никогда не торопился немедленно поддержать собеседника. Его авторитарный характер не позволял ему подхватить чье-то суждение безоговорочно. Такая мгновенная солидарность мне показалась не слишком естественной. Нисколько не желаю сказать, что Гиз был затронут известным недугом, однако новое государство было предметом его забот едва ли не со дня основания.
Мне долго казалось, что островок, вдруг всплывший в ближневосточном море, не может иметь прямого касательства к его идее величия Франции. «Grandeur» – это равенство с победителями, «Grandeur» – это бомба, которую он, не слушая протестов, взорвал. Но – крохотная точка на карте? Однако мало-помалу я понял, чем вызвано его раздражение.
Его героическое решение уйти из Алжира все еще жгло его и оставалось открытой раной. Бесспорно, в те нелегкие дни идея по имени «Grandeur» трагикомически накренилась. В любом квартале я видел надписи, сделанные мелком на стенах «Де Голль – предатель!» – их было множество. Вчерашние яростные сторонники по-своему отводили душу.
Его историческое оправдание (не перед ними – перед собой) было лишь в том, чтоб сохранить, а если сказать честней – возродить наше влиянье в арабском мире. Империи нет, но пусть еще теплится неутолимый имперский миф. Стало быть, необходимо занять точную взвешенную позицию в конфликте миллиардной конфессии со вновь образованным государством. К тому же понятно, в какую сторону меняется состав населения в самой метрополии, в Париже. Мне вспомнилось письмо Алексея, полученное лет сорок назад. Еще в ту пору мой зоркий отец писал, что «Европу атакуют люди, чуждые ее духу».
Гиз поделился со мной намерением послать меня в январе в Тель-Авив. Встретиться – но неофициально – с Эшколом и прежде всего с Даяном. Слово последнего станет решающим, когда израильские стратеги склонятся к тому, что день икс неизбежен. Меж тем такая угроза все ближе. Ошибка считать, что она локальна. Меч занесен над регионом, в котором практически сошлись все кровеносные артерии, жизненно важные для планеты. С этим и не хотят считаться мои вероятные собеседники. Как видно, библейская территория сильно способствует солипсизму. Гиз озабоченно проговорил: «Гордый и нетерпимый народ. Обе удачные кампании – в сорок восьмом, в пятьдесят шестом – просто им всем помутили головы». Он был уверен, что именно я сумею воздействовать на Даяна. Втолкую, что бывают периоды, когда разумнее, взвесив силы, не слишком упорствовать и дождаться другого расположения звезд. Это в их собственных интересах. Ведь ждали же две тысячи лет.
Неоспоримое наблюдение. Я постарался попасть ему в тон.
– Вы полагаете, что понимание возникнет в присутствии двух отсутствий?
Он вопросительно вскинул брови. Я пояснил свою сентенцию:
– У одного отсутствует глаз, а у другого – рука. Сближает.
Гиз рассмеялся:
– Искренне рад вновь убедиться, мой генерал, что вам не изменяет ваш юмор.
О, разумеется. Все как прежде. Я вспомнил, как двадцать семь лет назад мы с ним обедали у китайцев – можно сказать, неподалеку от зарождавшейся войны. Похоже, что та совместная трапеза предвосхитила мой приезд в Чунцин и весь мой дальнейший китайский опыт вплоть до недавней поездки в Тайбей.
Передо мною внезапно воскресла первая встреча моя с Чан Кайши. В ту пору звезды расположились прямо над его головой. Черчилль тогда обращался к миру: «Можем ли мы без волнения думать об этом герое и полководце, без восхищения произносить это блистательное имя?». Как оказалось, отлично можем. Не сомневайтесь. Realpolitik. Можем. Без всякого волнения. С той самой минуты, как этот герой расстался со своим муравейником. Realpolitik сурово исходит из высшей правоты муравейника. Иметь на своей стороне муравейник – это и есть Realpolitik.
Я занимался ею в избытке. В сущности, всю свою долгую жизнь. Когда не геройствовал, только и знал – свивать и сплетать ее паутины. Однако со временем все приедается – и подвиги на полях сражений и геополитический смрад.
Да, именно так. Именно смрад. И даже когда речь – о титанах. А Гиз относится к их числу. Ибо и самый большой характер привязан ко времени и обстоятельствам. И, будучи соотнесенным с историей, оказывается драматически мал. Все эти знаменитые люди, стоявшие у ее подножья, могут рассчитывать лишь на биографов. Назвал же однажды наш славный историк, почтенный Николай Полевой, Петра «чадолюбивым отцом». Чадолюбивый сыноубийца.
«Гордый и нетерпимый народ…»
Я не возразил президенту. Я попросту ощущал тоску. Но что я мог сказать человеку, с которым давно связал свою жизнь? Только вздохнуть, что таланты лидера, его сокрушительный ум и воля дались ему жестокой ценой. Кажется, мог бы себе шепнуть: бывает и понятная гордость. Хотя бы – своей литературой. Это не шутка – сработать Книгу, которую будут читать всегда. До нового Взрыва или Потопа. Кое-что надо иметь за душой.
Но – нетерпимый? Нет, мой генерал. В гостях не пестуют это свойство. Возможно, и следовало привыкнуть, что нетерпимостью называют твое нетерпение Блудного Сына, решившего вернуться домой. Возможно. Но и готовность свыкнуться, смириться, покориться истории, эпохе, судьбе и муравейнику однажды оказывается исчерпанной.
Я заглушил в себе эту отповедь. Ибо моя одиссея выкреста, вечного странника на земле, вряд ли давала законное право на сей неожиданный странный вскрик.
За долгие годы я научился помалкивать на всех языках. И много ли толку во всех аргументах? Однако де Голль, возможно, расслышал нечто непроизнесенное вслух. И неожиданно переменил тему нелегкого разговора.
Но я уже мысленно дал себе слово: от этой миссии – воздержусь. Я чувствовал направление ветра. Дым газовых печей оседает, и вновь выходит на авансцену не склонная к чувствам Realpolitik. И есть искусник Зиновий Пешков. Дипломатический Jack of all trades. Этакий мастер на все руки, хотя и всего с одной рукой. К тому же бывший единоверец. Но нет. На сей раз мой Гиз ошибся. Мне надоела Realpolitik и свойственная ей мнимая жизнь. Я вызубрил, что мораль смешна. Беспомощна. Во все времена несвоевременна и неуместна. И все же случается так, что звезды располагаются странным образом. И преграждают путь муравейнику.
26 ноября
– L’erruption! – сказал капитан. И засмеялся. Был вешний полдень.
Все чаще передо мной возникает улица Большая Покровка и комнаты с низкими потолками. Там мне впервые приснился луг в солнечных золотых цветах, и я уподобил ему тот путь, который мне нужно было осилить.
Пули настигли нас одновременно. Он умер после недолгих мучений. Мне предстояло жить полвека.
Rue Loriston в вечерних огнях всегда притягательна и загадочна. Даже под нудным парижским дождем.
Теперь, когда дни мои сочтены и стали видны мне на всем протяжении, я удивляюсь все больше и больше: странно, но мне-то в этом спектакле досталась абсурдистская роль – в духе новейшей драматургии. Так дорожить любой минутой, так остро чувствовать ее вкус, больше того, ее значение, и, вместе с тем, с такой безоглядностью жонглировать собственною судьбой. Единственным своим достоянием. Стеклянным сосудом. Свечой на ветру.
Эта ребяческая уверенность, что истина неразрывна с опасностью, сопровождала меня весь век, я был убежден, что этот кураж дарует ему и цену и смысл.
Скорей всего, это была ошибка. Но мне повезло. Я долго жил. Возможно – непозволительно долго.
Да, своевременная смерть такая же крупная удача, как своевременная жизнь. Якову повезло со смертью – не унеси его та «испанка», наверняка бы убил его Сталин. И было бы ожидание выстрела, была бы последняя ночь перед казнью, клики ликующего народа, приветствующие акт правосудия.
Но даже и без подобной расправы жизнь начинает звучать пародийно, когда запаздывает с финалом. Едешь в экспрессе, как экспонат для развлечения пассажиров. Дамы и господа, взгляните – тот самый склеротик, который забыл сойти на положенной ему станции, проехал пункт своего назначения. Куда же он едет? Да кто же знает?
И все же нельзя остаться в экспрессе.
Как немцы осенью восемнадцатого почувствовали, что армия выдохлась, что мощь изошла, ответить нечем, и неожиданно для врага, для мира, для собственного народа, вдруг объявили, что бой окончен, так человеческое бытие однажды трагически выдыхается и обесточивается, пар выходит, кровь обесцвечивается и свертывается.
Не зря же в этот промозглый вечер я думаю о своем начале, о том, что так уже далеко.
А значит, я думаю о России.
Там, на востоке от rue Loriston, дышит громадная, все выносящая, так и не понятая страна. В этой стране я однажды родился, в этой стране моя бедная дочь лучшие годы промаялась в лагере, в этой стране стоят два города. Один из них носит имя брата, другой из них носит имя отца, второго, но истинного отца. Он был, конечно же, умерщвлен, но этого так и не знают толком – имя его почти сакрально.
Мое же имя там неизвестно, и более того – под запретом, его не советуют вспоминать. Ибо оно бросает тень и на того и на другого. В России я никому не нужен.
Как ясно, с какою дрожью я вижу ее опустевшие деревни с их заколоченными домами, заледеневшие города, в которых зимой так рано темнеет, где столько молодых марафонцев в комнатах с низкими потолками гадают, куда зовет дорога – совсем как я на Большой Покровке.
А нужен я Франции, где так скоро меня торжественно погребут? Стала она мне матерью-родиной? Не знаю. Быть может. Но нет… не знаю.
Лежу на марокканском песке, от жгучей боли вопит и стонет моя простреленная нога. Неведомо почему я вижу знакомый луг в золотых цветах и тороплюсь пробежать этот луг. Я так еще молод, все впереди, со мной моя сумасшедшая удаль, и вера в себя, и обе руки. И ноги сильны, как две пружины, две туго сжавшиеся пружины, уже изготовившиеся к броску.
Я знаю, как все это будет выглядеть. Легионеры в белых кепи и ярко-алых эполетах несут, кто – гроб, кто – мои награды, они уместятся на трех подушках. Все тот же однообразный дождь словно сечет своими струйками кладбище Сент-Женевьев де Буа. Эдмонда, укрывшись под черным зонтом, следит за исчезновением гроба. Старое однорукое тело медленно скрывается в яме.
Никто не заметит моей усмешки. Все эти люди убеждены, что опускают в песок мой прах, глухие и незрячие кости. Но это не так. На самом деле я слышу призывные звуки горна, и гром оркестра, и гул салюта. Почти над моей головой пылают круглые звезды Эль-Крейдера, я вижу оливки Марракеша и всю мою крылатую жизнь, мой утренний луг в золотых цветах.
Я слышу опрятный баритон, произносящий с подчеркнутым трепетом: «Он посвятил свое мужество Франции. И справедливо, что в ее лоне это столь верное долгу сердце вкусит сегодня покой и мир».
Отменное галльское красноречие. Я слышу, но не могу ответить. Сказать им, что они заблуждаются – покой ко мне так и не снизойдет.
Но ритуал есть ритуал. Пусть совершается все, что должно. Франция хочет воздать все почести пришельцу, который стал ее сыном и отдал ей свою страсть, свое пламя, ветхозаветную волю к жизни. Пусть прогремят сначала выстрелы, потом – столь звучная Марсельеза. Оркестр взмоет под небеса, а Однорукий Великолепный сойдет в сырую французскую землю.
Затем живые продолжат жить. Эдмонда утрет алмазные слезы, их будет немного – такому вкусу всегда и во всем претят излишества. Не обернувшись, покинет кладбище. А я остаюсь, я гляжу ей вслед. Она уходит – прямая, строгая, черная шаль прикрывает голову, лебяжью шею и ту ложбинку, которой я касался губами. Ей предстоит писать свои книги и осчастливить своим талантом, своим изяществом, своей прелестью неведомого мне человека.
Живые продолжат жить. Бог в помощь. В юные годы я был уверен, что жизнь прежде всего приключение – она прекрасна своей опасностью. Сегодня я знаю – отвага мысли опаснее любой авантюры. Но я не боюсь и последствий мысли.
Если бы мой голос мог вырваться из глины, которой заткнули мне рот, из душной клетки, я бы сказал им: в этом своем последнем доме я, как и всюду, останусь гостем. Мне даже в нем не избыть своей чужести. Братство и общность не привились к этой невосприимчивой почве.
Все мы осуждены метаться в жестких тисках своих резерваций. Всем нам невыносимо тесно. Тесно – с мгновения зачатия.
Семени – в материнской плоти.
Племени – в родительской вере.
Времени – в отведенном пространстве.
А человечеству – на Земле.
Я знаю, как адски оно талантливо и как патетически неумно. Как озабочено только тем, чтоб поскорей себя уничтожить. Похоже, что глупость подобной мощи уже не совмещается с жизнью.
Прощай, Эдмонда, твоя фигурка все дальше и дальше, еще минута, еще полминуты, и ты оставишь кладбище Сент-Женевьев де Буа. Капли неспешно стекают с зонта и с черной шали, твои очертания теряют четкость – дождь размывает. Прощай, Эдмонда, мое дыханье. Есть только один непридуманный праздник – счастливая встреча мужчины и женщины. Все прочие – детские погремушки.
Равно как остальные фантомы. Не стоят и гривенника ни власть, ни звон удачи, ни шелест славы, ни уж тем более грязная похоть национального верховенства.
Я понял это быстрей ровесников. Они хотели от мира смысла, а я хотел от него отбиться. Им надо было переменить его, мне надо было с ним совладать. Они искали себе врагов, я находил своих спасительниц. Когда мы обнимали друг друга, я чувствовал, что прикасаюсь к истине.
Но мне еще выпал особый жребий. Мне было дано обрести отца. И он одарил меня всем, чем мог – судьбой, любовью, бессмертным именем. Я снова думаю об Алексее с его влюбленностью в этот шар, с верой в печатную машину и убежденностью – стоит прочесть несколько необходимых книжек, и глобус станет совсем иным. Наверно, прощаясь с людьми и веком, он сознавал, что это не так.
Но обрываю себя. Кто знает? А если в простодушии гения больше и мудрости и прозренья, чем в долгом историческом опыте?
И ныне, когда иссяк мой срок, сюжет завершен и время вышло, когда наконец настал мой час идти за тобою, тебе вослед, мне нужно, чтоб там, где ты есть, ты знал: на свете не было человека дороже, роднее и лучше тебя.
Я снова вижу твои глаза с их запредельной голубизною и слышу твой глуховатый голос: где ты, сынок?
Я здесь, Алексей.
16 октября 1884–27 ноября 1966.
2006–2007
Медный закат
Прощальный монолог
Алехандре Гутьеррес
1
Я редко включаю свой телевизор. Не из протеста – болят глаза. Особенно докучает правый. Слеза в глазнице не застревает – сползает медленно по щеке. Эту назойливую хворь врачи окрестили «сухим глазом». Названо, разумеется, точно, хотя я сразу же вспоминаю: долго считал, что сухость – броня. Нет. Оказалось – источник боли.
По той же причине я мало читаю. Иной раз подумаешь, хорошо бы перечитать любимые книги из сохраненной мемуаристики. Бунина. Или графа Витте. Может быть, цензора Никитенко. Но устаешь от любого шрифта. Жалко неизбежных усилий.
Разумней всего – послушать радио. Опытный дикторский голос укачивает. Быстро одолевает дремота.
Желания, в сущности, все – несбыточны. Самые скромные. Вот, например, пройтись по Тверской, летом, в сиреневый час заката. Невесело. Но надо смириться.
Хотелось бы побеседовать с сыном. Но сын далеко, внук очень занят – оба в счастливом периоде жизни, когда захлестывают дела.
Кроме того, ведь все уже сказано. Им это хорошо известно. Я благодарен своей жене за то, что она это понимает. Лучшее, что могу я сделать для близких и дорогих мне людей, – пореже напоминать о себе.
Иной раз зазвонит телефон. Снимаю трубку и улыбаюсь – рекламный отдел какой-то фирмы прельщает кухонным агрегатом. Я терпеливо благодарю: очень обязан, я обойдусь.
Что остается? Тревожить память. Однако я и тут замечаю случившиеся со мной перемены. Мои мемории, сколь ни странно, скорее чувственны, чем содержательны. Чаще всего воскрешаешь детство, но не события и не открытия. Пожалуй, запахи и цвета. И непонятные ощущения, порой исключающие друг друга. Одновременно – тепла и прохлады. Тепло, даже зной – от летнего полдня. Прохлада – от моря, лежащего рядом. Ведь это в его пятнистом чреве рождается терпкий и пряный ветер. Он дует в лицо и дует мне вслед – он словно окутывает меня прозрачной и невесомой тканью. Вот она есть, и вот ее нет – остался невнятный воздушный шелест.
Юг – это детство, даже младенчество. Тайная необоримая сила выбросила меня на свет, вдруг обдала закавказским жаром, дунула солью в лицо и спину, словно напутствовала: иди!
Север – это зенит моей молодости. Север – сиянье вечернего снега. И под ногами и над головой рассыпаны золотые пуговки. Надо спешить – в условленный час я должен быть в условленном месте. Посверкивающий покров мостовых скрипит под скользящими башмаками, морозец горячит мою кровь, вечер обещает удачу.
Я переполнен ожиданием. При этом – всегда. Я просыпаюсь в какой-то непостижимой уверенности: что-то должно произойти. Жизнь должна перемениться. Я неслучайно оставил Юг, живу этой странной качательной жизнью, в крошечной запроходной комнатенке, в этом обшарпанном старом доме, в шумной и нелепой квартире, напоминающей толкучку – без пауз мелькают соседские лица, доносятся нервные голоса, порой не скрывающие раздражения. Ждать чуда в этакой декорации?
Но в январе темнеет мгновенно. Сумерки наступают сразу же, и зажигаются фонари. Они покрывают снег позолотой. Совсем уже скоро придет мое время. И все же я его тороплю.
Оно готово ускорить шаг. И четверть века проходят с той осени, когда я решился и стал москвичом. Проходят с неправдоподобной стремительностью.
В семьдесят четвертом году, в январские дни, живу под Москвой, в ветхом домишке с ветхими стенами. По вечерам выхожу на крыльцо. Трухлявое дерево потрескивает, вспыхивают сельские лампы, и снег начинает привычно блестеть. Но прежняя дрожь не пробирает.
Ждать, когда нет оснований ждать, ждать вопреки любой очевидности, ничуть не считаясь со здравым смыслом, – наша наследственная болезнь. Но в этом году, через десять месяцев, мне минет – о, Господи, – пятьдесят и я пересеку полстолетия. Жизнь давно уже обрела русло, течение, берега, и ждать перемен, на самом деле, – непозволительное ребячество. Да и нужны ли они? Не знаю.
Смотрю на небо цвета смолы, на плотно вбитые желтые гвозди и говорю себе: остановись, нечего выпячивать грудь, бодро топорщиться и бодаться. Что жизнь могла тебе дать, то она дала. Спасибо.
Как все, что со мною происходило, это прощание, разумеется, было и ранним и преждевременным. Но уж таков был и крой, и норов. И сам я с рожденья был ранний овощ. А молодость была слишком близкой, поди примирись, что ее со мной нет.
Теперь-то мне уже стало ясно – в ту пору она еще не изошла, еще колотилась в ребра под сердцем. Поэтому так горько и тяжко давалось прощание, так обидно осознавалась другая реальность, и больно было менять свою кожу.
Вокруг было тихо, настолько тихо, что слышно было, как приближается уже почти созревшая ночь. Сначала я ее уподобил хищному и опасному зверю – переступая когтистыми лапами, крадется он за своею добычей, которая от него в двух шагах. Потом я догадывался: отныне каждая ночь будет трудной и долгой, будет казаться не то преддверием, не то репетицией неизбежности. И нужно немедленно что-то сделать, чтобы избавиться от наваждения.
Я уже знал секрет спасения – надо, как в реку, нырнуть в работу. Всякое подобие праздности, необходимая передышка, сладкое безделье поэта, которое так ценил Ходасевич, были губительны для меня. Завтра, с утра, упереться в столешницу, не думать ни о грозящей дате, ни о делах, ни о Москве, где бьется четвертый год Ефремов за право поставить «Медную бабушку» – забыть обо всем и начать трудиться, нанизывать строку за строкой.
О чем же я буду писать? Да о том же. О чем лишь и думаю все эти дни и в этот вечер, когда я мерзну на склизком крыльце, уставясь в небо. Если я так нелепо устроен, что нынче, почти за год до пятидесяти, так люто тоскую о Костике Ромине, о днях его свежести, значит, мне важно почувствовать их вновь под рукою, хотя бы воспрявшими на бумаге. Кто-нибудь только пожмет плечами: какая поспешная ностальгия! Дело его, мое же дело – перенестись на Петровский бульвар.
Именно там я поселился в этой запроходной комнатенке, в грязной, захламленной квартире, заполненной странными людьми.
Казалось, попавшие в мощный смерч, они исхитрились, они увернулись, сумели неведомо как зацепиться за шаткую неверную твердь и вот очутились под этой крышей, отряхиваются и чистят перышки.
Они привыкли сосуществовать, едва соприкасаясь друг с другом. И что могло связывать между собой двух рафинированных знатоков французской словесности, торгаша, почти не размыкавшего губ, пенсионерку, косого монтера, рыхлую даму, в прошлом певицу, ее любовника-гастролера, который выступал с фельетонами, ремонтника из какой-то артели и пучеглазого фармацевта. Каждый барахтался в меру возможностей, однако же без больших достижений, запущенные, полупустые комнаты уже не скрывали их поражения.
Но для меня, для Костика Ромина, все эти люди были счастливцами, ибо обладали пропиской, были законными москвичами. И я, проживший в этом аквариуме четыре года, смотрел на них с завистью. Ведь, в сущности, я был нелегалом.
Но я до дрожи любил Москву, я знал, что всюду и даже там, на родине, где море певуче, где ветер крылат, а воздух молод, я буду жить бесплодно и пусто, я знал, что лишь здесь найду свое место.
Теперь, в этом семьдесят четвертом, спустя столько лет, в январскую смуту, я ощутил, что настало время писать о свидании со столицей и вновь погрузиться в тот сладкий омут. Пожалуй, единственная возможность вернуть хоть подобие равновесия.
Но – не затем, чтоб пролить слезу над упованьями и надеждами. К началу последней четверти века я кое-что понял в его эстетике. Я чувствовал: в современной истории печаль уместнее запаковать в смешную и озорную обертку.
Реальность давно уже стала трагедией, искусство востребовало улыбку. Вполне естественная реакция на Хиросиму и на Освенцим, на обе мировые войны и на гражданские междоусобицы со столь обильными кровопусканиями. Если желаете выжить, смейтесь.
Видимо, лишь при этом условии грусть твоя будет воспринятой залом. Ты должен надежно ее припрятать, подобно тому, как намерен скрыть фамилии своих персонажей и настоящие адреса. Петровского бульвара не будет, будут Покровские Ворота. И сам я спрячусь за Костиком Роминым, еще, по сути, не сознавая, что завожу себе двойника на всю оставшуюся дорогу.
И утром следующего дня, оглядывая письменный стол как поле будущего сражения, я ощутил, что темная туча, висевшая надо мной, бледнеет и некая саднящая вздыбленность вдруг оседает, дает дышать. Я вновь убедился, что всякая праздность – не для меня, мне следует помнить, что я не вполне живой человек. Я – фабрика, производящая текст.
Однако понять – не значит сделать. В работу я втягивался непросто, привычно точила все та же мысль: «Да, разумеется, разумеется, литература – это память. Даже когда немотствует мысль, уставшая от своей бессонницы, истово вспоминает кожа. Это она несет сквозь время неуходящее чувство юга – облако раскаленного воздуха, дующий с моря прибрежный ветер. Все это так. И все же, все же… Неужто та, настоящая жизнь, та, неподдельная и беспримесная, когда тебе некогда оглянуться и каждая следующая минута полна значения, изошла? И чтобы вновь испытать ее вкус, мне нужно оживить эти тени?»
Сегодня, спустя три десятка лет, я понимаю, как был еще молод. То состояние непокоя и вечная неудовлетворенность, которые я принимал как должное, были всего лишь моим нетерпением, не оставлявшим меня с младенчества. В зрелую пору я это понял.
Но в те непонятные смутные дни не сразу задышала бумага. И надо было дождаться срока, когда, как под рукою настройщика, натягивается дрожащая струнка и вдруг пробивается верный звук. Доверься ему, и он тебя выведет.
А дальше, как это уже бывало, настала радостная страда, густая урожайная спелость. Пробуешь слово на вкус и счастлив, что нет оскомины – то, что нужно. Вгоняешь в строку, и оно естественно – прочно и плотно – входит в паз. Однажды сами собой распутываются тугие сюжетные узелки и отпадают ненужные сцены. И сам ты становишься тем, кем был – инопланетным смешным южанином в морозном северном мегаполисе, не гнут к земле ни бездомность, ни бедность, и жизнь по-прежнему представляется занятной захватывающей игрой. Не бойся взглянуть в лицо удаче, а бойся, что с нею легко разминуться.
Я уже знал, как меня тревожит магия недолгого утра. Всем нам дарованы несколько лет острого ощущения жизни. Словно мы смотримся в некое зеркало, которое балует отраженьем – чудимся сами себе и лучше и привлекательней, чем на деле. Счастливы ожиданием счастья, и потому-то оно становится нашим естественным состоянием. Не зря же свою первую пьесу, в сущности, детскую и беспомощную, назвал я «Молодостью» – знай наших! Не зря же молодой человек всегда был любимым моим героем. Само это сочетание слов исполнено колдовской притягательности. И вот на пороге полустолетия я будто хочу себя воскресить, вернуть его простодушную веру, что завтрашний день неизменно лучше.
Сегодня я развожу руками. Подумать, еще несколько дней, и Костику Ромину предстоит очередная годовщина. Перо сопротивляется пальцам, не хочет вывести на листе, каким окажется новый возраст. Какой-то неодолимый ступор. Я так свободно произношу страшную, неподъемную цифру, в которой заключены мои годы, но стоит заговорить о Костике – и мне тяжело ее повторить. Он будто приговорен к своей юности, хотя мы и прожили с ним бок о бок немыслимый срок, и он без раздумий переходил, как из комнаты в комнату, из сочинения в сочинение.
Когда я впервые дал ему имя, мы были едины и нераздельны. Да я и придумал ему эту кличку, чтобы укрыть за ней наше родство. Потом я дважды его убивал. Настолько разошлись наши жизни, что сознавать это стало пыткой. Но скоро увидел и убедился, что воля автора не всесильна и покушения удались мне лишь на бумаге – он уцелел. Что нас разъять уже невозможно и нам суждено погибнуть вместе – уйдем в одну и ту же минуту.
Мне стало ясно, что слишком рано сыграл я фаустову игру и слишком рано я пожелал остановить, удержать мгновение. Теперь-то я понял, что полстолетия еще не вечер – тогда, в Подмосковье, в подгнившем и заснеженном доме, молодость во мне еще билась и все еще подавала свой голос. Поэтому Костик легко явился, я попросту его разбудил.
В конце короткого февраля, невнятного, поспешного месяца, как будто разорванного на две части – на еще зимнюю, вьюжную, злую и на другую – ветер пронзителен, но в нем предвестие перемены, – в конце февраля я ехал в Москву с теплой охапкой густо исписанных, мятых, исчерканных страничек. Думал-гадал, как сложится жизнь моей новорожденной комедии, искал обнадеживающих примет в том, что дорога приветно поблескивает в этом скупом негреющем солнце, послушно стелется под колесами с налипшим снегом, послушно поскрипывает, похрустывает непрочным ледком, что есть в меняющейся погоде нечто веселое, юное, роминское, вот уже станция, издалека доносится стук моей электрички.
В Москве я с усилием применился к иному нетерпеливому ритму – в беззвучном подмосковном скиту успел перейти на медленный шаг. Почти мгновенно сложилась судьба моей ностальгической элегии. Зажегся Михаил Козаков – он приближался к сорокалетию и ощущал себя созревшим для режиссерского дебюта. Казалось бы, можно остановиться, передохнуть и спокойно ждать, когда наполнится твой колодец.








