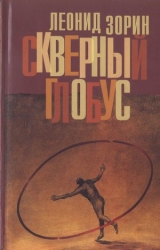
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
– Смеешься?
– Мне совсем не до смеха, – печально сказала Поликсена. – Над тем, кто остался один, не смеются.
– Я никогда не бываю один, – горько проговорил Сизов. – Я ведь живу с самим собою. Кабы ты только могла представить, сколь это неприятный субъект и до чего же он изнурителен. И я устал от него, устал, смертельно устал от его нетерпенья, претензий и приступов меланхолии. Трудно с ним жить и не надорваться.
– Мог жить со мною, – сказала женщина.
– Все шутки шутишь, – сказал Сизов. – Боишься, что, коли будешь серьезна, я разгадаю твою загадку.
– Загадки – это игра подростков, – вздохнула она. – Все дело – в тайне. Она заповедана, дорогой. Скажи, кто стирал тебе носки?
– Сам и стирал, – пробурчал Сизов.
– Сам бы ты никогда не собрался. Какие-нибудь шлюхи стирали.
– Мы – на Итаке. Здесь не ревнуют, – усмешливо напомнил Сизов.
– Стану я ревновать к поблядушкам.
– Лучше скажи, каким манером отваживала ты претендентов? Пряжу ткала?
– Мое ноу-хау.
– С помощью Нестора? – проворчал он. – Преданный друг, ничего не скажешь.
Она сочувственно произнесла:
– Трудно придется тебе на Итаке. Здесь, на Итаке, чужих не любят.
– Я не чужой, – сказал Сизов. – Я возвратился к себе на родину.
– Тем более, – сказала она. – Тем более. Тем страшней. Тем опасней. На родине все теперь по-другому. Боюсь я за тебя, дурачок.
– Послушай, – сказал он. – Я сделал открытие. Я помню запах своей жены. Что пахнет слаще тебя, любимая? И нет ничего вкусней, любимая, пальчиков твоих ног, любимая, спрятавшихся в моей горсти.
– Зачем ты уехал? – спросила она.
– Был молод, был молод, – сказал Сизов, с трудом выталкивая слова. – Я был убежден, что скоро вернусь. Просто понюхаю не островного, а настоящего грозного мира и возвращусь. Зато разгадав, что он такое, в чем его сила. Не знал, что такая там вязкая жизнь. И что она тебя так засасывает. Что каждое утро нужно доказывать себе самому, что ты не сдался. Что люди тебя не обтесали. Что ты нисколько не изменился. Такой же рубака и путешественник.
И тут он заговорил свободней. Слова уже обгоняли друг дружку.
– Я очень любил тебя, Поликсена. Какое там «очень» – жалкое слово. Пустышка. Оно ничего не значит. Я так любил тебя, Поликсена, что перехватывало дыханье. Но был я на редкость глупо изваян – мне все хотелось тебя удивить. Внушить, что твой муж – не то, что другие. Я вбил себе в голову: если вернусь, это покажется капитуляцией. И прежде всего тебе, Поликсена. Окинешь своим презрительным взглядом и выдавишь: ну? Приполз, неумеха? Вот так ты хлестнешь меня вопросцем – я ощущал на щеке пятно, выступившее после удара.
А я любил тебя, Поликсена. И с кем бы ни сравнивал, видел: ты лучше. Я так любил тебя, Поликсена, что было самому непонятно. И хоть у вас отменили ревность, но даже сегодня, седобородый, когда я смотрю на руки Нестора и думаю, как эти вот руки мяли и тискали твое тело и грудь с сосками, так дивно похожими на свежие ягоды малины, тающие в мужских губах; когда я подумаю об этом, я вдруг ловлю себя на желании, на диком, почти безумном желании, чтоб ты ложилась в постель не с одним счастливым Нестором, нет, со многими – чтоб и ему изменяла тоже! Ах, дьявольщина, я все понимаю. Не должен я был тебя оставлять, а если оставил, так не канючь, не жалуйся, не скрипи зубами – но отчего-то не получается. Не властен над собою, не властен!
– Ну хватит, дурачок, успокойся, – сказала она по-матерински. – Не надо доказывать свою удаль. Не мучай себя, не борись со сном. Достаточно. Угомонись, мореплаватель. Побереги свое здоровье. Да и с меня довольно. Что делать? Пока ты сражался за лучший мир, с меня опадали листья. Шло время. Я уже не юная женщина. Не постарела, но стала старше. Мы увлеклись с тобой. Перебор. Только прислушайся, как тут тихо. Так тихо лишь у нас – на Итаке. Мы сами – часть этой тишины. А тишина – это часть вероломства.
3
Пока они любили друг друга, пока потом они вспоминали, как в юности любили друг друга, снаружи, у статуи Одиссея, собрался Верховный совет мудрейших. Кроме Пал Палыча и Нестора в совет входил терапевт Чугунов, высокий лысоватый мужчина со страстным взглядом Савонаролы. Входил в Совет менестрель Виталий, сладкоголосый любимец Итаки, с изогнутой гитарой в руках. Была еще миловидная дама по имени Зоя, весьма энергичная, с короткой стрижкой, с решительной пластикой. Сразу же можно было почувствовать присущую ей деловую хватку.
Виталий, человек с шевелюрой, с волнистой фигурой, очень ритмично перемещающийся в пространстве, нежно поглаживал гитару.
– Прошу прощенья, что я не один, – сказал он, перебирая струны. – Но мы с ней дополняем друг друга. И мне без нее и ей без меня свойственна некая неуверенность. Не говоря о незавершенности.
– Что с вас возьмешь, с людей искусства, – угрюмо пробурчал Чугунов.
Пал Палыч нетерпеливо сказал:
– Не нужно приносить извинений. Тем более таких ритуальных. Мы слышим их далеко не впервые. Надеюсь, что Нестор вас ввел в курс дела.
– Я очень старался, председатель, – вежливо откликнулся Нестор.
– Боги мои, Сизов вернулся, – с чувством проговорила Зоя. – Первая любовь, господа. Сердце сжимается. Где он, кстати?
– Спит с Поликсеной, – сказал Пал Палыч.
– Понятно. Дождалась Пенелопа. Не первый я день живу на свете, и все же мужчины непостижимы. А впрочем, все поросло быльем, теперь мы – ближайшие подруги. Просто вдруг вспомнилось, как искусно она увела от меня человека, который во мне души не чаял. Апломб, презрительная гримаска, многозначительная улыбка – такая тактичная демонстрация интеллектуального ресурса. И наконец – полускрытый намек на собственный сексуальный Кувейт. Короче, проверенный арсенал. Недаром судьба ее наказала.
– Довольно, Зоя, – сказал Пал Палыч. – Речь не о том, что Сизов уехал. Суть в том, что он сегодня вернулся. И это порождает проблему.
– Я виновата, – сказала Зоя. – Но, вспомнив собственную нетронутость, да и наивность, я вдруг подумала: мужчины бывают еще наивней. Прошу у вас прощения, Нестор. И в мыслях не было вас обидеть.
– А я совсем не задет. Валяйте, – великодушно позволил Нестор. – И вас я по-дружески понимаю. Приятно вспомнить свою нерасколотость, доставшуюся первопроходцу.
Пал Палыч властно остановил его:
– Нет времени, коллеги, нет времени. Советую не превращать Совет – к тому же экстренный, чрезвычайный – в какой-то вечер воспоминаний. Тем более мудрецам известно: тогда ностальгия имеет смысл, когда превращается в проект и обеспечивает продукт. Мы здесь восстановили античность и трогательную ее непосредственность – она и дала Итаке покой. Оглядываясь на пройденный путь, мы можем сказать: наш образ жизни и взгляд на нее уже обрели свою концептуальную четкость. Однако сегодня возникла проблема, и эта проблема – мой сын Сизов. Верится, что не я один испытываю сейчас озабоченность. Наш доктор, а он весьма компетентен, по-моему, со мною согласен.
Доктор сказал, пожав плечами:
– Все, к сожаленью, предельно ясно.
– Проблема есть, – подтвердила Зоя. – И если я вспомнила былое, то вовсе не оттого, что я женщина, которую некогда оскорбили.
– Прошу вернуться в сегодняшний день, – настойчиво произнес Пал Палыч. – Вернее – в сегодняшнюю ночь. Мы знаем: мой сын непредсказуем. Ваша позиция, господа.
Виталий небрежно тронул струны:
– Не вижу я никакой проблемы. Я думаю, что они родятся, когда в них возникает потребность. Как возникает потребность в ритме. Поверьте, я знаю, о чем говорю.
Он снова коснулся пальцами струн и неожиданно пропел:
– Вам хочется в президиум? Вам мало суеты? А я хочу в Элизиум. В страну своей мечты.
Зоя сказала:
– Лестно, коллеги. Присутствуем при рождении песни.
Валерий кивнул:
– При зарождении. Не зря я твержу себе постоянно: только взберись на спину ритму – и он, как верный конь, тебя вывезет.
– Президиум ему не по нраву. – Пал Палыч покачал головой. – А что такое – Совет мудрейших?
Виталий миролюбиво сказал:
– Поэт, как известно, пишет одно, живет по-другому. Обычное дело.
– Зря, небожитель, вы так откровенничаете, – сказала неодобрительно Зоя.
– У каждого свой стиль, дорогая, – сказал Виталий. – Я не подпольщик. Я – менестрель, анфан террибль. Мое обаяние – в откровенности.
– У каждого есть свои милые слабости, – сказал рассудительно Пал Палыч. – Но мы работаем над собою. В Совет мудрейших войти не просто. Кто это сюда направляется? Ты, Поликсена?
Пал Палыч был прав. Она оглядела всех собравшихся, и сразу лицо ее посуровело.
– Простите, я не стану мешать вам.
– Пока еще ты нам не мешаешь. Наоборот, ты вышла кстати.
Виталий приветствовал Поликсену на свой легкомысленный манер:
– Кланяюсь деве, сошедшей с ложа.
– Мог бы и помолчать, бесстыдник, – сказала женщина.
Бард возразил:
– Будь я бесстыдник, я бы сказала: привет тебе, еле сошедшей с ложа.
– Он спит? – спросил Поликсену Нестор.
– Должно быть, – ответила Поликсена, – он ведь устал.
– Да, разумеется, – промолвил Нестор едва улыбнувшись.
– И что нам скажет жена о муже? – чуть напряженно спросила Зоя.
– А что ей сказать вам? Муж есть муж, – пожала плечами Поликсена.
– Но муж, который так долго отсутствовал, – не просто муж, он уже мужчина, – поправила Поликсену Зоя.
– Не спорю, – откликнулась Поликсена. – Но этот мужчина устал в дороге.
– Женщина, – хмуро сказал Пал Палыч, – мне нужно понять совсем другое: хочет твой муж остаться с нами?
– С вами – не знаю. Со мною – хочет.
– Ты это знаешь? – спросил Пал Палыч.
– Каждым местечком. – Она улыбнулась.
– Ну что же, невестка, пойди погуляй, а мы вернемся к делам государства, – сказал Пал Палыч. – Ты помогла нам. Итак. Продолжим. Пришла минута, когда мы должны принять решение. Сосредоточьтесь и объявите: дадим мы дожить Сизову век при том, что знаем его наклонности? Забудьте о том, что Сизов – мой сын. Тут речь о спокойствии Итаки. Пусть, как всегда, начнет наш доктор. Наш моралист, Асклепий, наш праведник. Итак. Вы сказали, что вам все ясно.
– Мне ясно. Мне тяжело, но ясно, – с достоинством подтвердил Чугунов. – И чем мне яснее, тем тяжелей. Приятно говорить то, что думаешь, но пусть я и говорю то, что думаю, мне неприятно. Скверно и тошно. Я представляю в нашем Совете самую добрую из профессий. Главный завет ее: не навреди. Естественно – не навреди Итаке. Сын председателя Совета отравлен. Не долгим своим скитальчеством. Скитался и наш отец Одиссей. Отравлен навязчивой идеей. Он видит себя орудием истины, он должен поднять этот мир из грязи, вернуть в вертикальное положение. Имеем дело с опасно больным, который не будет сидеть на месте, который однажды – пусть против воли – сюда приведет чужих людей. Я выношу свое решение. Итак: он должен быть успокоен.
Он сел, опустив свинцовые веки. Они прикрыли его глаза, горевшие грозно и непримиримо.
Пал Палыч с сердечной улыбкой сказал:
– Благодарю вас за вашу честность и преданность интересам Итаки. Теперь – Виталий. Что скажет нам ее златоголосый любимец?
Виталий коснулся послушных струн длинными пальцами виртуоза:
– Да я уже сказал, господа. Мы сами придумываем проблемы, чтобы проблемы нас гнули в рог. Национальная традиция. Сизов – итакиец. Он – сын отечества. Он здесь родился и обладает неоспоримыми правами. Кроме того, он любит женщину. Женщина знает, когда ее любят. Стало быть, он никуда не денется.
– Какая беспечность и легкомыслие! – сказал раздосадованный терапевт.
– Будем друг к другу уважительны, – сказал Пал Палыч. – Как мыслишь, Нестор?
Нестор приветливо улыбнулся:
– Присоединяюсь к поэту. Я убежден, что Сизов настранствовался. Его привела к нам тоска по оседлости.
Зоя спросила:
– Хотела б я знать, на чем покоится убежденность?
– Она покоится на Поликсене, – откликнулся Нестор.
– Мужской цинизм.
– Возможно, – согласился с ней Нестор. – Но это цинизм здоровый. Сочный. Аттический. Теплолюбивый. Спросите у главного терапевта. В этом цинизме нет озлобленности и уж тем более извращенности. Ему не сопутствуют ни досада, ни плоская самодовольная поза, свидетельствующая о неполноценности. Это цинизм, полный жизни. Он прост, как правда. В нем ощущаешь оптимистическое начало.
– Заслушаешься, – сказал Пал Палыч. – Эпикурейский взгляд на вещи. Я тоже надеюсь на Поликсену. Второй раз она своего не упустит. И, надо сказать, я ей благодарен. Да, там, где женщина, там Итака. Итака сама по себе есть Женщина, любезная усталому путнику.
Он сделал паузу и улыбнулся.
– Ну что же, пора подбивать итоги. Наша сплоченная команда – отнюдь не машина голосования. Сшибаемся, полемизируем, спорим, но – вырабатываем консенсус. Зоя, тебя это удивит, но возраст обострил мою зоркость. Я вижу, до чего тебе тягостно принять решение…
– Да, мне тягостно, – сказала Зоя. – Но я готова.
– Ценю твое мужество, смелая женщина, но так уж и быть, я тебя порадую, – отечески сообщил Пал Палыч. – Я добавляю свой старческий голос к гуманистическому баритону нашего Нестора да и к тенору сладкопевучего менестреля. Стало быть, три голоса есть, и ты избавлена от обязанности вынести приговор человеку, который оставил след в твоей жизни.
Зоя хотела ему ответить, но помешал хрипловатый басок вышедшего из дома Сизова:
– Ты где, Поликсена?
Она появилась почти мгновенно. Как будто ждала этого тревожного зова.
– Что с тобой?
Он сказал виновато:
– В общем-то ничего ужасного. Я видел сон. Что я просыпаюсь и не нахожу тебя рядом.
Она сказала:
– Такое с тобою уже случалось – в последние годы. Точнее – в последние двадцать лет.
– Однако на сей раз ты убедился: жена твоя здесь, никуда не делась, – отечески улыбнулся Пал Палыч. – Я вижу, что оказался прав. Что Поликсена – надежный якорь. Так что же, сыночек, дадим тебе шанс? Всякие странствующие рыцари, нет спора, симпатичный народец. Но важно, чтобы они очнулись. Странствовал наш отец Одиссей, странствовал Дон Кихот из Ламанчи. Но первый – по капризу богов, второй же – в помраченье рассудка. Однако случаются пассионарии, которых разумней держать на цепи, на них башмаков не напасешься. И ежели ты – один из них, то я помочь тебе не смогу, не вправе подвергнуть Итаку риску.
– Я прибыл не для того, чтоб отбыть, – медленно произнес Сизов. – Мы – взрослые люди. Было бы глупо.
Пал Палыч весело согласился:
– Глупее некуда. Чистая правда.
– Отдайте мне седобородого мужа, – сказала красивая Поликсена с негромким серебряным смешком. – Я не хочу терять его снова.
– Прислушаемся к голосу женщины, – сказал улыбающийся Нестор.
– Тем более женщина схожа с гитарой, – сказал медоточивый Виталий.
– Мы сделали глупость, – сказал Чугунов. – Но процедура есть процедура. Стало быть, не о чем говорить.
– Как не прислушаться… – буркнула Зоя.
– Прислушаемся, – заключил Пал Палыч. – Вечером ты дашь бал итакийцам. По случаю своего возвращения. Не то чтобы бал, это громко сказано. Не раут – слишком великосветски. Но и не вечеринка – вульгарно. Тем паче не гулянка – плебейски. Так, нечто вроде приема. Ресепшн, как выражаются англосаксы. Придут, потолкаются, выпьют по рюмке. Ознаменуем твое появление в качестве нового члена общества. Многого от тебя не потребуется. Кивай головой и улыбайся. Спой нам, Виталий, спой, наш соловушка, что-нибудь под настроенье. Гимническое.
Виталий поклонился:
– Охотно. Хлебом меня не кормите, друзья мои. Главное – попросите выступить. Уж такова душа артиста.
Он нежно коснулся гитарных струн и затянул своим тенорком:
– Когда мы ездили в Колхиду, как аргонавты за руном, мы не показывали виду, но мысли были об одном.
Все, кроме Сизова, подхватили:
– Но мысли были об одном – о нашем острове родном.
4
Ах, господа, хороша Итака – какие пригорки и ручейки! Какие зеленые лужайки! А эти памятники ее древности! В первую очередь – Одиссею, ее праотцу и ее символу, стратегу, тактику, воспитателю. Неутомимому супругу.
Много чего есть на Итаке. Сегодня туристы здесь под запретом, но завтра… Кто знает, что будет завтра? Жизнь изменчива, господа.
Похоже, что собрался весь остров, чтоб встретить Елисея Сизова. Со времени самого Одиссея Итака приветствует возвращенца.
Гости текли равномерной струйкой. Хозяин кланялся, улыбался и отзывался на обращения. Он чувствовал, что порядком устал. Пожалуй, не меньше, чем от дороги.
– Рада вас видеть, – сказала дама. – Вы возмужали и стали похожи на древнего римлянина. Вам к лицу.
– Благодарю вас, – сказал Сизов.
– Счастлива и за вас, Пал Палыч.
Пал Палыч любовно обнял Сизова:
– Спасибо, спасибо. Сердце отца…
И сделал неопределенный жест. Не то смахнул скупую слезинку, не то почесал левую бровь.
– Странствия учат нас постоянству? – спросил Сизова почтенный гость. – Они укрепляют преданность родине?
Сизов согласился.
– Да, это так.
– Ах, этот поэтический вздох о том, что в буре есть свой покой, – сказала очень полная гостья. – Это полезное заблуждение. Обогащает внутренний мир.
Еще один гость произнес очень веско:
– Бесспорно, блуждать и заблуждаться – это различные понятия, но я симпатизирую вам в обоих случаях. Очень рад.
– А я растроган, – сказал Сизов.
– Ну, здравствуй, здравствуй, – обнял Сизова весьма жовиальный островитянин. – Крайне приятно тебя увидеть.
Сизов ответно ему улыбнулся:
– И мне приятно, что ты так бодр.
– Жизнь удалась, – согласился гость. – Твой фатер меня произвел в начальство.
– Выбор разумный, – сказал Сизов.
– Я не стремился, ты меня знаешь, – сказал доверительно старый знакомый. – Более того, не хотел. Но если понадобилось государству… Послеживаю за репертуаром.
– Рад за тебя, а также – за публику, – сказал Сизов. – Так у нас цензура?
– Если уж строишь страну покоя… – Гость выразительно вздохнул. – Большая ответственность, дорогой. Вот, например, у нас «Одеон» – талантливый музыкальный театр. Играет всякие оперетты. Вдруг ставит «Прекрасную Елену». Ты можешь мне объяснить, дружище, зачем превращать в коленца, в канканчик эпос, священный для итакийцев? Теперь замахнулись на хит Шекспира. Тот самый, где ключевой вопрос – «Быть или нет?». Звучит недурно. Особенно у нас на Итаке. Каков вопрос, таков и ответ. Тоже неплох. «Умереть – уснуть». Более чем двусмысленно, братец.
Он отличался словоохотливостью. Это за ним водилось сызмальства. Начав, не умел остановиться. Но, оглядевшись, он обнаружил: за ним уже целая цепочка. Вздохнув, преуспевший островитянин крепко пожал Сизову руку и нехотя растворился в толпе.
Пока Сизов отвечал на приветствия, благодарил своих гостей, пришедшие ранее островитяне располагались отдельными кучками, стояли с фужерами в руках, и реплики, слетавшие с губ, медленно оседали в воздухе.
Каждая из них раздавалась, не смешиваясь ни с предыдущей, ни с той, что произносилась ей вслед. Звучала как бы сама по себе, а вместе с тем как бы вливалась в хор, в тот самый незабываемый ХОР, который некогда стал открытием пленительной античной словесности, в первую очередь – театра.
Но, разумеется, этот хор не выглядел глашатаем рока и принаряженные итакийцы не походили на прорицателей. Они потягивали вино, сделанное по рецепту фалернского, они оживленно переговаривались, в их голосах не было слышно ни трагедийного металла, ни грозного шороха Судьбы. Чаще всего разговор возвращался к тому, как выглядит возвращенец, но иногда звучали и фразочки философического характера.
– Этакий выставочный лик – землепроходец я, муж и воин.
– Этакий сплав византийства со скифством. (Оба отзыва относились к Сизову.)
– Чем ближе ты к земле, тем грубее. (То был одобрительный голос дамы.)
– Что ж, прародитель наш Одиссей тоже ведь был не без греха. (Это послышался голос Нестора.) Кочуя, едва не забыл Итаку.
– Чтобы стать памятником после смерти, при жизни следует быть беспамятным. (В голосе прозвучал укор – это был голос терапевта.)
– Всего тяжелее давалось вдовство. (Это прошелестел голос женщины.) Но тут уж ничего не поделаешь. Помню, мой муж зашел в туалет, там он и скончался, бедняжка.
– Смерть праведника. (Это сказала Зоя.)
– Воспоминания, воспоминания. Что ж, все там были. (Сказал Чугунов.)
– Да, есть кого вспомнить. (Кто-то вздохнул.) Что ни говорите, история явно играет на понижение.
– Как нынче светится Поликсена. (Еще один женский голосок.)
– Светская женщина, вот и светится. (Это с усмешкой промолвила Зоя.)
Высокий островитянин сказал:
– Что ни говорите, без пафоса любая наука становится плоской.
Кто-то добавил многозначительно:
– Все же однажды приходит Некто, и он Ничто превращает в Нечто.
В академический разговор пробился элегический голос. Женщина протяжно вздохнула:
– Но наш Виталий – певец от Бога.
Кто-то откликнулся не без желчи:
– Только не стоит преувеличивать. Был я когда-то женат на певице.
– Ты не устал быть в центре внимания? – спросила Сизова Поликсена.
– Адски устал, – сказал Сизов. – Я плохо узнаю итакийцев. Они непонятно переменились.
– Какой наблюдательный супруг, – с привычной усмешкой сказала женщина. – Просто ничто от него не укроется.
Пал Палыч излучал ублаженность:
– Ну что ж, невестка, прием удался. Да и скиталец наш держит планку. Искренне тебя поздравляю. Поздравь и меня – мой сын вернулся.
– Сын ваших чресл. – Она улыбнулась. – Так некогда изъяснялись актеры, игравшие благородных отцов.
– Так я ведь отец, – согласился Пал Палыч. – И нынче я был весьма благороден. Невестка моя, ты зла и умна.
– И этого никто не оспаривает, – сказала Зоя. – Скажи, подруга, что сейчас чувствуешь?
– Вам не понять. Хотя вы и в Совете мудрейших. А я, хоть умна, не разберусь.
– Доктор, вы знаете все на свете, – лирически проворковала дама, – можно ли отказаться от власти ради любви?
– Не смею судить, – мрачно откликнулся терапевт. – Но от любви ради власти – можно.
– Чтоб увенчать наше мероприятие достойным образом, хорошо бы услышать итакийскую песнь, – сказал Пал Палыч. – Спой нам, Виталий.
– Охотно. Меня просить не надо, – сказал менестрель и тронул струны: – Уже внесен в пределы Трои дареный конь. И что цвело при прежнем строе, летит в огонь. И женщина, предмет осады, вступает в круг усталых воинов Эллады, где ждет супруг. Чей голос вспомнишь ты сегодня, чьих рук кольцо? Чьи губы жгут все безысходней твое лицо? Никто не ведает про это, и от души пируют греки до рассвета, стучат ковши.
– Спасибо, – сказала певцу Поликсена. – В который уж раз я ее слушаю, и каждый раз – как будто впервые.
– Хочется в Трою, – вздохнул Сизов.
5
Минуло итакийское лето, и осень вступила в свой зенит. Было не холодно, но ветрено. Кроме того, быстро темнело, и эта ранняя плотная тьма дурно воздействовала на Сизова. Сначала втихую, конспиративно, а дальше достаточно откровенно он стал прикладываться к своей фляжке. К старой, прокисшей дорожной фляжке. Все чаще можно было застать его сидящим на ветхом крылечке дома в сосредоточенном молчании.
Он знал за собой это скверное свойство – внезапно налетает тоска и люди, которые вьются рядом, кажутся некими марионетками. Чудилось, ходят они неуверенно, выглядят робкими и пугливыми, а озираются тревожно. Знакомый пейзаж преображался и походил на неведомый мир. Во всем была непонятная чужесть, и сам он себя ощущал чужим, почти свихнувшимся от неприкаянности.
Однажды Нестор ему сказал:
– Не нравится мне, Елисей, эта поза.
– Я не позирую, я сижу, – хмуро откликнулся Сизов.
– Вот и тогда, перед тем как исчезнуть, ты тоже сидел в такой позиции.
Сизов внимательно оглядел его:
– Что было, то прошло. Не волнуйся. Дважды в то же море не входят.
– Как знать. Случается, что и входят. – Старый приятель усмехнулся. – Нет, не люблю я, сказать по совести, эти радения на крылечке. В юности от них кровь застаивается, хочется потом поразмяться. Взять да и прошвырнуться со свистом – лет этак на пятнадцать, на двадцать. В зрелости – скапливается желчь. Тянет плеснуть на людей этой жидкостью.
– Недаром Итака тебя кооптировала в Совет мудрейших. Уж так проницателен, – пасмурно отозвался Сизов.
– Просто смотрю, как ты тут посиживаешь и обугливаешься, – проговорил Нестор.
– А ты похаживаешь и посмеиваешься.
– Это не худшее из занятий.
– Бездельники ищут, чем бы заняться. Деятельная наша Итака. Великолепная Итака.
В нем закипало раздражение. И было все трудней себя сдерживать.
В детстве Сизов любил игру, которую сам же и изобрел. Смотрел на преклонных уже сограждан и представлял их себе детьми. Разглаживал мысленно их морщины, словно резинкой стирал седину, бережно выпрямлял их туловища и будто впрыскивал им энергию. Старые люди вдруг исчезали, вокруг уже – мальчики и девочки. Сизов их разглядывал и дивился: вот, значит, какими вы были!
Но с Нестором в эту игру не сыграешь. Не потому, что он так моложав. Просто они друг друга знают, кажется, с первого школьного дня. Сизов без всякого напряжения мог вызвать в памяти образ мальчика, длинного, плотного и лобастого. С очень недетским серьезным лицом. Нестор был мягок, добросердечен, нетороплив и рассудителен. И неизменно умел оказаться в нужное время в нужном месте. Вряд ли бы кто-то сумел объяснить, как это ему удается. Были они тогда неразлучны.
То, что судьба их так развела – один уехал, другой остался, – в общем-то, было житейским делом. И все же Сизов не мог не сознаться: так и не понял, как прежняя связь однажды нарушилась и распалась.
Нестор кивнул и сказал ему в тон:
– Да уж, Итака на высоте. Продуманный распорядок дня. Сиеста. Умеренное питание. И главное – никаких претензий к себе и к жизни. Любая претензия – кратчайший путь к потере лица. Особенно – тяга улучшить планету.
– В юности мы оба с тобою готовились обойти эту землю, – невесело напомнил Сизов. – И не стремились вернуть античность. Помнили, что всему свое время.
– В этом-то и была ошибка. Мы перестали видеть в Елене прекрасную даму, мы ее сделали этакой статуей свободы. Темные силы ее похитили, теперь ее нужно вернуть народам. – Нестор ударил его по плечу. – Много разумней увидеть в ней снова пленительную и яркую женщину, которая хотела любви. Античность умела жить без метафор.
– Ну наконец-то! Все стало на место, – угрюмо рассмеялся Сизов. – Я сразу почуял, что вы здесь жулики. Когда-то присвоили имя Итаки. Потом присвоили Одиссея. Вложили в уста его странные речи о том, как хороша неподвижность. Провозгласили сакральный культ розового античного утра и втихомолку над ним смеетесь.
Нестор насупился и сказал:
– Боюсь, что ты играешь с огнем. Пока мы смеемся, ты в безопасности.
– Великолепная Итака, – с горечью повторил Сизов. – Ваш Одиссей не случайно все плавал. Не очень-то торопился домой. К своим похохатывающим согражданам. Вы осмеяли бы и Одиссея, однако у вас хватило расчетливости назвать его своим вдохновителем. Повсюду и во всем это жульничество. И прежде всего – в вашем жирном юморе.
– И юмор тоже подарок предков, – напомнил ему улыбчивый Нестор. – Когда победителю-полководцу в Риме устраивали триумф, солдаты смеялись над ним, как умели, чтоб он оставался человеком. Мимо сената шли легионы, покрытые пылью своих походов, и эти гогочущие вояки пели простуженными голосами: «Ну и день! Сегодня славим лысого развратника!» И Цезарь смеялся звучнее других и больше всего на свете боялся стать глупым надутым индюком, уверовавшим в свое величие. Да, то были люди, не то что наследники, способные только кадить и ползать.
– Поэтому в ту последнюю ночь, когда я решил уйти под парусом, ты предал меня и остался здесь? – спросил Сизов.
– Совершенно верно. – Нестор прижал его к груди. – В похожую осеннюю ночь мать меня вытолкнула из чрева в короткое мгновенное детство, которое пронеслось как пуля. И я почувствовал, друг Сизов, что я не отдам остатка дней своих, чтоб увеличить комфорт моих правнуков, которые даже меня не вспомнят. И ты уехал, а я остался.
– Чтоб обнимать мою Поликсену, – заставил себя усмехнуться Сизов. – Приятнее, чем ворочать камни.
– Мы с нею не обнимались, Сизов. Просто держались друг за дружку. Чтоб не замерзнуть и не упасть.
– Не нужно подыскивать слова, – хмуро прервал его Сизов. – Я уже выучил, что на Итаке ревность отменена за ненадобностью. И я не ревную, я просто вижу, как ты ее мнешь своими ручищами и как она под тобой извивается, чтоб не замерзнуть в нашу жару. А я улучшаю в то время планету.
– Да, я ничего не хотел улучшать, – сказал с неожиданной жесткостью Нестор, – я понял, что мир населен горбатыми. Ни ты и ни я не сумеем их выпрямить. Скажи-ка мне лучше, солдат справедливости, сколь ты успешно погладиаторствовал? На каждую каплю твоей свободы приходится два чана дерьма. В чем ты меня винишь, дружище? Однажды ты выбрал себе ремесло. Ты стал профессионалом свободы и правдолюбом-профессионалом. Взвалил на хребет себе камень мира. А я тогда же – избрал свое. Мое ремесло – разминуться с историей. С этой кровавой прелюбодейкой. Это и была моя цель. Открыл я ее, учась у Итаки, у старой и мудрой моей страны. Она вознамерилась спрыгнуть с глобуса и делает это любой ценой. Даже рискуя себя изувечить. Все для того, чтоб суметь остаться разом непознанной и непойманной. Здесь, на Итаке, не ощущаешь размеров вселенской необозримости. Впрочем, и своей малости – тоже.
Сизов помедлил, потом сказал:
– В отличие от тебя, я боюсь выпасть однажды из истории. История делается на просторах. В отличие от тебя, я болен. Боязнью замкнутого пространства. И болен – мне кажется – неизлечимо.
– Клаустрофобия, – сказал Нестор. – Бывает. Болезнь островитян. Мы научились одолевать ее. Ты пораскинь своими мозгами – тяжелыми мозгами бродяги, – за кем осталось последнее слово. За теми ли, кто делал историю, или за теми, кто ухитрился перешагнуть ее безумие? Первые – уж давно на свалке. История длится лишь в той эпохе, которая ее бальзамирует. Ты понял?
Сизов сказал:
– Да, я понял. Хотя, возможно, и с опозданием. Старая мудрая Итака – счастливое кладбище. Остров мертвых. Хотя они здоровей живых. Мой остров – благословенный остров, где не стареют и не умирают. Веселый и цветущий Некрополь.
Нестор добродушно осклабился:
– Тогда возрадуйся, старый друг. Возрадуйся хотя бы тому, что мы бессмертны, живей живых. Как видишь, не черепа и не кости. Но опыт заменяет нам страсти. И это прикосновение к вечности само по себе дорогого стоит.
– Я рад за вас, бодрые покойнички. Ловко же вы играете в жизнь, – сказал Сизов и направился в дом.
– Куда же ты?
– А наполнить флягу. Самое время хлебнуть винца.
Да, на Итаке он стал попивать. Трезвенником, понятно, он не был, страннику надо и подкрепиться, но тут он откручивал крышечку с фляжки гораздо чаще, чем делал раньше.
Причина была, несомненно, та, что все ощутимее нарастало чувство какой-то неясной угрозы. На острове, на котором когда-то он появился на белый свет, им все острее овладевал странный и унизительный страх. Такое случается с лазутчиками в чужой стране, во вражеском стане. Но разница заключалась в том, что он-то как раз лазутчиком не был – не он следил, а за ним следили. По крайней мере ему так казалось. И где же? Дома? В родном краю? «Да где он, мой дом и край родной?» – подумал Сизов с глухим раздражением.








