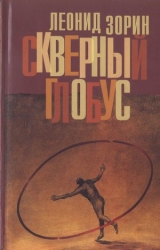
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Я был безусловно разочарован. Меж тем неприметно, совсем бесшумно настала моя рубежная дата. Она меня будто подстерегла, нежданно выскочив из засады. И я очнулся, прозрел и понял: это случилось. Мне – пятьдесят.
Шагреневая кожа сужалась. Смириться с этим было невесело. Да и непросто. Во мне клокотала мятежная молодая кровь. Я называл себя ветераном, но – не без некоторого кокетства. Я верил, что все еще впереди.
Возможно, я слишком спешил доказать себе, что я хозяин своей судьбы. Способен немедленно изменить ее. Но, в самом деле, с какой-то мальчишеской нерассуждающей безоглядностью нырнул я в омут нового брака. Не было рядом со мной Алексея, чтобы напомнить: «Всех ягод не съешь».
И вновь все стряслось почти мгновенно. Всего лишь неделю назад мы с ней встретились в ложе оперного театра. Я был приглашен туда нашим консулом, она оказалась там вместе с другом.
И сам не пойму, как все это вышло, когда под восторженный рев партера, приветствовавшего триумф гастролера, я попросил ее: «Дай мне сына».
Она ответила: «Не сомневайся».
Теперь-то я хорошо понимаю, что неустанно мечтал о доме. Мечта эта так и осталась мечтою. Скорее всего, я был криво задуман – не мог себя разделить ни с миром, ни даже с возлюбленной – приговорен стеречь одиночество своей жизни.
Сегодня, мысленно пробегая по странным, причудливым ступеням своей матримониальной карьеры, я только горестно усмехаюсь. Особенно когда наблюдаю ее социальные метаморфозы. Брачные помыслы начались с нижегородской пропагандистки. Моей невестой без малого год была чикагская амазонка. Женой моей стала полковничья дочь. Затем появилась графиня Черных, и неизвестно, чем бы все кончилось, если б меня не послали в Россию. Должно быть, для того, чтобы там, под грохот обрушившейся империи, нашел я грузинскую княгиню, мою элегическую жену. Потом, когда я остался один, я мог легко потерять свободу в тенетах еще одной княгини, незабываемой Жак де Брольи, которой посвятил свою книгу. Но отдал себя – по неразумию – графине Комбетт де Комон, чтоб затем, спустя лишь два года, пойти под венец с андалусийской патрицианкой.
Что означал этот хоровод, полет по иерархической лестнице? Неужто лишь месть за Большую Покровку, за комнаты с низкими потолками? За то, что заложенной во мне мании скитальчества и перемещения с детства предписывали оседлость? Нет, нет, и дважды, и трижды – нет. Я подчинялся лишь зову страсти, трубно гремевшей во вздутых жилах.
На этот раз я выбрал испанку. Она не уступала француженке ни своей статью, ни геральдикой. Как всех пиренейских аристократок, ее при рождении наградили длиннейшим многоступенчатым именем. Слишком ветвисто! И я ее звал совсем по-пушкински – Инезильей. Возможно, оттого, что она, как юная пушкинская прелестница, была севильянкой и рифмовалась с городом, где обрела свою жизнь.
Отличное место явиться на свет! И все-таки вряд ли б оно так прославилось, если б ему не повезло – некогда Бомарше его сделал фактом великой драматургии, а упоительный Россини смог навсегда превратить в мелодию.
Город поверил обоим титанам. Поверил и в собственную избранность, и в то, что он стал столицей любви. Даже воздвиг превосходный памятник неутомимому идальго за то, что того любили женщины, а он был истинным гладиатором, не ведавшим по ночам неудач.
Ну что ж, Инезилья не раз говорила, что, если б я был ее земляком, то мог бы рассчитывать на монумент, ибо на этом ристалище равен дону Мигелю де Маньяра.
Она и сама была не промах. Ничем не унижу ее предшественниц, если скажу, что она как никто умела почувствовать и разделить пленительное бесстыдство желания. Да и собой была недурна. Высокоросла (высокие дамы были особенно мне по вкусу), стройная, с легким и гибким телом, с черной копной на гордой головке, с птичьим андалусийским носиком (чтобы, не дай бог, ее не обидеть, можно назвать его орлиным), с горящими глазками – даже ночами они пламенели, как два светлячка.
Была исступленной католичкой. Это ей вовсе не помешало два года спустя расторгнуть наш брак. Вернее сказать, не воспрепятствовать возникшему у меня стремлению вернуться в прежнее состояние.
Нас разлучили тридцатые годы с их политическими баталиями и обострившейся конфронтацией – все мы в те дни посходили с ума. При всей моей офицерской лояльности я издавна опасался в политике особенно рьяных милитаристов. Шокировало ее увлечение личностью Примо де Риверы, уже отправленного в отставку. Потом ее качнуло к фаланге. Сперва я над этим только посмеивался. Я был благодарен ей, ибо она исполнила свое назначение – в положенный срок родила мне сына. Но путь от счастья до катастрофы был слишком краток: лишь десять дней провел мой мальчик на этом свете. Мы не сумели ему передать собственной мощи и воли к жизни. Наверно, я был несправедлив, но я винил ее в том, что случилось. Я места себе не находил. Настал мой черед почти мазохически мысленно воскрешать в своей памяти крохотное смуглое тельце и повторять без надежды, без смысла: где ты, сыночек? Сыночек… сыночек…
Я до сих пор не сумел примириться с тем, что со мною умрет мое имя. Зато раздражение и враждебность к моей Инезилье давно улеглись. Все крики о будущем Испании, все споры о закате Европы забылись и исчерпаны временем. Несколько лет назад в Мадриде я встретил носатую старуху, я попытался их оживить, вспомнил о друге своем Мальро, который сражался в испанском небе в интербригадовской эскадрилье. Сказал, что, когда бы я не был на службе и мог распоряжаться собою, я был бы с ним рядом, громил франкистов.
Моя Инезилья лишь усмехнулась: «Андре Мальро – прекрасный писатель. Эрнест Хемингуэй – еще лучше. Сражались они за правое дело. Какое счастье, что их разбили».
Мне трудно было ей возразить. Она жила в богатой стране, гордящейся своим процветанием. Ален Рене уже показал свою картину «Война окончена».
Я промолчал. Я вновь подумал о том, как мы шли, себя не щадя, по знойной марокканской пустыне. Уверенные в высоком значении своей цивилизаторской миссии. Надеясь, что находим друзей. Но обрели мы одних врагов, и что грозит нам, еще неведомо. Я думал о бурном безумном веке, в котором пронеслась моя жизнь. В нем все смешалось, перевернулось, стало вверх дном, и так беззастенчиво, так издевательски все сошлось, чтоб обессмыслить мою судьбу. (Не ограничившись ею одною.)
Я видел Гитлера в ярких доспехах спасителя Европы от варваров и Сталина в роли антифашиста. А что еще предстоит увидеть, если мне выпадет два-три года прожить на свете? Лучше не думать. Простившись навсегда с Легионом, я вынужден заниматься политикой. Я стал удачливым дипломатом.
Я очутился – и стал своим – в самодовольной корпорации, в этом кругу самозванных умников с их будто приклеенными к губам всепонимающими улыбками. Им все известно и все открыто. Нет грязи, предательства, вероломства, есть государственные расчеты. Нет нерукопожатных мерзавцев, нет омерзительной дружбы с подонками – есть лишь необходимый баланс. Все прочее – жалкий вздор простаков и политический инфантилизм. Так полагают эти стратеги.
Господи, как я их всех ненавижу. Тошнит. И от всей этой камарильи. И, кстати, от себя самого.
Уже много лет я веду условную фантомную жизнь. И в чем ее суть? Возможно круглей отчеканить формулу, которая подменяет истину. Снова все та же «система фраз», увиденная моим Алексеем, описанная им в «Самгине». Да он и сам стал ее заложником. Куда ж ему, бедному, было деться?
И все мы – кто больше, кто меньше – заложники. Моя профессия – это ложь. Та узаконенная ложь, которая помогает мириться с ложью не вполне легитимной. Но – заполняющей повседневность.
Быть может, чтоб она отступила, нужно остаться легионером, шагать дорогами Марракеша и научиться не прятать взгляда, встретясь с усмешкой небытия.
Мадридский полдень сиял и пел. Я снова оглядел Инезилью. Подумать, что эта грузная злюка когда-то подарила мне мальчика. Где ты, сыночек? Я будто увидел смуглое обреченное тельце. Меня затопила нерассуждающая, давно не испытанная тоска.
От старой всевидящей совы мое состояние не укрылось. Не то усмехнулась, не то вздохнула.
15 ноября
В Нумидии мы обрели равновесие после двухлетней войны в Марокко. Жестокое сопротивление рифов стоило нам немало крови. В Алжире мы чувствовали себя среди друзей, на законном отдыхе.
Но именно здесь я потерял донца-ординарца – его зарезал остервенелый абориген. В жаркий и душный день похорон я сделал то, чего избегал, – напился самым постыдным образом. Отлично я знал, что такое средство справиться с подступившей слабостью мне никогда не помогало. Не говоря уже о том, что Однорукий-Великолепный должен всегда служить образцом. Но ничего не мог с собой сделать, не мог заглушить ни боли, ни злобы.
Думал об этом несчастном малом, к которому успел привязаться, думал об этой безмозглой доле, смолоду меченной знаком беды. Какая губительная звезда стояла над заброшенным куренем, в котором он однажды родился? Чем провинился перед людьми, перед своим казацким богом юный станичник, бедный дубок, которого русское братоубийство вырвало с корнями из почвы и понесло, понесло по свету, пока не зарыло в алжирской земле?
Смерть издавна составляла существенную, важнейшую часть моего ремесла. Я приучился о ней не помнить. Знал, что душа от подобных мыслей сразу становится беззащитной. Единственное их назначение – внушить, что Начало еще бессмысленней, еще бесплоднее, чем Конец. Что каждый новый прожитый день делает попросту уморительными наши геракловы усилия. Цена их оказывается ничтожной. Здание, некогда нами задуманное, складывавшееся из каждодневной работы и наконец-таки возведенное, всего через несколько лет оказывается грудой уродливых камней. Их сносят и на вздохнувшей земле, избавленной от опостылевшей башни, возносят новейший воздушный замок. Впрочем, по прошествии времени он давит и плющит усталую почву ничуть не меньше своей предшественницы.
Я навсегда запомнил тот день. Хотя, казалось, тридцатые годы вполне могли его затоптать.
Они и пытались это сделать своими потными сапогами. (Это мне вспомнился Томас Манн. «Знаете, чем пахнет фашизм? Потными сапогами в высшей степени».) Но если спустя десятилетия я вспоминал нелепую гибель русского казака в Алжире, то в этом была своя неизбежность. Не только неподвластное чувство – ко мне то и дело поворачивалась своим искаженным ликом эпоха. История шла в одном направлении. И чем мы громче славили разум, тем больше потворствовали инстинктам.
В прогнивших подворотнях Европы, и прежде всего во взорванном орднунге озлобленной разбитой Германии, отпущенной глупыми победителями вариться в сатанинском котле ее национальной обиды, рождались фанатики и негодяи. И вскоре все эти канатоходцы, паяцы и ярмарочные плясуны как по команде вышли на площадь. И некий фокусник взмахом палочки почти мгновенно преобразил век джаза в век трехгрошовой оперы. Но какова цена этой музыки – никто не сумел тогда угадать.
В самой средине десятилетия окончил свой век генерал Дрейфус. «Мои страдания были напрасны», – проговорил он в предсмертный миг. О чем он думал в эту минуту? О том ли, как сорок лет назад в единый миг обрушилась жизнь? Об этом празднике антисемитов, когда решительно все коллеги, соратники, друзья по оружию его отринули и отторгли, объединясь в непонятной привязанности к изменнику, каину и прохвосту? О трибунале, о приговоре, о десяти годах, проведенных на Чертовом Острове? О Золя? О запоздалом своем оправдании, которое не принесло уже радости? Пожалуй, не только ему, но и Франции.
Я знал, что на вновь обретенной родине всегда хватало своих юдофобов, их столько же, как в любой стране, а все же я был обескуражен, увидев, сколь много здесь почитателей у нового любимца Германии. Достаточно было ему поклясться, что он изведет проклятое семя, – и вот за ним идут миллионы.
Порой перед твоими глазами вдруг неожиданно оживает то, что казалось давно погребенным на самом дне твоего сознания, то, что однажды забыл запомнить. Горячий нижегородский день и раскаленная паперть у церковки. Черная высохшая монашка. Она крестилась с такою истовостью, что попросту становилось страшно за эти костяные персты – еще раз хрустнут и оторвутся. Она воззрилась с какой-то яростью на черноволосого мальчугана – мне не исполнилось и шести – и прошипела свистящим шепотом: «В Бога не веруешь, вражий сын?».
До самого сна я все гадал, чем так досадил ей и почему она меня сразу же возненавидела. Не раз, возвращаясь к кончине Дрейфуса, я вновь, как в детстве, хотел понять почти мистические причины тысячелетней неприязни. Печально, но ненависть может сплотить в единую семью племена вернее, чем надежда Христа объединить их своей любовью.
Возможно, тут дело в тайной враждебности детей к родителям, в их желании скорее разорвать пуповину, связывающую с родною плотью. А может быть, упрямым скитальцам не могут простить их стойкой способности жить вопреки этой нелюбви, брести и дальше своей дорогой, ведущей то на костер, то под газ?
Как знать? Я легко отрекся от веры, которой, впрочем, не обладал, был сыном России, стал сыном Франции, усвоил, что мне придется мириться со смутной враждою иноплеменников; я понимал, что этой враждой вызвана их готовность ждать света от римского ликторского пучка и от берлинской паучьей свастики. Можно было со вздохом посетовать, можно было и подивиться, но – не обманываться в реальности.
Францию возглавлял Лаваль. Овернская медвежья хватка. Дородный, с загорелым лицом исконного уроженца юга. Тому, как он выглядит, придавал первостепенное значение. Всегда и всюду при белом галстуке. То был его отличительный знак. Наивная и, однако же, действенная попытка создать персональный образ.
О нем ходило много историй. Однажды он сказал собеседнику: «Знаете, я все-таки отдал Абиссинию Муссолини. В молодости мы оба были социалистами, это роднит». Должно быть, вручая Гитлеру Францию, он снова растроганно умилился: все же арийский социалист.
Не странно ли? В этом холеном теле таилась не заячья душа. Когда уже после конца войны его приговорили к расстрелу, он вышел на казнь в своем белом галстуке и отдал команду солдатам «Огонь!».
Но вряд ли он мог предвидеть исход в коварные тридцатые годы. Они бесповоротно влекли нас к самому страшному кровопусканию, которым запомнится этот век, а мы все надеялись увернуться. И верили, что это возможно.
Однако во мне это десятилетие оставило мету еще больнее, чем то, что последовало за ним. Есть мировые катастрофы и есть наши личные трагедии – вторые не заживают дольше.
В тридцать седьмом моя дочь, моя Лиза, уехала с мужем в Советский Союз. Она нашла наилучшее время, чтобы вернуться на землю предков.
Мы жили розно, ни ее мать, ни ее отчим, очень успешный и предприимчивый флорентиец, не помешали ей заболеть этой идиотической хворью, косившей западных интеллигентов, – их увлеченностью сталинским раем. Конечно, нацистская угроза в чем-то оправдывала безумцев – была тут и скрытая надежда увидеть некую встречную силу, – но суть заключалась не только в этом. Весь пафос этой глупой влюбленности носил характер не прагматический – о, нет! – в нем бурлила своя романтика. Самоуверенная буржуазность, в которой пребывала Европа, могла оказаться жизнеопасной для якобинских идеалов. В особенности – для братства и равенства. Почти пуританский лик России внушал надежду на их спасение.
Я объяснил своей мудрой дочери, что вовсе не имею намеренья бросить хотя бы малую тень на чувство к России – больше того, я его вполне разделяю. Но есть драматическое различие между страной и государством. Ибо российское государство не станет ни при каких обстоятельствах слугою создавших его людей. Лишь может позволить им – в лучшем случае! – жить на большом от него расстоянии. Нелепо – рассчитывать на него, бессмысленно – звать его на помощь, опасно – подпускать его близко.
Я несколько раз повторил: перед ней – красноречивый итог революции. Бердяев в изгнании, Сталин – в Кремле. Но все аргументы недорого стоят, когда есть желание обмануться. Тем более что дочь моя стала женою советского дипломата.
Последний раз мы столкнулись в Риме, в кафе, я сидел от них неподалеку. Я неприметно ей улыбнулся, она неприметно качнула ресницами. Она была с мужем и, очевидно, оберегала его от встречи с подобным родичем – соглядатаи могут быть всюду, риск неуместен.
А дальше все было как в скверном фильме. Спустя много лет привелось узнать – весь следующий день моя Лиза искала меня в столичных гостиницах, во всех побывала, кроме одной – именно той, в которой я жил!
И эта прощальная наша невстреча, и эта постыдная конспирация, к которой мы вынужденно прибегли, немыслимая между отцом и дочерью, казалось, могли ей раскрыть глаза, могли изменить ее решение!
Но нет, ничего не изменили, а может быть, все уже было поздно – есть муж, есть ребенок, «игра ваша сделана», как говорят в таких ситуациях каменносердые господа.
Я долго не мог ей простить отъезда. Когда получил через четверть века письмо от нее, ответил ей холодно и неумно, поныне мне стыдно. Спросил: почему она не писала? Мог бы сообразить – почему. Но слишком сильна была обида за то, что она меня не послушалась и сделала так, как считала нужным. Недаром она была моя дочь!
Мне было худо в то лето в Риме, я понимал: мы больше не свидимся. Я остаюсь на земле один.
Ибо всего за какой-то год до этой разлуки стряслась другая – я потерял моего отца.
Не было в моей жизни месяца страшней июня тридцать шестого. Вся моя неотступная боль, сдавленная железным обручем, сопровождавшая каждый мой шаг, ни разу не выплаканные слезы, вся потаенная тоска, созревшая за десятилетия, все, что в душе моей было смутного, незаживающего, сквозного, все точно хлынуло вдруг наружу.
Где ты, отец? Погоди, не бросай меня. Не оставляй меня одного. И слышал ответный негромкий голос, знакомый призыв: где ты, сынок?
«Где ты?» Я здесь, где же мне быть? Передо мною твои глаза дивной апостольской голубизны. Вижу и легкий румянец щек, они необратимо стареют, упругость словно натянутой кожи куда-то ушла, они оседают.
Как дать тебе знать, что с прежней дрожью я горестно думаю о тебе, что нежность меня переполняет и перехватывает дыхание.
Как спится тебе в твоей пустыне, в твоем государственном саркофаге, и снятся ли тебе наши сны? Видится ли тебе Земля, приговоренная планета? Я тоже скоро ее оставлю вслед за тобою, мой дорогой.
Доволен ты тем, как прожил жизнь? Как все старики, и уж тем более как все легендарные старики, ты, верно, не раз подводил итоги. О, безусловно, – сложилась на диво! Но только простодушные люди, безмерно простодушные люди способны испытывать упоенье. Где почерпнуть способность радованья, когда постигаешь, что остается несколько дней или недель? Хваленая наивность творцов вдруг испаряется, вдруг обнаруживаешь, что мудр, как престарелый змий. Что толку в дарах и щедротах жизни, если она так страшно кончается?
Именно так и произошло. Старость на родине обернулась, в сущности, утратой свободы. Шутки с отечеством нашим плохи. Тяжко пожатье его десницы. А от объятий испустишь дух.
На горе свое, на свою беду, не только за письменным столом – и в жизни ты был человеком сюжета. И ощущал необходимость поставить точку в его конце. Сюжет оказался лукавой ловушкой, конец сюжета – дрянным концом.
Я долгое время не мог смириться с отъездом Алексея в Россию, потом осознал его неизбежность.
Смех да и только! Но мне, его сыну, пасынку, то и дело казалось, что чувство мое сродни отцовскому. Оно позволило мне и понять и извинить его многие слабости, уже непонятные в этом возрасте – его неизжитое тщеславие, готовность к женственной экзальтации и стойкое уважение к силе – лишь этим я мог себе объяснить его увлечение Ульяновым и молчаливый сговор со Сталиным.
Не раз и не два меня посещало неодолимое искушение крикнуть, что он не может, не должен, что он не смеет служить убийцам. Но стоило хоть на миг представить, что довелось ему испытать в роли почетного трубадура, ему, отлично знавшему цену любым политическим вероучениям, всем этим скользким «системам фраз», – и хочется зарычать от муки. Не заслужил он такой судьбы!
… Я перечитывал все, что вышло в те годы из-под твоего пера. Во мне эти страшные призывы покончить с «несдавшимся врагом» уже не вызывают ни гнева, ни злости, ни даже чувства стыда. Ведь сам ты был сдавшимся врагом рябого бандита и изувера. Тебя, кто был мне отцом, не стало. А тот, кто согласился звучать еще одним лающим подголоском этого остервенелого хора, не был тобою – лишь темным подобием того, кого я знал и любил.
Старость твоя была кошмаром, поистине сатанинской смесью из пустоты, ожидания смерти и пытки официальным признанием, почти издевательским превращением живого человека в реликвию. Наш город был окрещен твоим именем, им назван был и театр Чехова, его носили – по высшей воле – главные улицы и проспекты.
Но все эти улицы и города были заполнены нищим людом, приученным к казарменной жизни. Он тоже привык с молитвенным видом упоминать надоевшее имя, сакрализованное тираном. Твой сын, мой несчастный названный брат, ушел при загадочных обстоятельствах. Твоя любимая изменила, стала подругой английского классика, которого ты не выносил, – жизнь давно уже стала адом.
Ты умер в июне тридцать шестого, а уже в августе состоялся первый из московских процессов.
И это не было совпадением. Я был убежден, что ты мешал глухому кремлевскому правосудию. Мешал уже тем, что и теперь, казалось бы, совсем прирученный, способен произнести свое слово.
Я знаю, что ты бы его произнес. Что ты бы нашел такую возможность. Однажды наступает предел страху, терпению, благоразумию, заботе о собственной безопасности. Но дело даже не в этой уверенности. В конце концов, какое значение имеет все твое слабодушие, если никто на этом свете не был так близок, так кровно родствен? Мать и отец? Братья и сестры? Даже смешно вас сопоставлять.
Кто не греховен? И чем я лучше? Если я встану пред Божьим Судом, что я смогу ему ответить? Да, Господи, раз уж ты есть – винюсь! Я не злодей, не палач, не насильник, но человек – и этим все сказано. Сколько же зла из меня изошло! Были не только грешные мысли, были и грешные дела. Я, не желая того, совершил их лишь потому, что жил на земле.
16 ноября
Шли осторожно. Друг за другом. Песчаная дорога глушила наши чуть слышные шаги. Взбесившееся смуглое солнце – такое, наверно, в одном Марракеше! – безумствовало над головами. Они гудели, трещали, раскалывались – легкие широкополые шляпы из светло-зеленого полотна уже не спасали от этого жара.
Чуть поодаль робко жались друг к другу несколько финиковых деревьев, за ними опасливо притулилось чье-то покинутое жилье. «Отличное место для засады» – только и успел я подумать. В то же мгновенье нас обстреляли.
Средь тех, кто хоронил Алексея, была и Мария Игнатьевна Будберг. Когда стало ясно, что нет надежды (ее, безусловно, и быть не могло), власть пригласила Титку к одру. Сталин любил такие жесты. Впрочем, на сей раз все было проще. Думаю, речь шла об архивах.
Наверняка она все отрицала. Конечно, и ее собеседники печально разводили руками: на нет и суда нет, это понятно. Однако ж, если архивы возникнут, такая неискренность не найдет ни понимания, ни оправдания.
Я не пытался узнать от Титки про эти последние часы. Я знал, что она ничего не скажет. Коль скоро она ухитрилась так долго скрывать от отца, что уже давно стала гражданской женой Уэллса, то из нее и звука не выжмешь.
И только четверть века спустя, пять лет назад, когда мы повидались, я задал – нет, нет, не прямой вопрос! – я невзначай обронил намек, обозначавший мой интерес.
Но то был неудачный момент для откровенного диалога. Совсем недавно в далекой Мексике на волю вышел Рамон Меркадер. Тот самый, который своим альпенштоком разворотил голову Троцкого.
Теперь его путь лежал в Россию. Его там ждала Золотая Звезда Героя Советского Союза.
На мой нерешительный полувопрос она не дала и полуответа. И мне оставалось только гадать, сдала ли Титка архивы отца. Впрочем, я знал: ничего не скажет, вильнет своим хвостиком, ускользнет. Она давно уже уяснила: на каждую говорливую даму найдется свой Рамон Меркадер. Такая держава не церемонится. Чувствительность у нее не в почете.
Об этом несчастном испанском олухе я почему-то думал не раз. Сам не пойму, по какой причине. Возможно, потому что он вышел из дьявольских тридцатых годов. Странно! Нет-нет и я возвращался к мыслям об этом обломке трагедии.
Думал о том, как он меряет камеру мелкими нервными шажками, как упирается взглядом в стены, как тянутся дни в мексиканской тюрьме, как тягостны весенние ночи, когда в этот ад доносится запах воспрявшей обновленной земли. Голову дашь на отсечение – она пахнет страстью и женским телом.
О чем он вспоминает в бессонницу, в десятый, в сотый, в тысячный раз? О том, как он впервые замыслил сделать счастливым вонючий глобус? О том, как встретил своих наставников? О том, как отдал себя в их руки?
Или – особенно часто – о плотном, всегда улыбчивом человеке, который из его гордой матери сделал не только свою любовницу, но просто послушную собачонку, готовую ради него пожертвовать решительно всем, даже собственным сыном? Впрочем, и сына он подчинил своей всесокрушающей воле.
И вновь и вновь – этот полдень в августе, багровое небо Койоакана, старик с проломленной головой в кровавой луже, зовущий на помощь. Руки охранников на затылке, собственный рыдающий крик и фыркающее хрипение двигателя – мать, ожидающая в машине, не выдержала, жмет на педаль, срывается с места и исчезает, спасает этого сатану, который сидит на заднем месте.
Да, выходец из грязных тридцатых! Мне повезло, последние годы этого душного десятилетия я снова проводил в Легионе, где каждый новый день мог закончить причудливый сюжет моей жизни. И все же именно Легион помог мне выжить, ибо во Франции мне не хватило бы кислорода.
Я помню, как вернулся в Париж. Мне стало в нем худо, едва я увидел этого двуликого Януса. С одной стороны – показная беспечность, с другой – разъедающий тайный страх.
Шли первые дни тридцать девятого. Мы встретились с Гизом Лотарингским. Случайно, при выходе из министерства. И оба обрадовались друг другу. Немудрено – столько лет не виделись. Решили, что пообедаем вместе.
Китаец стоял, прикрыв глаза, и молча, ничего не записывая, при этом ни разу не переспросив, словно вбирал в себя наш заказ. Он точно не замечал двух полковников, но в этом не было невнимания. Напротив – предельное уважение. Он слушал и в то же время отсутствовал, ничем не стесняя своих клиентов, не отягощая собой.
За окнами тлел январский город. Я чувствовал, что отвык от него. Украдкой я оглядывал Гиза. Естественно, он не стал моложе, однако не слишком переменился. Все та же коломенская верста, та же надменная посадка сравнительно маленькой головы. Но взгляд стал тверже, непримиримей, и снова меня, как знойным ветром, вдруг обдало дыханием силы.
Меж тем – не стоило заблуждаться – карьеры наши не задались. Мы все еще в полковничьем чине. Ровесники нас обошли, преуспели, давно бригадные генералы, а кое-кто взлетел еще выше. Похоже, к нам обоим относятся с какой-то опаской и настороженностью.
Неудивительно, я – чужак. К тому же на карте России два города имеют прямое ко мне касательство. Один из них носит имя отца, это еще не столь подозрительно, зато другой носит имя брата, первого русского президента. Совсем не добавляет доверия. Но вроде бы Гиз безукоризнен, белее лилии – в чем же дело?
– В дурном характере, – бросил Гиз.
Мы медленно подняли фужеры. Было противно, было тошно. Какое счастье, что Легион продлил еще летом мое пребывание в его рядах и я – возвращаюсь! Лишь бы не видеть, как мы сдаем – с такою легкостью – всех союзников.
Поблизости, в разделенной Испании, уже испускала дух Республика. Если бы не мое офицерство, я воевал бы там, рядом с Мальро. И даже боязнь, что я окажусь в одной упряжке с московским диктатором, меня не сумела бы удержать – Гитлер не оставляет выбора. Ясно, что скоро он будет в Праге. Чехословакия после Мюнхена дотягивает последние дни.
Неужто Франция не понимает, что ей грозит? Не понимает. Либо – не желает понять. Да, разумеется, слишком привыкла к послеверсальскому комфорту, но самое главное – нужно сознаться – у Шикльгрубера много сторонников. Кому-то он видится прочным щитом от скифского социализма России, других околдовывает мускулатурой, третьих – антисемитским разгулом. Я уже успел убедиться в том, что Прекрасная Марианна заражена этим сладким недугом.
Мне снова вспомнился возглас Дрейфуса, его предсмертный вздох: «Сколь ни грустно, мои страдания были напрасны». Он прав. Все вернулось и все воскресло. Кроме, понятно, Эмиля Золя. Как он им крикнул в лицо: «Каннибалы!». Нового рыцаря что-то не видно, второе «J’accuse» не прогремит.
Неужто нас так парализовали угрозы ярмарочного шута?
Гиз Лотарингский усмехнулся:
– Он знает, что делает. Мы беззащитны.
Я изумился:
– Вы полагаете?
Да, он уверен. Мы беззащитны. Иллюзия линии Мажино. Надо было механизировать армию.
То было его главной идеей. Он долго пробовал достучаться до наших вершителей судеб. Но – безуспешно.
– Ваша беда, – сказал я, – что вы нас опережаете.
Лестный характер такого суждения его не смутил и в малой мере. Он это знал, а кроме того, был слишком озабочен, чтоб скромничать.
– Вас, но не время, – сказал он мрачно. – Оно упущено. Бесповоротно.
Он был убежден, что Мюнхен – трагедия. И более того – катастрофа. Мы будем воевать очень скоро. Но только уже без помощи чехов и – безусловно – без помощи русских. Конечно, нам адски не повезло в том, что у руля – Даладье. История выбрала человека, который ничем ей не соответствует. Ни дара предвидения, ни мощи, ни воли ответить на вызов времени. Но дело в том, что точно таков же и весь наш политический класс. Изнеженный, эгоистический, пошлый. Уверенный в том, что имеет право распоряжаться участью нации, чей возраст больше тысячелетия. Которая знала и Жанну д’Арк, и Бонапарта, и даже Фоша. Стоит внимательней приглядеться – на всей этой касте печать вырождения. Все надо менять. Начиная с верхушки.
Что удивительнее всего, его мессианская одержимость не вызывала ни раздражения, ни даже улыбки – я понимал: он искренне верит в свое назначение. Мое уважение лишь росло.
17 ноября
Помню Кейптаун и то, как стоял я на зубчатом каменном берегу. Из суши, как из распахнутой пасти, воинственно выпирал острый клык, нацеленный в самую грудь океана.
Я усмехнулся: мыс Доброй Надежды. Надеемся вопреки очевидности. Битва по-прежнему не унималась – какой уже год – на всех континентах.








