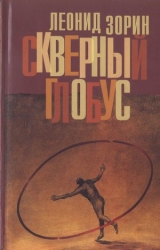
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Многие тысячи, не утаю, как бревна, легли в основание града, легли грядущего нашего ради, увидеть его им Бог не судил.
Горькая правда! Но тут же вспомнишь, что так же послушно ложились в землю все человеческие сыны и человеческие дщери, кои трудились на ней до нас. Мы были их недоступным будущим, так же, как сами мы только прошлое еще неведомого колена. Пращуры томились желаньем прозреть и узнать, каковы же мы, нынешние. А мы гадаем, какими будут те, кто однажды сюда придет – когда-нибудь, чрез долгие лета. Каждому из нас предназначено выйти в свой срок на брег житейский. Стало, и нам на роду написано – сквозь бороды наши увидеть свет и основать на песке и болоте новую русскую столицу.
Она уж не виденье, но явь. Она – словно лик нового века. Сегодня я пишу Вам из града, коего год назад еще не было. Ныне он есть, и я его житель – им и останусь, хоть был я рожден в нашей первопрестольной Москве. Жизнь в Питербурхе, будто сквозная, как на юру, и жилье незавидно. Но приберемся. Я терпелив. Сам венценосный зиждитель, как все мы, живет в домишке с дырявой крышей. Стоило мне увидеть море, почуять мощь его и простор, коих так жаждало втайне сердце, услышать тот зов издалека и отозваться – все стало ясно. Здесь и завяжется весь мой род, который наследует мое имя и тем спасет его от забвения, здесь мое место на сей земле.
Кабы донесся к Вам запах моря! Верьте мне, море будущим пахнет. Однажды по этим волнам вся Русь двинется вдаль, как громадный струг.
Когда ж это грянет? Вы мне сказали, что отчий наш край нам станет отчизной тогда лишь, как боярская слава, терпение и упорство смерда, древняя мудрость и юная дерзость сойдутся не во вражде и не в споре, а в общем стремленьи к делу во благо.
Здесь, в этом граде, вчера лишь рожденном, словно распахивающем врата в иное время, в иные дали, я понял, что Ваша надежда свершится. Думы летучи и переменчивы, нынче – одни, завтра – другие. Надежда – верная наша спутница. Она целительна, плодоносна, как огонек освещает путь.
Недаром мы дождались поры, когда закончилось, унялось это разбойное столетье, страшней которого не бывало, нет ему равных ни по жестокости, ни по пролитию русской крови. Мне точно слышится вещий глас – он предрекает, что этот век будет для нас счастливым веком. Только б нам всем одолеть науку жить независтливо рядом друг с дружкой. Пусть не по-божески – по-человечески! Коль не по-братски, то хоть по-соседски.
Милостив буди, владыка святый! Да ниспошлет он Вам светлую старость, пусть окрыленное сердце Ваше, свободное от сует и скорбей, бьется покойно под черной ризой. Да сбудется все, за что Вы молитесь. Я вижу: из кровавой купели, из наших непрощенных грехов, мы выйдем на себя непохожими, другими, причащенными к истине.
Я верую, уповаю, надеюся. Аз смертный, аз недостойный – надеюся!
Письмо второе
Августа 10 дня 1801
Любимая, как сиротлив Петербург, когда Вас нет в нем, – о, в самом деле, мне остается лишь вспоминать. Вот здесь я ее сопровождал, здесь встретил в полдень, а здесь впервые я, вдруг забывшись, сжал ее пальцы и неожиданно ощутил – возможно ль? – ответное пожатье. Мне всюду слышится звук шагов, который я узнавал мгновенно. Я воскрешаю в послушной памяти Ваши черты, я со смятеньем снова ловлю Ваш тревожный взгляд, в нем я прочитываю сомнение. Хочется броситься к Вашим ногам и повторять, что моя любовь ненасытима и беспредельна, что имя Ваше навеки свято. Верьте мне, верьте, все так и есть.
Я слышу Ваш голос, когда, смеясь, Вы уклоняетесь от поцелуев и просите меня быть разумным. Вы правы, мой друг, разумные люди достойны всякого уважения, особенно сдержанные люди. «Побольше чопорности, славяне», – изволит пошучивать Ваш кузен, подчеркивающий свою англоманию.
Господь с ним. Вы должны мне простить мой жар, унаследованный от предков, пришедших на север из Малороссии. Худо держу я себя в руках. Но есть ли что-либо более странное, нежели чопорная страсть?
Нет, я безумен. Я не боюсь в каждой строке кричать об этом и показаться Вам беззащитным. Пусть так – Вы властны распоряжаться моим помраченьем и мной самим.
С ума нейдет, с какою заботой, смешною и трогательною вместе, Вы вдруг посетовали на то, что появились на этом свете несколькими годами раньше, чем я, Ваш пленник и Ваш служитель. Ежели это имеет значение, то самое для меня привлекательное. Мне доставляет наслаждение подозревать в Вас некую опытность, я с радостью отдаю Вам право водительствовать моим просвещением.
Сколько же будет длиться Ваш траур? Сколько же в Вашей пейзанской глуши будете Вы так безутешно оплакивать Вашего супруга? Счастливцу, который почти десять лет делил с Вами ложе, стоит завидовать – несправедливо о нем скорбеть. Кто знает, быть может, уйти из мира лучше сравнительно молодым, чем старцем, чьей запоздалой кончины ждут с нескрываемым нетерпеньем.
Я сознаю, что изрядно рискую – Вас неприятно удивит темное ревнивое чувство, я не сумел его утаить. Оно неуместно и непристойно. Того, кто внушил его, нет среди нас. Но ревность к прошлому тем и мучительна, что укротить ее невозможно. Зачем меня не было рядом с Вами, когда Вы стояли пред алтарем?
Как скоро воротитесь Вы в Петербург? Он ждет, он тоскует, он вместе со мною считает минуты, торопит время. Вам надобно еще ехать в Москву, чтобы украсить день коронации. Празднество, не озаренное светом столь ослепительной красоты, право же, многое потеряет. Я уж не говорю о себе. Нет, я говорю о себе. Все, что вокруг, для меня померкнет. Даже и сам Успенский собор.
Вы снова укорите меня тем, что я слишком себя люблю. Я снова отвечу, что это не я, что это любовь себялюбива – кроме нее самой для нее нет ничего во всей Вселенной.
Что происходит в Санкт-Петербурге, в брошенном Вами Санкт-Петербурге? Он счастлив, до неприличия счастлив. Он упивается своей радостью, он будто ею одухотворен, напоминая мне человека, чудом избежавшего гибели, еще не верящего в спасение.
Все реже в беседах и table-talks можно услышать имя царя, преставившегося в минувшем марте. Не слышно и толков о том, что ускорило его преждевременную кончину. Жизнь отвратила от смерти лицо свое и продолжает вращение.
По чести сказать, меня это радует. Похоже, мы учимся у французов, которые постарались забыть годы, пролившие столько крови, и казнь своего короля. В людях европейского склада нет нашей склонности к трагедии. Они умеют принять перемены и примениться к обстоятельствам, видеть наш мир, каков он есть, не требуя от него невозможного.
Князь Талейран однажды сказал посланнику нашему: «Тот не знает, как выглядит приятная жизнь, кто не́ жил в Париже до Революции». Эти столь сладкие воспоминания ему не мешают служить корсиканцу. А тот считает князя изменником, о чем объявляет, не церемонясь, при этом сделав его министром внешних сношений, ни больше, ни меньше! Как видите, Бонапарт уверен, что ум и талант заслоняют преданность. Ну что же, изменник зато подписал выгодный договор в Люневилле. Ловкость полезнее добродетели.
И все же я заклинаю Вас: не поступайте, как Бонапарт, мне-то ведь нечего предложить Вам, кроме своей нерушимой верности. Таланта в себе я не нахожу, а ум? Какой же ум у безумца? Он видит на свете одну ее.
Нет, мудрость галльская не про нас. Мы изнурительно серьезны, наша история учит страданию, и, кажется, мы полюбили страдать. Нам трудно вспомнить приятную жизнь, какая была у господ парижан до дня, когда они взяли Бастилию. Поэтому пусть князь Талейран и впредь изменяет мятежной Франции, я буду Вам предан, пока дышу. И пусть политическая наука обязывает быть терпеливым, я больше не в силах ждать той минуты, когда Вы прервете свою епитимью. Ну что мне Франция и Париж, если Вас нет со мной в Петербурге?!
Но я отвлекся. Я уж сказал, что Павла стараются не поминать, всюду звучит другое имя. Каждое слово и шаг Александра множит число его почитателей. К тому же он прекрасен собою. Одно очарованное созданье, столь же прелестное, сколь восторженное, воскликнуло, что счастливой России явился «порфироносный ангел». Я, разумеется, меньше подвержен влиянию мужской красоты (слово «влияние» нынче в моде – новый подарок Карамзина), но должен признаться, что юный Август делает сильное впечатление. Впервые властитель, взошедший на трон, сам объявил себя либералом. Впервые возвестил, что в России есть место необходимым свободам.
Это не просто красивые речи, за ними последовали дела. Царь, слава Богу, не одинок. Рядом такие же молодые и сходно мыслящие сподвижники. Нет нужды представлять вам особо ни Кочубея, ни князя Адама. Отличные качества их известны. Но и другие – достойные люди, знающие, чего хотят.
Первые плоды их энергии красноречиво о том свидетельствуют. Не существует боле запрета ввозить в Россию книги и ноты, дозволены частные типографии. Но объявления о продаже крестьян без земли запрещены – отныне мы наконец избавлены от этого постыдного чтения.
Нет больше Тайной Экспедиции, этого пугала людей, повинных лишь в том, что дерзают думать. Зато возвышается роль Сената – ему надлежит определить свое положение и деятельность.
Кроме того, отдельная новость для вашего чопорного кузена – в июне подписана конвенция о дружбе с Англией, столь любезной его воспитанности и вкусу.
Я изложил лишь малую толику, сделанную в первые ж дни, – как видите, семена Лагарпа с его гельветической моралью попали на достойную почву и ныне торжествующе всходят.
Я чувствую, что в новом столетии наше отечество воплотит свое высокое предназначение, ему предстоит завидная будущность (еще одно слово Карамзина). Когда богатырь начнет движение, Юрьева дня окажется мало. Вы скажете мне: очнитесь, друг мой. Мало ль вам Разина и Пугачева? Один возжелал нестесненной воли, другой потребовал себе трона, но оба во глубине души мечтали о мщении и расправе.
Не спорю. Но в том и суть, чтоб народ не сам добывал желанную вольность. Когда наконец она будет дана ему и утвердится в его повседневности, как нечто природное и изначальное, то сам он с готовностью примет границы, согласные с разумом и правом. Да, некоторые горячие головы твердят об «общественном договоре». Но я предпочел бы жить на земле под сенью «естественного закона». Он и надежнее, да и выше, нежели «contrat sociale». Не потому ли еще Лукреций так уповал на «порядок вещей»? Не для того ли Солон и Ликург обуздывали законами страсти? Стоит ли ждать рокового дня, когда человеческая натура, униженная и уязвленная, отдаст себя во власть исступления?
Я точно вижу Вашу улыбку, с которой Вы напомните мне, что европейское жизнеустройство не вяжется с нравами россиян, хотя все люди несовершенны, как доказали это французы в последнее десятилетие века. Вам, госпоже моей души, скажу, как на исповеди: я с содроганьем думаю о судьбе Людовика, так же, как и о казни Карла, топор с гильотиною мне внушают одно отвращенье, но… я понимаю желание наций жить без кумиров, столь же достойное, сколь безнадежное – жить без кумиров они не умеют. Кромвель, властолюбивый и грозный, был тот же король, да и сам Бонапарт, в сущности, уже венценосец – поверьте, он себя коронует быстрее, чем Франция сообразит, что произошло и возникло из грома орудий при Вальми и гордого зова ее Марсельезы. Ибо стремление к верноподданности и к преклонению перед идолом – едва ль не в крови Адамова рода. Спасение для него все то ж: законы при твердом их исполнении.
Кто знает, быть может, как раз Россия окажется избранной Провидением, чтобы явить пример человечеству? Наша история беспощадна, таков же и осьмнадцатый век.
Ведет ли неведомый летописец суровый и неподкупный счет неисчислимой чреде всех жертв – всех павших, зарубленных, умерщвленных от дней Петровых до сей поры?
Нет, неспроста, не игрой совпадений с яицкого дальнего берега дошел до Казани лихой казак, едва не спаливший дотла империю.
В этой чудовищной русской смуте, поспешно названной пугачевщиной, чернь явила, на что готова и, хуже того, на что способна. Сколько унес ненасытный мор в небытие безымянных душ – кто это знает и кто сочтет? Ах, дешева в России жизнь!
Простите. Я вновь твержу все то же – безумие жить как ни в чем не бывало, меж тем как соотчичи наши все копят в недрах сердец обиду и ярость.
Но в этом безумии мы упорствовали, оно для нас стало почти привычным. Четыре года правления Павла разве не кажутся неизбежными и – сколь ни горько! – почти естественными?
Время опомниться и прозреть. Тот, кто захочет нас уязвить, скажет, что минувшей весной мы шли по якобинскому следу, облитому монаршею кровью. Но что совершилось, то совершилось. Право же, смерть от удара Брута более подобает Цезарю, нежели гибель на эшафоте под клики остервенелых подданных. Пусть недруги радостно укорят нашего юного государя в грехе попустительства, я воздержусь. Павел безжалостно преградил России путь ее, он самовольно остановил ее развитие, больше того – направил вспять. Если и впрямь молва не лжива и сын дозволил, замкнув уста, переступить чрез это препятствие, то, может быть, здесь таилось мужество, которое другим недоступно, некая высшая самоотверженность? История судит об избраннике не по первому, а по второму шагу, как и о ле́тах, в которых ему назначено Промыслом жить и действовать. Мы еще удивим человечество.
Довольно. Сей громоносный осьмнадцатый закончил круг свой, пусть царская смерть, ужасная, но никем не оплаканная, станет прощальной его конвульсией. Что бы то ни было, но ведь в нем мы появились на Божий свет, в нем встретили однажды друг друга и поняли – со страхом и счастьем, – сколь быстротечные наши жизни зависимы одна от другой. Будем за то ему благодарны.
Забудем ту мартовскую ночь, последнюю ночь почившего деспота. Хочу рассказать о совсем иной, недавней – я до зари метался, но сон не шел, до него ли было? Думал с восторгом и упоением лишь об одном: какое же чудо – создание, подобное Вам. Стоило побледнеть небесам, я выбежал на спящую улицу, дом показался мне темницей, дольше не мог я в нем оставаться.
Пуст и торжествен был Петербург в пленительный предрассветный час. Город был схож с предстоявшей мне жизнью, с громадным еще непочатым веком, в котором так много должны мы содеять. Во всем, что дышало окрест меня, было присутствие начала. Начало дня. Начало столетия. Начало всего, что должно возникнуть.
Я думал о том, как я еще молод, о том, как долог еще мой путь. Что жребий мой, верно, отмечен Богом, если любовь к совершенной женщине сливается с любовью к стране, которой отныне я не стыжусь. Какая фортуна, что нашей младости выпало столь же младое время!
Еще никогда с такою дрожью, с таким волненьем я не смотрел на несравненную першпективу. Сияла стрела адмиралтейства, а из него, как из колчана, веером вырывались наружу и разлетались в разные стороны сразу и Невский и Вознесенский. Первые нежные лучи, как кистью, золотили волну. Чудилось, что на всей земле, сколько ее ни есть на свете под этим неоглядным шатром, бодрствую лишь я один, чтобы стеречь, как зеницу ока, тайну и волшебство Петербурга.
Он так еще юн! Для города век то же, что миг для человека. Но, право, он станет еще прекрасней в тот день, когда Вы в него вернетесь. «Моей надежды робкий глас, быть может, досягнет до Вас», и Вы не обманете упованья.
Надежда… Благословенное слово! Пусть осенит оно нашу жизнь, наш царственный город, нашу Россию. Покойный отец все повторял: «с надеждою легче оставить мир». Нынче я смог бы ему ответить: с надеждою в нем сладостно жить…
Письмо третье
3 ноября 1904
Санкт-Петербург
Прежде всего, дорогой отец, прошу извинить непутевого сына за то, что он задержался с ответом. Тому существуют свои причины. И самая первая – та, что ответить мне было непросто, совсем непросто. Отделаться отпиской негоже, Ваше письмо ее не заслуживало, решиться на честный разговор не так-то легко, заранее знаешь, что все равно не будешь услышан, а исповеди мне не даются. С детства привык к укорам в скрытности.
Впрочем, они были нечасты. Вы не вымогали признаний. И никогда не читали нотаций. Поэтому начну с благодарности.
Спасибо Вам за Ваше письмо. Вкушая отдых в веселой Вене, слушая Моцарта и Вальдтойфеля (первого – с молитвенным трепетом, второго – с истинным удовольствием), Вы оторвались от их мелодий, чтоб изложить мне все, что Вы думаете.
Итак, повторюсь, я благодарен. Не только за дары Вашей мудрости. За все. За беспечное малолетство, за отрочество без внешних забот, за юность в традициях нашего рода. Да, он скудеет, но ведь достойно.
С Вашим умеренным достатком Вы не жалели любых усилий, чтоб жизнь единственного потомка сложилась ничем не хуже Вашей и оказалась – во всех отношениях – столь же изящной и опрятной. Мне остаются лишь два-три шага, чтоб стать наконец адвокатом-тенором и совместить свой гражданский жар с парадом петербургских сезонов, а политические процессы – с плесканьем рук и бросаньем чепчиков вакхических дев и восторженных дам.
Нет спора, Вы вправе были рассчитывать на то, что однажды я Вас порадую. Ваша опека была тактичной, мои суждения Вы встречали не возражением, а улыбкой. Хотя, сказать по правде, полемику я предпочел бы Вашей иронии. Последняя безусловно обидней для неокрепшего самолюбия.
Эта усталая улыбка, полная грустного всеведенья, сопровождала всю мою молодость. У нас с Вами – не то что у Лермонтова – не было «горькой насмешки сына над промотавшимся отцом». Всегда – не таящая превосходства, горькая усмешка отца над глупым и запальчивым сыном. «Дружочек, теория стройна, но больно уж криво древо жизни».
Сначала я пытался, как мог, отстаивать свои убеждения. Мне было странно и непонятно, как можно отрицать столь бесстрастно то, что естественно и очевидно. Я объяснял это только тем, что плохо нахожу аргументы. Я простодушно не понимал, что истину чаще всего отвергают не потому, что ее не видят, а потому, что она неприятна.
Попробуйте сокрушить улыбку! Немыслим никакой поединок. Всего только раз Вы удостоили мой долгий сбивчивый монолог небрежной, презрительной оценки: «Какое невыносимое зелье! Две ложки возвышенной хомяковщины, четверть стакана густой желябовщины и несколько усыпительных унций немецко-еврейского марксизма. Поистине поносная смесь!»
Эта брюзгливая дегустация, похоже, исцелила меня от всякой надежды на понимание. Я не мечтал об единомыслии, но я и сочувствия не дождался. Вы строго соблюдали дистанцию.
Вы неслучайно мне объяснили Вашу неприязнь к Москве и предпочтительность Петербурга. Начали с шутки: Москва холмиста и соответственно – беспорядочна, а Петербург хорош прямотой. Потом признались – Вас утомляет это московское амикошонство, все петербуржцы лучше воспитаны.
О, разумеется, Петербург так же неприступен, как Вы, – держит людей на расстоянии. Я не пытался Вас оспорить. Зряшное дело – напоминать Вам: холод всегда остается холодом, даже сопутствуя великолепию. В последнем всегда читается вызов, несносный для убогой страны. Вот отчего меж мной и столицей не родилось взаимного чувства.
Прошу поверить, что я нимало не сетую ни на нее, ни на Вас. С детства я помню Ваши слова: «плакаться – не дворянское дело». Просто поныне я не пойму, как человек такой проницательности, столь чуткий к несовершенствам ближних, не видит незаслуженной участи униженной, несчастной земли. Когда я однажды спросил Вас прямо, чувствуете ли Вы, в самом деле, мучительное родство с Россией, я лишь услышал, что Вы, как Герцен, однажды из России бежали. Но не в далекий, чужой вам Лондон, а в русскую литературу.
Не скрою, сперва это показалось очередной изысканной шуткой. Но Вы терпеливо растолковали: литература – это реальность. Русская литература в особенности. Она такая ж страна, как Россия, но более яркая, более страстная и, разумеется, более умная. В отличие от российского хаоса мы видим в ней законченность формы. Можно ль сравнить огонь ее чувств с тусклой томительной повседневностью наших уездов и волостей? Можно ли сравнивать людей, созданных творческой энергией, с теми, кого творят недоноски? А как иначе оценишь ближних?
Ваше роскошное высокомерие несокрушимо, но речь не о нем. Поговорим о русских писателях. Об их убежденности в своем праве учительствовать, судить и вещать. Об этой неизлечимой претензии на миссионерскую роль.
Естественно, есть неприкасаемые. Пушкин. Но Пушкин давно уже памятник. Чем он отличен от полководца, тоже запечатленного в бронзе? В сущности, он и сам фельдмаршал.
Некрасов? Пожалуй что в нем и впрямь была эта «общая капля крови», общая с нашим русским горем. Она и зажигала его и тяготила (еще сильнее). Увы, сегодня вполне очевидна скромность отпущенных ему средств.
Любимец Ваш, граф Алексей Константинович, был не лишен очарования, тем более для господ пересмешников, привыкших вальсировать на грани, которая отделяет иронию от неприкрытого цинизма. Вам ведь не могут не импонировать эти презрительные ухмылочки, сквозящие чуть не в каждой строке. «Если он не пропьет урожаю, я тогда мужика уважаю».
Его знаменитый однофамилец к виньеткам не склонен – чревовещает. Взошедши на яснополянский Олимп, учит, как до́лжно думать и чувствовать, как следует вести себя в обществе. Поверьте, я ему сострадаю. Все моралисты, раньше ли, позже ли, приходят к горькому осознанию бессилия любых заклинаний.
В ответ Вы, естественно, вспомните Чехова. Все так, он проповедником не был. Во всяком случае, откровенным. Свои наставления преподносил в милой лирической упаковке. Вас огорчила его кончина. Да, грустно. Но трудно не разглядеть, что незаслуженно ранняя смерть совпала с литературной смертью, пожалуй, наоборот, припоздавшей. В последних вещах он то повторялся, то модничал, писал о неблизком, хотел догнать уходящий поезд. «Вишневый сад» – перепев Островского. Хотя бы тех же «Бешеных денег». А все эти сумеречные вздохи на фоне комических персонажей! Все эти ернические фамилии! О, Господи, Симеонов-Пищик. Или конторщик Епиходов. И непременная символятина. Фирс. Дореформенная Россия. «Воля – несчастье». Забытый раб. Хуже всего – молодые люди, которых он не знает, не любит. Высокопарны, фальшивы, напыщенны. «Здравствуй, новая жизнь!» О, боги! Кто же так декламирует в жизни? Искренность, неподдельный порох он обнаруживает тогда, когда приходит черед лакея. Вся неприязнь к «простонародью», отчасти спрятанная в Лопахине, тут вырывается на поверхность.
Общий недуг всех русских писателей, пусть они даже клянутся в любви к «меньшому брату». Себя не обманешь. Меньшого брата они боятся. И разночинец еще пугливей, нежели наш брат – дворянин. Хочет забыть, и забыть навеки, где он возрос, откуда родом. Всех исступленнее Достоевский – этот и вовсе не постеснялся запачкать целое поколение.
В этой извечной народобоязни (от коей лишь шаг до «народобесия»), в ней-то и зарыта собачка! Легко и просто сказать в застолье, что умный и деятельный плебей Вам ближе любого аристократа, нелепо зараженного спесью, бессилием мысли, душевной ленью. Легко и просто любить народ на расстоянии, в отдалении, как это принято в Петербурге. Труднее оказаться вблизи. Уж слишком неароматно пахнет. «Говором пьяных мужиков», тронувшим лермонтовское сердце, Ваше – скорей всего оскорбишь.
Впрочем, и умиление Лермонтова тоже ведь – взор издалека, из Вашей «обители чистых нег», в которой «усталые рабы» прячут свой страх и свою брезгливость.
Мысленно вижу, с каким трудом Вы подавляете негодование. Что за мальчишеская заносчивость! Бросить подобное обвинение самой человечной словесности! Разве же не она воспела наших униженных и оскорбленных?
Не возмущайтесь, она, она. После того как Рылеева с Пестелем вздернули на гласисе крепости, русские авторы возлюбили всяких Башмачкиных да Поприщиных и прочих станционных смотрителей. В пору писательского дебюта Ваш обожаемый Достоевский думал всерьез, что бедные люди – это безропотные Макары. Понадобилось в колпаке осужденного ждать смерти от руки палача, понадобились острог и падучая, чтоб наконец ему приоткрылась хотя бы малая часть реальности.
Кстати, я втайне подозреваю, что Вы вместе с Вашими однодумцами простили отечественной полицейщине это стояние на эшафоте. Что там ни говори, а оно все же существенно отразилось в творчестве нашего ясновидца. Жизнь коротка, искусство вечно. Все, что способствует и споспешествует самой гуманной литературе, будет – пусть с горечью – переварено.
Не гневайтесь, я должен оспорить Ваш эстетический императив. Славный писатель так и не понял, кто же такие «бедные люди». Раскольниковы, сменившие Девушкиных, к ним отношения не имеют. Так же, как юные радикалы, заставившие его трепетать. Сперва он обезумел от страха и настрочил в своем пароксизме донос на русскую молодежь, потом топил в поповском елее и апологии смирения собственную мятежную юность. Бедных людей он не постиг ни в Петербурге, ни в мертвом доме, ни проигравшись в пух в казино.
Ибо они не таковы, какими их пожелало видеть его изнуренное воображение. Бедные люди – не рабские души, не парии, не горячие головы. Бедные люди и есть наша Русь. Такая, какая она на деле. Во всех своих городах и весях. Бедные люди не знают грамоте, а коли знают, то недостаточно. Не пишут ни трогательных посланий, ни манифестов, ни рефератов, не спорят о Прудоне и Ницше. Зато они нутром ощущают, кто друг, кто им враг и с кем идти. Они не терпят ни покровительства, ни барских всхлипов, ни «чувства вины» нашей отзывчивой интеллигенции. Они инстинктивно не принимают ни унизительного участия, ни фанатической экзальтации, замешанной на потребности жертвы. Так и не понятым бедным людям нужны отныне не воздыхатели и не трагические актеры. Бедные люди не великомученики и уж тем более не зрители. Они не намерены больше служить строительным материалом истории, они намерены ее делать. Стало быть, им надобны те, кто их научит этой работе. Никак не господа литераторы.
Впрочем, случаются перекрестки, когда и поэту может достаться поистине высокая роль. Сумел же однажды Руже де Лиль вручить Революции ее песнь!
Я знаю, что Вы не любите Горького. Вас злит читательский интерес к этой шокирующей фигуре. Вчерашний босяк в косоворотке. Пишет о всяких золоторотцах. Очередная гримаса моды. Романтизация лохмотьев. И все же не могу умолчать о первом представлении «Дачников», на коем удалось побывать. Оно состоялось пять дней назад в новом театре Комиссаржевской.
Первая чеховская чайка, призвавшая автора «Буревестника» в только что свитое гнездо! В этом уже был особый смысл, сразу же сделанный ясный выбор.
Вряд ли забуду я этот вечер. Пьеса написана и одаренным и независимым человеком. Свободным от опаски коллег не угодить аудитории. Не озабоченным, чтоб приглянуться ни тем, кто делает репутации, ни вечным добровольным клакерам. Быть может, впервые в партер и ложи, заполненные премьерной стаей, на завсегдатаев, на борзописцев, на просвещенных коммерсантов, на снобов, на всех этих дачников жизни со сцены упали слова, прогремевшие, как объявление войны.
И зрители, обычно вальяжные, привыкшие себя уважать, внезапно утратили равновесие, почувствовали, что их раскусили, разгрызли, вывернули наизнанку. Их ропот клубился все различимей, нервнее, отчетливей, было понятно: одновременно с последней репликой раздастся протестующий вой.
Но тут случилось непредугаданное: Горький явился из-за кулис. Вышел почти на самый просцениум, молча скрестил на своей груди крепкие мужицкие руки, и публика, готовая к свисту, к шиканью, словно поджала хвост, словно увидела вдруг хозяина. А он, точно вросший ногами в пол под ярмарочным сияньем люстр, вломившийся в этот смешной, нарядный и напомаженный мирок из темных и мрачных глубин России, лишь озирал тяжелым взглядом как по команде притихший зал. И, как гонец незримого войска, он будто возвещал: мы идем.
В тот миг я мысленно усмехнулся: и эту пославшую его силу почтенные светильники разума всерьез рассчитывают умилостивить постройкой школ и участием в переписи? Земством и судами присяжных? О, боги! Неужто и мой отец?..
Похоже, что так. Не за эти ли школы и прочие благости в том же роде Вы столь толерантны к минувшему веку? Еще бы! Ведь на его исходе закрылся наш невольничий рынок! С еле заметным опозданием, всего на какие-то пять-шесть столетий, курьерский ушел со станции Русь.
В отличие от Вас я не знаю еще одной подобной эпохи, столь щедрой на кровь, на испытания и на растрату народных сил. Так много претензий, так много падений. Виселиц. Солдатских могил.
Грязный, больной, лицемерный век! Есть чем потешить русскую гордость.
Трижды растаптывали свободу. Однажды – венгерскую, дважды – польскую. Чудом не полезли в Сардинию. Долго и страшно терзали Кавказ. Как истинных властителей дум, молитвенно слушали прокуроров и подмораживали страну.
Нет, мало поводов быть благодарным. Их еще меньше, чтоб обольщаться этим придворным либерализмом. Смерть Александра, столь верноподданно провозглашенного Освободителем, позволила не скрывать своей ненависти даже к мечте о другой России.
Обыкновенная история. В духе покойника Гончарова. Выбор у всей Вашей генерации был драматически невелик. Благонамеренное скотство или салонное мефистофельство – Вы предпочли второй вариант. Впрочем, иного не остается, если ты хочешь ужиться с властью.
Вот так мы расходились все дальше, не объявляя о том друг другу. Родство наше все больше слабело. Я понимал, что все Ваши шутки и снисходительные улыбки, Ваше ленивое одобрение «тихих шагов» и «полезных дел» вызваны Вашим отцовским чувством, желанием оградить птенца. Я это понимал и молчал.
Долее молчать невозможно, хотя нелегко причинить Вам боль. Но жизнь моя изменилась круто. Нечего делать – птенец подрос.
Вы поняли. Я ухожу в движение. Не бойтесь, я не хочу умножить своей незначительной особой орден отечественных самураев, избравших стезей и судьбой террор. Нельзя не испытывать уважения к готовности повиснуть в петле, но это – уважение к жертве, к напрасному подвигу, к обреченности. Это совсем не то уважение, которое всегда вызывает прочное обладание истиной, сознание своей правоты. Так уважают лишь победителей. Бомбисты мечены поражением. Оно сопутствует им исходно, оно созревает в составе их крови. В каком-то смысле они – его дети, с ним они явились на свет. Тайна, которой они отгорожены, их избавляет от необходимости достаточно тесно общаться с народом. Им легче отдать за него свою молодость. «Бедных людей» они не знают, так же, как не знаете Вы и Ваши любимые беллетристы.
Мы, обладающие терпением, необъяснимым для бомбометателей, и верой, недоступной для Вас, мы знаем, с кем мы имеем дело, видим народ, каков он есть, и потому он пойдет за нами. Помните ль Вы: ураганный ветер называется питераком. Над Питером задул питерак.








