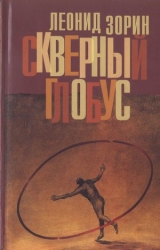
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
– О чем задумались?
– Я вовсе не думаю, я жду.
– Чего вы ждете?
– Как вся планета, я жду глобального потепления.
И тут же осаживает себя: «Оно тебе надо? Язык твой – враг твой. Тут даже не Валентина Михайловна. Еще ни разу ты не бывал в такой рискованной ситуации. Очень похоже на мышеловку».
Ольга вздыхает:
– Прекрасный Герман, сбросьте мировые проблемы с усталых плеч, добейте креветки. Тем временем и климат изменится.
«Все замечает. Как Валентина. Но та многоопытна. А эта? Чутье на генетическом уровне. А в общем, расслабься и ешь креветки». Вдруг вспоминается старая песенка. Не то он о ней читал, не то слышал. «Мы ловили креветок на берегу залива, забыв о кораблях неприятеля». Славная песенка. Непохожа на виттову пляску старого грека в его чесучовой цветной ливрее. Забудем о кораблях неприятеля.
Она покачала дегтярной башенкой. И вдруг спросила:
– Не охренело?
Она права. Ему охренело. Но он не признается. Ни-по-чем. Было бы попросту неучтиво. Невежливо. Ибо все оплачено. Эта новогодняя ночь. Стол на двоих. Эти бармены, сбивающие в танце коктейли, этот юморист и сатирик и этот хриплоголосый гриф. Лецкий сказал:
– Я смотрю на вас. Все прочее не имеет значения.
Она кивнула:
– Пора по домам. Идемте, Герман. Я вас заброшу.
Машина неслась по озябшей Москве сквозь первую январскую ночь. Летели нахохлившиеся улицы среди накренившихся темных зданий, позволивших нынче себе позабыться. Теперь они медленно возвращались к привычному будничному ритму, как будто выдохнули из легких застрявшее ожидание праздника. Стояли молчаливые, строгие, уже начавшие новый отсчет нашей короткой круговерти. Дорога то вилась, то ломалась, то вновь вытягивалась в струну.
Лецкий украдкой смотрел на Ольгу. Она сидела прямая, суровая, едва касаясь ладошкой руля, не поворачивая головки. «Похоже, что чем-то она раздосадована, – подумал Лецкий. – Скорее всего, почувствовала, что ее спутник какой-то чудной. Не в своей тарелке».
Он вновь привычно – так это часто случается в последнее время! – увидел город, в котором родился, грязную улочку, темные комнаты, подслеповатые потолки. Ах, боже ты мой, скажите на милость, какая комиссарская грусть! Жил в криминальном двадцатом веке, верхушка его была преступна, все совестливое обречено, и вот – извольте! Вдруг обнаруживаешь в этой общаге свою щекотку. Он вспомнил кособокую лестницу с почти накренившимися ступеньками и еле не выругался от злости.
Но тут в сознании вновь возникли недавно припомнившиеся слова: «Ночью, при робком свете луны, мы ловили креветок на берегу залива». Он повторил про себя беззвучно: «креветок на берегу залива». Потом озабоченно добавил: «забыв о кораблях неприятеля».
– Приехали, – бормотнула Ольга.
Лецкий придал своему голосу приличествующую минуте прощания меланхолическую интонацию:
– Печально. Благодарю вас за праздник.
Она наконец к нему повернулась:
– Не пригласите меня к себе?
Он подумал: «Мне дорого обойдется это новогоднее действо».
– Дитя мое, – произнес он мягко, – что делать старому человеку, когда ребенок теряет голову?
– Последовать примеру ребенка, – она рассмеялась. – Который давно уже не под охраной прокурора.
«Если бы речь шла о прокуроре, – вздохнул он про себя. – Дело хуже».
Она нетерпеливо сказала:
– Пауза неприлично затягивается.
«Была не была», – подумал Лецкий.
И рассмеялся:
– Тогда вперед.
10
«Ваша партия, ваша опора, ваш глас!»
Примерно в середке февраля в ветреный, ломкий, стеклянный день, когда неожиданно вдруг почудился полузабытый запах весны, Лецкий возник в обиталище Жолудева.
– Есть разговор, – произнес он торжественно. – Я должен вам кое-что объявить.
Жолудев знал, что день наступит. Лецкий не раз ему намекал, что вскорости Иван Эдуардович уже не будет носителем тайны, но было смутно и непонятно, какими же станут его обязанности. С одной стороны, привлекала возможность избавиться от груза секретности, с другой же – всякая перемена грозила нарушить привычный статус. «Не то я труслив, не то пуглив, – безрадостно убеждался Жолудев, – меня угнетает неизвестность».
То, что ему возвестил сосед, повергло Жолудева в смятенье.
– Иван Эдуардович, соберитесь, – сказал с воодушевлением Лецкий. – Восторженно замершая Россия готова воззриться на вас, как столетия смотрели с египетских пирамид на грозный профиль Наполеона. До наступления апреля осталось меньше полутора месяцев.
У Жолудева перехватило дыхание.
– Что будет в апреле? – спросил он робко и ощутил холодок меж ребер.
– В апреле вы выйдете из подполья. Начнется новый виток истории, – проникновенно промолвил Лецкий. – В истории партии «Глас народа». В истории вашей аудитории. И в вашей персональной истории.
– Что это значит? – Иван Эдуардович напрасно силился улыбнуться. Улыбка должна была показать, что он, безусловно, владеет собою, должна была вернуть ситуацию в пределы бытовой повседневности и, наконец, его успокоить. Однако улыбки не получилось – на белые губы вспорхнула гримаса.
Лецкий вздохнул и мягко сказал:
– Иван Эдуардович, дорогой, вы же не можете утверждать, что можно вас прятать до бесконечности. Нужно товар показать лицом. «Цитата из Матвея Мордвинова, – подумал он, мысленно усмехнувшись. – Стиль делового человека».
Он поглядел на притихшего Жолудева с братским участием и продолжил:
– Игра затянулась, она заканчивается. Пора обнаружить искомый предмет. Вернее – искомого человека. Вы превосходно взрыхлили почву – имею в виду народную душу. Она готова, она вас ждет. Ваш голос давно вошел в дома, давно стал привычной частью быта. Слушатели хотят увидеть того, кто отныне их поведет.
– Позвольте, – остановил его Жолудев, – но я ведь неоднократно подчеркивал, что партия не имеет лидера.
– Все это до поры до времени. Срок настает, становится ясно: может и собственных Невтонов российская земля рождать. Лидер явился, лидер возник. Соткался из колебаний воздуха.
– Да вы смеетесь, – воскликнул Жолудев. – Какой же я лидер?
– А кто он, по-вашему? Маврикий Васильевич Коновязов? Ошеломительный господин. Друг мой, ведь мы с вами не младенцы и понимаем, что «Глас народа» неотделим от вашего голоса.
– Мой голос – это еще не все. Необходимы другие качества.
– Они у вас есть, – заверил Лецкий. – Вы думаете, что к вам не присматривались? Вас изучали серьезные, опытные и прозорливые господа. Вы просто себя недооцениваете. Не видите даже, как вы изменились. Былого бесхребетного Жолудева давно уже нет – явился другой. В нем появились металл и воля. Не говорю уже о кругозоре, чувстве истории и человечности. Больше того, я умолчу о вашем бесспорном мессианизме. Вы тот, кого ищет и кого хочет, с надеждою ждет рядовой человек. Осталось задать себе вопрос. Главный решающий вопрос: кто же? Если не я, то кто же?
– Вы просто гипнотизер, – сказал Жолудев.
Но он понимал, что не в силах противиться. Скорее всего, соблазнитель прав и он разительно изменился. Он так привык выходить в эфир, что вряд ли мог теперь обходиться без этого странного наркотика. Его былая келейная жизнь стала бы невыносимо пресной. Теперь ему предстояло новое необходимое перемещение – из скрывшей его радиостудии в разоблачающий телеэфир. Его оценил и принял слушатель. Осталось завоевание зрителя. А в будущем, видимо, ждет трибуна. Что делать? Он попал в колесо. Оно вращается, крутится, вертится, несет его в вечном своем движении.
Скорее всего, что отнюдь не случайно, после той встречи Нового года вошла в колею и частная жизнь. Отныне каждое воскресенье обедал он в квартире Сычовых. При этом Геннадий строго следил, чтоб этот ритуал соблюдался. Однажды, по воле обстоятельств, Жолудев записал выступление именно в этот обеденный час. Он объяснил, что сегодня он занят. Геннадий сердито запротестовал – режим есть режим, дела подождут. Казалось, что присутствие Жолудева стало ему необходимо, вносит в его семейную жизнь некую необычную ноту. Этот дразнящий тревожащий звук разнообразил привычный быт. Он часто допытывался у Жолудева, что думает тот о различных сюрпризах и разных внештатных ситуациях, расспрашивал с подлинным интересом, однако все время к нему привязывался, то откровенно задирал, то простодушно самоутверждался. Неутомимо напоминал, что путь в наладчики был непрост, рассказывал, как работал гранитчиком, был полировщиком, и в Метрострое трудился чеканщиком в камере съездов. Не было работы труднее, важнее и, наконец, ответственней чеканки швов меж чугунными тюбингами. Любая небрежность – пройдет вода. Тогда приходится расчеканивать. Вот уж мучение, так мучение. Порода – она тверже железа.
Вера Сергеевна больше не нервничала, была улыбчива и спокойна. Следила, чтобы мужчины не спорили – «не спорьте, мальчики, лучше ешьте». Следила, чтоб Жолудев не церемонился – «кушайте, Ванечка, побойчей, что-то вы нынче неважно выглядите».
– Лучше на себя посмотри, – ворчал Геннадий.
Ворчал по делу. Вера Сергеевна худела, двигалась медленней, уставала.
– Не понимаю, о чем она думает, – печалился Жолудев.
– И не поймешь, – невесело усмехался Геннадий. – Не слышал – чужая жена потемки.
Потом добавлял:
– И своя – тоже.
Эта ревнивая интонация по-своему радовала Жолудева. Странное дело, он сильно тревожился за состояние Веры Сергеевны, настаивал, чтобы ее показали квалифицированным специалистам, но знать, что он и любим и дорог и муж понимает это и терпит, было ему необходимо.
Такое смирение Геннадия, известного петушиным нравом, равно как упрочившееся положение в семье соседей, он истолковывал в лестном для собственной личности смысле. То, что сказал ему Герман Лецкий о чудодейственном преображении, которое так его изменило, вполне совпадало с его самочувствием. Да, несомненно, он стал иным. Больше того, Геннадий чувствует, с кем он теперь имеет дело. И чем безотчетнее это чувство, тем безусловней его воздействие.
Подобные сладкие размышления были приятны и грели душу, однако Жолудеву хватало и нескольких минут отрезвления, чтобы призвать себя к порядку. Так думать постыдно для человека, который намеревается стать печальником народного горя, так ощущать постыдно вдвойне! Он должен трудиться денно и нощно, чтобы исчез и стерся зазор меж ним и рядовым человеком, чтоб в их единстве не ощущалось ни искусственности, ни тем более фальши.
Дома он долго стоял у окна и вглядывался в февральские сумерки. Апрель уже, в сущности, не за горами. Что его ждет? И что с ним будет?
Что бы ни было, нынешнее существование изменится, верно, до неузнаваемости. Не будет и воскресных обедов, которые сумели внести нечто уютное, традиционное в его неустроенный коловорот. Только традиция и способна хоть несколько приручить нашу жизнь, а без нее она превращается в жестокое трагедийное действо. Трагедия, в сущности, мир без обычаев. Великое счастье хоть час в неделю смотреть на лицо Веры Сергеевны. Родное осунувшееся лицо.
Старуха Спасова отнеслась к возможной карьере соседа скептически. Когда на очередном кофепитии Лецкий ее посвятил в свои замыслы и рассказал об апрельской премьере, которая предстояла соседу, она поморщилась и процедила:
– И снова скажу тебе: заиграетесь.
– Но почему же? – воскликнул Лецкий. – В конце концов, не я ведь один продумал такое развитие фабулы. На Жолудеве единогласно сошлись львы, тигры, леопарды и барсы, купанные во всех щелоках. Поверьте, они умеют просчитывать самые сложные варианты.
– Увидишь, – повторила старуха. – Нарвешься, набухнешь, скосоворотишься. Я ведь не раз тебе говорила: прыгаешь ты на этом манеже на волоске от нерукопожатности. А волосок, между тем, истончается. Ну ладно, это твои проблемы. Но Жолудев-то при чем, объясни? Зачем ему нужны твои пляски? Они ни разу добром не кончились. Сто лет назад на родной суглинок выползли прохиндеи идеи. Оповестили: «кто был никем», далее в рифму – все причесались, надели банты и вышли под знаменем на братское рандеву с населением. Встреча прошла в любви и неге. Всем предъявили кузькину мать во всей ее исторической прелести. Теперь ваша очередь, господа. И радуйтесь, что живете в стране, свихнувшейся на любви к начальству. У нас от бунта до верноподданности – дистанция в четыре шага.
– У вас, княгинюшка, есть предложение?
Спасова пожала плечами.
– Да что ты? Греха на себя не возьму. Дойдете до полного тупика, так есть просвещенный абсолютизм. Но – не в отечественной транскрипции. Впрочем, и ты ведь того же курса.
– Пусть даже так. У вас – мизантропия.
– Допустим. Потолкайся с мое. Когда от всей твоей жизни остались только опивки, одна забота: как бы стремительней ускользнуть. Зависит, само собой, не от нас, а от Верховного Коннетабля, но тут уж ничего не поделаешь. Кстати, постарайся запомнить: большие люди – большие сволочи. Хотя и твой рядовой человек – из ряда вон выходящая дрянь.
Лецкий сказал:
– Досталось всем. Кажется, никого не забыли.
– Мне только Жолудева жаль, – призналась старуха. – Ну, бог с ним, не зря же у классика сказано: «И общей не минет судьбы».
Он раздосадованно буркнул:
– Княгинюшка, классики ни при чем. Я уже как-то вам говорил: классики тоже были не прочь жить «заодно с правопорядком».
Она неожиданно разозлилась:
– Не заслоняйся чужой душой! Для Пастернака «правопорядок» – мироустройство. Ни больше, ни меньше. А для тебя – Лубянка с Петровкой. Он – часть природы, ты – часть системы. Разница? Ты как полагаешь? Престранные у тебя параллели.
– Горек ваш кофий, княгинюшка, горек, – пробормотал он, отставив чашку. – Все мы охотно топчем ближних. Есть у меня одна знакомая, жена сановника, между прочим. Вполне образцовое семейство. Уж так она его обличает. С безжалостным социальным пафосом.
Старуха весело ухмыльнулась:
– Да, реагируем на абсурд, но уважаем его стабильность. Такие занятные существа. Вы нас, само собой, лелейте, но и позвольте вас уважать. Мадам, конечно, твоя подружка? Чего ж ей не полить благоверного? Но я – одинокая карга, песочек сыплется, желчь выходит. Не обращай на меня внимания. Просто я Жолудева пожалела. Бывают экспонаты вне времени – рифмуются с серебряным веком и философским пароходом. Да и тебя мне жаль за компанию. Однажды хлопнетесь лбом об стенку.
Лецкий ушел в дурном настроении. На душу и разум убийственно давит тяжесть устрашающих цифр. Не чувствуешь себя частью жизни, а ощущаешь частью пространства. Он вспомнил, что в детстве казалась призрачной дистанция между Гомером и Гоголем. Люди, которые нас покинули, словно уравнивались в возрасте. Давно ли столетие рисовалось каким-то космическим периодом, едва ли не призрачной величиной. Для Спасовой век давно уже будничное и даже домашнее понятие. И надо с этим понятием жить – ложиться в постель, засыпать, пробуждаться, включать себя заново в ход часов. Немудрено, что характер грубеет, может быть, даже ожесточается. И все же могла бы с ним быть поласковей. Чем провинился он, что моложе, что не прошел пути земного даже еще до половины, как автор «Божественной комедии», что он еще в силе, в цвету, в соку? Что страсти не улеглись, не иссякли, желания поджигают кровь, потребность воздействовать на события и делать жизнь еще весомее?
Легко посмеиваться и видеть тщету ее на последней ступени, на самом пороге исчезновения, но я еще не готов к этой мудрости, и точно так же мне трудно смириться, что я, по вашему определению, живу в «придуманном государстве», которым командуют фантомы.
Я – рядовой покоритель Москвы, прибывший в нее из южного города. Я просто еще одна ипостась того рядового человека, к которому обращен «Глас народа», так колдовски озвученный Жолудевым.
Достала, достала, старая ведьма! «Не заслоняйся Пастернаком! Он – часть природы, ты – часть системы». А хоть бы и так! Еще не повод бросать в мой кофе кристаллик яда. Попала очередной цитатой в незаживающую рану.
Лецкий подумал, как в давнем детстве мечтал он, что, когда повзрослеет, войдет в золотые сады словесности, напишет свои набатные книги, люди прочтут их и устыдятся того, как бездарно устроен мир, вычистят авгиевы конюшни, сделают жизнь светлей и чище. Что делать, я опоздал родиться. Книги читают лишь старые дурни, число их день ото дня сокращается, люди проглядывают газеты и смотрят в стекло беспощадного ящика, в котором они ежечасно видят, как злобна, бездушна, глупа планета. В писателях более нет потребности, в почете фотографы и репортеры, организаторы новостей. Вечность – величественный некрополь, ее аттический лед бесстрастен, а я живу на своей земле, которой нужна только злоба дня.
Он вспомнил вчерашнее письмецо от юноши из родного города. В отличие от прежних посланий оно звучало почти патетически и походило не то на исповедь, не то на клокочущий манифест. «Я понял, что обязан решиться и сделать все то, что сделали Вы, – сесть в поезд и уехать в Москву. Именно – в поезд, чтоб целых два дня думать о том, как Москва меня встретит. Я знаю, что в ней меня не ждут, однако и Вас ведь не ждал никто. И если я хоть чего-нибудь стою, то не исчезну, не пропаду. Вы знаете наш дремотный город, уже невтерпеж, безнадежно видеть, что каждый прожитый мною день ровно такой же, как предыдущий. Прошу вас, не смейтесь, а напишите, что Вы понимаете меня. На самом деле мне страшновато, но нет у меня другого выхода».
Смеяться Лецкому не хотелось. Все повторяется в сотый раз. Город, должно быть, не изменился, пусть даже на дальних его окраинах взметнулись новейшие многоэтажки. Вновь вспомнилась горластая улица, ползущая в гору, родительский дом о двух этажах, золотая луна, повисшая над дощатым балконом. Старый приют молодых бессонниц! Что ж, умилительная картинка, если увидеть издалека, но созерцать ее ежечасно, когда ты здоров, неистов, молод, и взрывчатая бессонная кровь тебе нашептывает, подсказывает всякую сладкую чепуху, кружит голову и пружинит ноги – тут не до переулочной грусти, тут нужно только вылить до капли всю свою яростную смолу.
Юноша спрашивает его, сможет ли он у него провести три или четыре денька, пока не найдет себе пристанища. Ну что же, выдержу и неделю.
И сразу же вспомнил об Ольге Мордвиновой. Ей приблизительно столько же лет, что этому потешному овощу, но как велико меж ними различие. Какие моря и материки меж этой провинциальной песенкой и царственно снисходительной грешницей! Не переплыть и не пересечь.
После той ночи она появилась за эти два месяца лишь два раза. «Так надо. Не хочу привыкать». Он радостно согласился:
– Разумно.
Однако не преминул подсказать себе: нет в мире большего удовольствия, чем посягнуть на советы разума.
Но сразу же одернул себя: «Играй, счастливчик, да не заигрывайся». Недаром же Валентина Михайловна так хмурится в последнее время. Не сделала бы ее Нефертити поверенной своих девичьих тайн. Тут, кстати, нет ничего необычного. Столь свежее юное существо испытывает к многоопытной даме симпатию наряду с уважением – «она хоть и злюка, да востроглаза». Что бы сказала она о Спасовой?
Он помрачнел. Пора разобраться в своей непридуманной истинной роли. Две стервы делают, что хотят. Он вспомнил, как Спасова полушутя-полусерьезно тревожит Господа: «Смилуйся, Творче» и повторил:
– Смилуйся, Творче. Не будь гневлив.
Что нынче сказала ему старуха? «А волос, между тем, истончается». Сказала совсем по другому поводу, но это Кассандрово пророчество звучит едва ли не угрожающе.
И тут неожиданно для себя, без всякой естественной, видимой связи он снова подумал о южном городе, о крохотном бугорке на карте, письмо из которого он получил. Подумал даже не о письме – о той, представшей ему картинке, рождающейся пред ним все чаще – о желтой луне, повисшей над ночью, о старом балконе, горбатой улице, об этой сжигавшей его бессоннице, однажды сорвавшей с привычного места и выбросившей его в Москву.
11
В самом начале студеного марта Вера Сергеевна занедужила. Ее самочувствие ухудшалось, по вечерам бил озноб. Сперва она взяла бюллетень, сказала – за два-три дня переможется. Потом согласилась, что дело серьезней. Привычная работа по дому стала ей совсем непосильна.
Жолудев резко сказал Геннадию, что надо принять неотложные меры, и всякая пассивность преступна. Геннадий сперва привычно набычился – нечего проявлять свою чуткость и человеческую заботу, много вас, плакальщиков и хлюпальщиков. Однако же день спустя приутих – не вредно бы лечь в хорошее место.
Жолудев заметался, забегал, потом смущенно толкнулся к Лецкому. Могущественный сосед помог. Веру Сергеевну положили в «больницу санаторного типа», которую для поднятия духа было принято называть санаторием. Он был расположен не слишком близко, в укромном подмосковном поселке, недалеко от аэродрома – почти без пауз ревели моторы. К ним, правда, сразу же привыкали.
Геннадий отвез Веру Сергеевну, отвергнув предложение Жолудева, который хотел присоединиться. «Доставлю. Обойдусь без помощников». Вернулся под вечер, был доволен. Палаты, чаще всего, двухместные. Центральный корпус стоит на горке. В нем биллиард и библиотека. Пониже, вокруг, стоят коттеджи. В одном из них поместили Веру.
В последнее время Сычов стал сумрачней, без надобности не затевал разговора, на Жолудева посматривал искоса, с какой-то опасливой подозрительностью. О Вере говорил неохотно, отделывался короткими фразами, а то и просто одним словечком. Буркнет себе под нос: «Поправляется», – и сразу закроется, замолчит. Жолудев исстрадался, извелся, спасался работой – не помогало.
Март выдался на редкость морозный. Иной раз на дырявое небо всходило рябоватое солнце, но толку от вялых лучиков не было – не греют, только резче высвечивают безрадостный, унылый пейзаж. Уставшая от зимы столица нахохлилась стенами в темных потеках, крышами в рваных подтаявших хлопьях, хмурыми запотевшими окнами, желтой и грязноватой наледью скользких враждебных тротуаров. Время проклюнуться весне с ее капелью, с ее надеждой, но где она, нет ничего похожего, одна измотавшая маета.
В субботний вечер Геннадий Сычов зашел к соседу, спросил: «Занимаешься?» – значительно посмотрел на стены, заставленные книжными полками, и хмуро бросил:
– Свободен завтра? Я к Вере еду. Хочешь – со мною?
– Ты еще спрашиваешь! – крикнул Жолудев.
– После двенадцати отправимся. Дорога, надо сказать, не близкая.
Жолудев готовился к встрече, словно к свиданию, – он приоделся, сбегал на рынок, наполнил доверху сластями с фруктами черную сумку, которую ценил за вместительность. Деятельность на благо партии пошла на пользу его бюджету – он вспомнил, как Лецкий когда-то сулил ему, что он еще оденет в меха любимую женщину, и рассмеялся.
Геннадий покосился на сумку и не одобрил подобных излишеств. Глухо спросил:
– Куда ей столько? Всякое бабье угощать? Я ведь – не с пустыми руками.
– Нет уж, пожалуйста, не возражай, – пылко сказал Иван Эдуардович. – Это, Геннадий, моя забота.
– Дело твое, – сказал Геннадий.
И вновь, как это нередко случалось в последние дни, взглянул на соседа долгим оценивающим взглядом.
Весь путь в подмосковной электричке он оставался задумчив, мрачен, не проронил ни единого звука. Но чувствовалось, что в этом молчании копится нервное раздражение.
Наискосок сидела компания – трое подвыпивших пацанов. Один был с гитарой, с сережкой в ухе. Пощипывая тугие струны, выкрикивал озорные слова, весело, играючи жалуясь: «Просидел я две недели, как на даче. Не видал я ни жены, ни передачи».
– Замолкни, – с угрозой сказал Геннадий. – Уши через тебя заболели. Жены он не видал, засранец долбаный.
Певец спросил:
– Ты, дядя, припадочный?
Геннадий привстал:
– Кому я сказал?
Подростки негромко побухтели, но петь перестали, а вскоре ушли.
Жолудев недоуменно спросил:
– Зачем ты к ним вяжешься? Не понимаю.
Геннадий насупился еще больше:
– Тебе и не надо все понимать.
Вылезли на склизкой платформе, вместе с нестройной толпой пассажиров, нагруженных сумками и пакетами, неспешно зашагали к автобусу. Ждали его на ветру полчаса, устало перебирая ногами. Пришел он, плотно набитый людьми, Жолудев едва притулился с задранной над головою сумкой.
Окна на холоде запотели, где ехали, он толком не видел. Знал только, что ехать сорок минут – приедут к исходу тихого часа.
Неожиданно Геннадий сказал:
– И думаешь, так можно прожить?
Иван Эдуардович не понял:
– О чем это ты? Про что я думаю?
Геннадий сказал:
– Пройти стороной. Тихой пробежкой, коротким шагом. Так не бывает. Не получается. И воробьи со скворцами дерутся. Такая война за гнезда идет. Галки кидаются на грачей. Зато вороны галок гоняют.
Жолудев ощутил обиду и возразил:
– Это я-то – сторонний? Про что не знаешь, не говори.
Геннадий ничего не ответил, потом усмехнулся и выразительно поднял литой задубевший перст.
– Может, и знаю. Еще неизвестно.
Жолудев только пожал плечами.
На остановке «Санаторий» автобус почти весь опустел. Кроме двоих озабоченных теток все ехали навестить больных. Те уже шли навстречу гостям. Звучали приветствия и поцелуи.
– А наша-то где? – бормотнул Геннадий.
Дорожка еле приметно спускалась и сразу же упиралась в цепочку из одноэтажных приземистых домиков. Было их не то шесть, не то семь. Когда мужчины до них добрались, из крайнего вышла Вера Сергеевна в знакомой коричневой шубейке и теплом оренбургском платке.
– Не больно спешишь, – сказал Геннадий. – А нынче я не один. Я – с гостем.
Она рассмеялась:
– Здравствуйте, мальчики! Вот умнички, сразу оба приехали.
– Это вот вам, – Иван Эдуардович передал ей черную сумку. – Хотя… я лучше сам донесу. Она, по-моему, тяжеловата.
Вера Сергеевна заглянула в черную сумку, всплеснула руками:
– Прямо забалуете меня…
– Баловать он у нас любитель, – сказал Геннадий.
– Не то, что ты, – она откровенно развеселилась.
– А потому что мне известно, – сказал назидательно Геннадий. – Жизнь – одно, баловство – другое.
– Мне много… – сказала она озабоченно. – Хотя… Я девочек угощу.
– Я говорил, – сказал Геннадий. И поглядел победоносно.
Они занесли подарки в палату, почтительно поздоровались с женщиной, лежавшей под байковым одеялом – и вышли на воздух, пройтись по дорожке, подальше от любопытных глаз.
Уже начинало слегка темнеть, над территорией рокотала лирическая радиомузыка. Из черного рупора разносилось: «Здесь, на предгорьях Алтая, голос не слышится твой…».
Путь до Алтая с его предгорьями долог, загадочен и далек, но тенор из рупора был убедителен, и верилось, моя золотая, в скорую встречу с тобой.
Вера Сергеевна стала в середке, чтоб взять их под руки, но, к сожалению, тут и произошла неувязка – Геннадий был ниже почти на голову, и толком не удавалось приладиться. Он потемнел, квадратный затылок напрягся, стал багрового цвета.
Вера Сергеевна привыкла, что он по сю пору никак не смирится с тем, что уступает ей в росте, и постаралась свести все к шутке:
– Вымахала не в мать, не в отца, – сказала она с виноватой улыбкой.
Но неувязка произошла в присутствии третьего человека.
Геннадий сердито проговорил:
– Не баба – коломенская верста.
Жолудев болезненно сморщился, она остерегающе сжала локоть соседа, заговорила о чем-то неважном и несущественном.
В конце концов, они приспособились и зашагали по льдистой аллейке, присыпанной еле приметным песком. Встречные люди на них поглядывали, особенно женщины – Вера Сергеевна успела со многими перезнакомиться. Она отвечала на приветствия с достоинством, с чуть смущенной улыбкой. Было и приятно и лестно, что к ней приехали сразу два гостя. Она представила, как перед сном женщины станут ее расспрашивать, и ощутила, что густо краснеет.
– Как чувствуете себя, Вера Сергеевна? – заботливо спросил ее Жолудев. – Толковый ли доктор? Что говорит вам?
Она улыбнулась.
– Доктор хороший. Да что говорит? Все больше пошучивает. Есть в моей палате больная, женщина славная, но беспокойная. Она все допытывается: вы мне скажите, долго еще я буду маяться? Он отвечает ей: если долго, это большая ваша удача.
– Шутейник хренов. Тебе что сказал-то? – ворчал Геннадий.
– Да ничего. Ну что он мне скажет, сам подумай. Десяток лет по этому делу, все уже знаю не хуже его. «Возьмитесь за ум, займитесь собою».
«Господи, – молча дивился Жолудев, – ну что же мне так дорога эта женщина?»
– Много работы у вас, Ванюша? – мягко спросила Вера Сергеевна.
Ответил со вздохом:
– Работы хватает. Будет и больше. К весне поближе.
Геннадий неожиданно бросил:
– Он трудится по полной программе.
«Злится на что-то», – подумал Жолудев.
Заговорились и не заметили, что могут опоздать на автобус. Стали торопливо прощаться.
Вера Сергеевна сказала:
– Спасибо, мальчики, что навестили. Живите дружно. Скоро приеду.
– Не торопитесь, – промолвил Жолудев. – Самое важное: результат.
Она сказала:
– Буду стараться. Ну, новые легкие не поставишь. Спасибо вам. Запахнитесь получше.
Но на автобус они опоздали.
– Так я и знал, – сказал Геннадий. – Когда начинаются церемонии, всегда получается всякая хрень.
Узнали, что следующий автобус придет через полтора часа, а может – и позже, ходит не точно. Решили пешком добраться до станции.
– Шагай без спеха, – сказал Геннадий. – Иначе дыхалка подведет.
– Я знаю.
– Еще бы. Ты все у нас знаешь. Но только не балабонь на ходу. Идти надо молча. Это – закон.
Спустя полчаса миновали кладбище. Иван Эдуардович горько смотрел на покосившиеся кресты, на запорошенные надгробья, на многих уже не прочтешь ни буковки – в душе его поднималась тоска. «Нелепая мне выпала жизнь, – подумал он, – какая-то выморочная, нескладная, с глупыми перепадами».
Он стал уставать. Дышать было трудно. И все же упрямо брел за Геннадием, смотрел в напружинившийся затылок.
Студеный воздух большими хлопьями все гуще и злей набивался в грудь. Геннадий спросил:
– Подмерз?
– Пожалуй. Еще далеко нам?
– Ближе, чем было. Беседку видишь? Передохнем. А там еще один марш-бросок. Туман догоняет, будь он неладен.
В беседке Геннадий достал бутылку и весело подмигнул:
– Припас. Как будто бы знал, без нее не вырулишь.
Он сделал три обильных глотка и передал бутылку Жолудеву.
– Согрейся. Тебе не помешает. Пей из горла́, стакано́в тут нет.
Жолудев мысленно содрогнулся, но превозмог себя – отхлебнул.
Геннадий сказал:
– Этот туман много съест снега. Но будет теплее. Заморозки – при ясной погоде. А коли облачно – их не будет.
Потом он медленно произнес:
– Есть у меня к тебе разговор. Ты мне признайся: ты – глас народа? Только не ври. Я твой голос знаю.
Иван Эдуардович помолчал, негромко сказал:
– Да, это я.
– То-то, – Геннадий потер ладони и рассмеялся удовлетворенно. – Меня не обманешь. Я сразу признал. И говоришь ты, ровно поешь, и голос у тебя, как у кенара, а никогда я тебе не верил. Чувствовал, что кривой человек.
– Не знаю, что тебя так расстроило, – нервно сказал Иван Эдуардович. – Я просто делаю свое дело.








