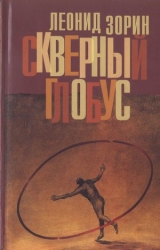
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)
Что, если ей давно уже ясно то, что мне стало приоткрываться: в моем протесте и якобинстве есть ядовитая червоточинка. Чем больше я взрослел и мужал, тем все отчетливее я видел несоответствие того, что я испытываю и чувствую, тому, что обычно произношу.
Стал ощущать, хотя и смутно, что, отрицая жизнепорядок, я словно подписываю капитуляцию. Сам же отвергаю возможность занять в нем свое законное место. Но я ведь только о том и грежу! Пока я домогаюсь удачи, пока хочу ее и зову, я должен стремиться в него вписаться.
Да, тут таится противоречие, и в нем задыхается моя фронда. Надо сознаться себе самому – личный успех сближает с миром. Несовершенство его очевидно, но сколько в нем магии и волшбы! И сколько поистине царских милостей. За них и прощаешь несправедливость, исходно заложенную в неравенстве. Тем более что равенства нет. Искра от бога и искра от спички не сходны и не равны меж собою. Нет в том вины ни земли, ни неба.
Так мог ли я ощутить потребность слить свою жизнь с народной жизнью? О, нет, я мог ее лишь оплакать. При этом без особой охоты. Я отдавал себе отчет, что посягаю на светлый образ, созданный русской литературой и поддержанный общественным мнением. Что даже рискую репутацией свободомыслящего интеллигента, готового положить живот за други своя и все население. Поэтому счел за благо воздерживаться от эксгибиционистских признаний. Но девочке, любившей меня, все и без них было понятно. Однажды она с усмешкой вздохнула: «ты развиваешься на глазах». Я изготовился к защите, но продолжения не последовало. Мне захотелось развеять облачко – пусть мы иной раз думаем разно, главное, что чувствуем сходно. Она не ответила, отмолчалась.
Это меня насторожило. Значит, она не ищет согласия. Ведь, в сущности, я сейчас повторил ее же собственные слова. Это она мне говорила: «Кто плохо мыслит – небезнадежен, можно прочесть умные книжки. Опасен тот, кто бездарно чувствует». И тут же добавила, что геронты, которые управляют нами, именно этим и ужасны – нечем жалеть и нечем понять. Даже их глупость – от их бесчувственности. Зато и заразили страну своим слоновым самодовольством.
В тот раз я вернул ее на землю. Сказал, что другой страны у нас нет и, как я полагаю, не будет. Она пожала плечами: как знать.
Впоследствии, когда все вдруг вздыбилось, я усомнился в своей правоте. Может быть, эта певчая птичка и впрямь способна была на предвиденье? Откуда это зоркое сердце у девушки из унылой семьи, чье детство прошло на соседней улице, в таких же комнатках, что у нас, с теми же низкими потолками, с грязным двором под самыми окнами?
Но все эти мысли взошли позднее, когда уже сам я стал ловчею птицей, пока же я безутешно думал: что будет с нами – с ней и со мной? Да, я любил ее каждую жилочку, она давно мне дороже всех, дороже – стыдно шепнуть – родителей. Но что же мне делать? Остаться здесь? И видеть до конца своих дней этот прогорклый кисель вокруг, болтаться в нем и сегодня, и завтра, и послезавтра, пока не состарюсь, пока не уляжется, не замрет, не обесцветится моя кровь?
У каждого свой крутой маршрут. Не зря же сосед с белесыми усиками сказал, что, как сложишь ты свой сюжет, так и проживешь на земле.
Но складывать – мне. И только мне. Сюжет зависит лишь от того, каков у судьбы будет соавтор. Сможешь ли соответствовать ей, услышать вовремя зов трубы и вовремя на него отозваться? Не сможешь – не на кого пенять.
Да, я смогу. Я услышу, я чувствую явившийся невесть откуда кураж. Во всем моем существе гремит мятежная походная музыка. Я верю в свою южную молодость.
Когда, спустя уже некий срок, мне окончательно стало ясно то, что разлука неотвратима, я постарался себе внушить, что для нее это будет благом. Что ей за радость следить за тем, как я кляну себя за нерешительность и, может быть, втайне ее виню за то, что проиграл свою партию? И должен ли я себя укорять? Я просто один из тех парусов в тумане моря, возжаждавших бури, не пожелавших укрыться в гавани. В той, где мне выпало плесневеть. Какая тут вина и измена?
Не все мои доводы были фальшивы. За эти годы она и впрямь намаялась, настрадалась со мною. Требовательность моя росла, а бережность зато убывала. И каково ей, в сущности, девочке, было пережить две беременности, обе бесчеловечно оборванные? Утреннее вешнее чувство скупо ей отмерило счастье. Да и не все для счастья родятся.
И все же, не проронив ни звука, она вопреки всему ждала, когда я позову ее в жены. Потом, еще раньше меня поняла, что я уже созрел для побега. И сколько щедрости было в сестринском, если не в материнском совете! Сама и сказала: «Ты должен уехать». Я сразу же согласился – должен. В этом я был убежден, уверен. Хотя и не сумел бы ответить, ну почему, в самом деле – должен? Кому я должен? Нелепый долг.
Слева теснится поток машин с Дорогомиловской – слава богу, нам притормаживать необязательно. Пересекаем третье кольцо.
Его еще и в помине не было в тот год, когда я отбыл в Москву. Мой исторический день настал – в путь, в путь, авек де ля мармоттэ.
Каков же был этот д’артаньянчик, прибывший из своей пыльной Гаскони в осеннюю сырую столицу? Что мог предложить ей, кроме диплома, свидетельствовавшего, что его обладатель постиг иностранные языки?
Не лучшая стартовая площадка перед жестоким забегом стайера. Тем более я и не думал стать ни полиглотом, ни лингвистом. Да и переводчиком – тоже. Но я ощущал чутьем борзо́й, что вскорости тесный мир расширится, что мой абитуриентский выбор окажется точным и дальновидным. Мог просчитаться, но – угадал. Границы на замке распахнулись. Я был оснащеннее многих ровесников и оказался гораздо востребованней других кандидатов в чиновный круг.
Итак, это слово сказано вслух. Таков был мой выбор – стать чиновником. Естественно – не столоначальником и не коллежским регистратором. Не шестеренкою в машине и не шестеркою на подхвате. Но эта среда меня притягивала, в этой воде хотелось плавать.
Кого-то этот выбор шокировал. Но он вызревал во мне шаг за шагом. Исподволь и необратимо. Здесь подошло бы и слово «вкрадчиво», однако слишком оно изысканно.
Но ведь по сути – именно так. Мягко ступая, еле приметно, чуть слышно, не воплощаясь в девизах, мною овладевала потребность стать частью этой бесшумной силы. Возможно, я сохранил в подсознании отроческий поход в учреждение, первую очередь за документом и безотчетно был покорен скрытым могуществом канцелярии. Почувствовал негромкую власть неукоснительных невидимок и меру зависимости непосвященных. Почуял в воздухе коридоров, в торжественной тишине приемных и высшей сакральности кабинетов почти мистическую способность выстроить и подчинить всех прочих. Все явственней рождались два образа – образ очереди, вобравшей в себя абсолютное большинство человечества, и образ лестницы, по которой передвигаются восходители.
Скажи я вслух о своей зачарованности, мгновенно стал бы легкой добычей. Такая искренность эпатирует. Она останется достоянием моей персональной исповедальни. Что делать? Я был взрослее сверстников. Во всяком случае, понимал: законы лестницы беспощадны, чем выше, тем ее климат жестче, не каждый выдержит и дойдет.
Еще важнее стало понять, что же я собой представляю. Необходимо было составить список слабостей и реестр достоинств. Первый должен был безжалостно высветить мои уязвимые местечки. Второй должен был укрепить мой дух.
Я был нелицеприятен и строг. Нетерпелив, не умею ждать, а это – важнейшее из умений. Тем более в хищных служебных джунглях. Очередь, ставшая для меня символом неудавшейся жизни, она-то и закаляет характер. Недаром он меня так заботит. Я просто обязан стать тверже и суше. Тяга к рефлексии извинительна и может оказаться полезной, но склонность к сантиментам опасна. Иной раз, стыдясь себя самого, и по секрету от всех на свете, даже записываю стишки, которые вдруг во мне толкнутся. Дурная и вредная привычка – страсть к рифме прилипчива и разрушительна. Еще один безусловный грех – юношески подвержен гордыне. (Поныне не умею с ней справиться. Сегодня в этом мог убедиться.)
Этот обвинительный акт, наверно, был далеко не полон, однако и сказанного хватало, чтоб усомниться в блестящем будущем. Я попытался опереться на обнадеживающие свойства.
Правда, в зависимости от обстоятельств, можно и их отнести к порокам. Нет, я не довольствуюсь малым. О, мой честолюбивый норов. Но. Это качество в умных руках может способствовать движению. Настойчив. Могу себе приказать. Почти анафемски восприимчив. И наконец, умею думать. При этом – полностью концентрируясь.
На этот дар богов я рассчитывал и дорожил им больше всех прочих. Когда мы заглядываем в себя, пытаясь определить свое место в этом галактическом холоде, мы сравниваем нашего брата с «мыслящим тростником». Что поделаешь! Жизнь с цитатою наготове кажется более управляемой. И даже более предсказуемой. (Одна из иллюзий, но речь не о ней.) Мне было важнее всего понять, какое слово из этих двух первостепенно, какое – вторично. Я склонен считать, что большинство себя ощущает тростником, колеблющимся в разные стороны под грозными толчками стихий. Но я как раз из тех гордецов, которые видят в этом растении не столько его незащищенность, сколько его способность к суждению. Я ощущал, едва ли не с юности, энергию, бродящую в мысли, радость, которую доставляет вспышка окончательной формулы. Час от часу крепла во мне убежденность, что это и есть то главное качество, которое перевесит количество моих несомненных несовершенств. И уцелею, и не затеряюсь. Не так уж много тех, кто вам выдаст интеллектуальный продукт.
Машина сворачивает на Кутузовский. Гляжу на кварталы, плавно скользящие за плотным тонированным стеклом, – нет, все другое, совсем другое! Когда я приехал, столица державы (впрочем, тогда еще – сверхдержавы) выглядела печальной выставкой самой бессмысленной застройки. И беспорядочное соседство многоэтажек и ветхих жилищ, покрытых вековою коростой, будто внушало: Москва стоит не для того, чтоб в ней жили и радовались, а для того, чтоб грозить и приказывать. Пожалуй, с неделю тянуло вернуться туда, где осталась моя любимая, где мало спешили, где спали взахлеб, на самом деле вкушая сон. Понадобилось получше вспомнить, как я томился в этой лохани, как бился головою об стенку, срывал раздражение и досаду на бедной, ни в чем не повинной девочке, чтоб я запретил себе ностальгировать.
Мир изменился за четверть столетия. В Париже, в девятнадцатом веке, однажды возник энергичный мэр – выпрямил петлявшие улицы, строил с размахом, сносил с умом, и, не утратив древней Лютеции, создал тысячеликий Дом, который влечет и пьянит паломников. У нас обозначился свой Османн, похоже, что столь же неугомонный. Старой Москвы почти не узнать, но, может быть, это не так уж худо. На взгляд пришельца во всяком случае. Я безусловный сторонник традиции, однако не плакальщик по старине. Все, что не вписывается в движение, должно ему уступить дорогу.
Да, первые годы московской жизни я воскрешаю с невнятным чувством. О, разумеется, упоение от причащения к мегаполису, от расставания с прошлой жизнью! Как я спешил от нее избавиться, сбросить, как кладь с затекших плеч. Выбросить к черту, как черновик, лишний, исчерканный, весь в помарках. Я и не подозревал, что впоследствии любую канувшую минуту буду старательно отчищать, как раритетную монетку.
Тогда же было не до того. Вдруг я увидел себя гребцом в ползущей против теченья скорлупке. Столько нелепых телодвижений! Судорожных, суетливых, избыточных. И неизменно опустошительных. Да и опасных для собственной личности. Весь этот пестрый коловорот был для меня обрастанием связями, укоренением в Москве.
Люди являлись и пропадали. Но оставляли шрамы и шрамики. Одни из них болезненно ныли, другие твердели довольно быстро, только ничто не прошло бесследно. Маленькие схватки и сшибки, встречи, занявшие четверть часа, словно проделывали – на совесть! – свою изнурительную работу. Стесывали лишнюю стружку, лишние жесты, слова, улыбки и прежде всего лишние чувства. Север сумел подморозить юг. Все эти зарубки на память я пестовал и берег, чтоб иной раз их оживить и позвать на выручку. То был мой опыт, мои ступеньки, перильца, опоры, мои кирпичики – без них невозможно сложить сюжет.
Были и те, кто задержался в моей биографии, больше того – вписал в нее несколько броских строк. В моем арсенале было еще одно немаловажное оружие: похоже, что я внушал симпатию. Нравился. Попадались люди, которым хотелось мне покровительствовать. Я встретил, по крайней мере, двух-трех, кому я сразу же полюбился. Бог знает, что они разглядели в представшем им энергичном малом – возможно, кого-то я им напомнил. Не исключено, что самих себя.
Один был по-своему колоритен. Дородный мужчина ближе к шестидесяти. Круглый, пухлый, обильно потеющий. Почти без пауз тяжелым платком, больше напоминавшим салфетку, он утирал свою лысую голову, мясистые щеки и подбородок. Был чувствителен, даже мог прослезиться. Тогда мне казалось – потеет глазами.
При этом – опытен и приметлив. Однажды сказал, что я умею найти подходящую формулировку. Я принял его похвалу с благодарностью. Естественно, не заикнувшись о том, что даже пристойная формулировка всего лишь пародия на формулу, бумажная бабочка-однодневка. Роль формулы совершенно иная – она и фиксирует соображения, и проясняет их суть и смысл. С одной стороны, она придает им конечную форму, с другой стороны, она их выводит на высший уровень. Но объяснять это было бы глупо и, разумеется, – непочтительно.
Глупо, ибо он бы не понял, что формула это легитимация – она упорядочивает хаос, в том числе и хаос сознания, и узаконивает мысль, даже и самую еретическую. Формула ее приручает. Важно лишь помнить: движение мысли не столько линейно, сколько ступенчато. Все эти мои рассуждения заставили бы его потеть еще щедрее и неудержимей. А непочтительность я проявил бы демонстрацией своего превосходства. И сделал бы из доброхота врага.
Этот вполне рядовой эпизод, сам по себе ничего не значивший, помог мне четко определить, где расположена моя ниша – я бы сгодился на роль человека, которому удается придать сумятице необязательных мнений некую концептуальную стройность. Стало быть, мое назначение – место советника и подсказчика.
Тем более я не рвался командовать. Слишком крутой и коварный искус. Быть рядом – комфортнее и надежней, тень предпочтительней солнцепека.
Конечно, легче понять, чем занять столь соблазнительную позицию. Чем выше, тем отвеснее лестница. Ну что же, ведь нигде не написано, что мне должно быть легко и просто.
Итак, я обрел свою контору. Не без содействия покровителя. Отечески на меня поглядывая вдруг запотевшими очами, он произнес: «Хочу, чтобы вы когда-нибудь хорошо меня вспомнили». Трогательно, но я еще мог лет тридцать не думать о потустороннем и поспешил забыть эту фразу. Мне предстояла длинная жизнь, и в ней нельзя было расслабляться.
Я полагал, что моя восприимчивость поможет сравнительно быстро восполнить лакуны в моем образовании. Но скоро я понял, что эта наука дается не напором, а службой. Чиновничество не признает ни резких шагов, ни быстрых поступков. Поэтому новичок, как правило, испытывает недоумение, а иногда приходит в отчаянье. С налета почти невозможно постичь, в чем кроется суть непременной затяжки и почему пустячное дело твердеет, как осажденная крепость. Я тоже прошел сквозь долгий период, когда мне казалось, куда ни толкнись, уткнешься в некое вязкое месиво – на всех этажах, во всех кабинетах какой-то бессмысленный круговорот. И так захотелось придать осмысленность вращению этой безумной мельницы, которая день за днем перемалывает бесценное невозвратное время. По счастью, я придержал постромки.
Мало-помалу стало понятным – все то, что представлялось мне видимостью, было сущностно и обладало весом. Открылось, что имитация деятельности – такая же деятельность, как все прочие, но смысл ее не сразу виден. А то, что я зову имитацией, требует мастерства и искусства. Впрочем, как всякая имитация. Что торможение это едва ли не главный рычаг в науке вождения. Именно благодаря торможению каждое дело и ситуация имеют возможность, созрев, обнаружить, достойны ли они продвиженья. Решение необратимо, как в шахматах, в которых взять ход назад запретно. К тому же и пешки назад не ходят, они превращаются в фигуры.
Движимый своей тягой к формуле, я ее вылепил для себя: чиновничество не только класс, оно – становой хребет государства уже потому, что только оно определяет очередность любой стоящей пред ним проблемы – либо откладывает ее, либо дает ей зеленый свет. Вот почему лишь эта власть не иллюзорна, а реальна. Ее значение неоценимо – в нашем мятущемся отечестве с его анархическим первородством именно она утверждает здоровый эволюционный принцип. Чиновничество всегда триедино – и фильтр, и барьер, и арбитр. Все обаяние сверхдержавы метафизически исходило из совершенства этой оси.
В дальнейшем чем ясней становилась роль торможения, тем существенней менялась моя оценка минувшего. Мне удалось взглянуть трезвее на заклейменную стагнацию. Это была хотя обреченная, но и отважная попытка остановить движение к взрыву. Нынешнее слово «стабильность», в конечном счете, являет все то же почти героическое стремление! Народы и страны знают эпохи, когда разумно и необходимо сделать сперва два шага назад, чтобы потом сделать шаг вперед.
Однако в дни своего дебюта я больше жил сердцем. И, вспоминая, как я входил растерянным отроком в казенный дом, невольно испытывал, казалось бы, забытую дрожь. Правда, на сей раз совсем иную. Если тогда был трепет зависимости от некой неодолимой силы, то ныне во мне росло волнение от нового горделивого чувства. Пусть я никто и звать никак, но я уже причащен, приобщен к этому ордену посвященных. Дайте мне самый короткий срок – и я обрету и голос, и имя.
Отныне между мною и теми, кто мается, ожидая приема, лежит разделительная черта. Незримая, но такая же властная и выводящая из очереди, как та, что дает моей машине возможность уйти от застрявших в пробке.
Уже видна Триумфальная арка. Тешит мой взгляд и бодрит мой дух. Казалось бы, памятник громкой славы не может быть маяком человека, чей выбор – оставаться в тени, но существует свой, потаенный, сладостный холодок триумфа, невидимого, неслышного людям. И в нем – ни с чем не сравнимый кайф.
«Я обрету и голос и имя». Так часто я твердил ей о том же. Другими словами, задиристо, сбивчиво, но столь же убежденно – так будет. Похоже, что я родился на свет, уже сознавая, что не гожусь для жизни в стоячей воде под ряской.
Поверила она мне? Бог весть. Поверила ли в меня? Не знаю. Я мог положиться на ее преданность, я видел и нежность ее, и страсть. Но не согласие. Его не было. Однажды я ей даже сказал: «Бесспорней любить, чем любить спорить». Она и с этим не согласилась.
Не сразу, но все у меня срослось. Стали упоминать мое имя и отличать мой голос от прочих. Хотя я всегда следил за тем, чтобы не повышать регистра. Однажды даже зарифмовал, вспомнив про давние ювенилии, строгий наказ самому себе: «Не гулко и не звонко, не громы сотворя, а в духе хлада тонка, библейски говоря». Эта невинная забава, ребячливая игра в стишки, не умаляла серьезности сказанного. Нужно быть веским человеком. Веский человек не грохочет. Он изъясняется не шумно, тем самым заставляя прислушаться. Так, шаг за шагом, я стал своим.
Думаю, ощущение родственности, единой семьи, мне помогло и в отношениях с начальством – ведь каждый кулик на свой салтык.
Когда я мысленно обозреваю пеструю галерею шефов, выпавших мне по воле судьбы, я отмечаю не столько различия, сколько их бесспорную схожесть. Различия были в оттенках и черточках, но каждого я мог отнести к одной из двух своих характеристик. Кто был ограниченней и простодушней, тот излучал упоение саном и убежденность в непогрешимости. Кто был умнее и дальновидней, чаще всего, был подозрителен и склонен к подавленной истерике. Меня выручала в обоих случаях впоследствии избранная позиция – жалею, сочувствую, снисхожу.
В этой нелегкой игре в гуманность требовалось свое мастерство. Нужно было уметь находить необходимые оправдания. Помню, один из моих патронов любил окружать себя земляками. Я милосердно его амнистировал: «из всех разновидностей непотизма землячество – самая человечная. Оно исходит из ностальгии». Такой диалог с самим собой всегда оказывался уместен. Все чаще я думал: «Да. Разумеется. Власть можно употребить во благо, власть можно употребить во зло. Но можно употребить саму власть. Да так, что она этого и не заметит».
Женщине, увиденной мною нынешним утром на перекрестке, если, конечно, это она, я ничего бы не растолковал. Уж за ее благородной пазухой припасено для меня несомненно уничижительное словцо. Я не сумел бы ей объяснить, что существует решающий выбор – кто-то желает жить на земле и делать жизнь, а кто-то, напротив, предпочитает остаться волчонком. При этом – одиноким волчонком, больше всего ненавидящим стаю. Решившим воевать с целым миром – с лесом, полем и степью, со всем живым. И все потому, что мир не таков, каким его хочет видеть волчонок. За долгие годы я нагляделся на этих прожженных идеалистов, сделавших вечное отрицание призванием, идеей, профессией. Недаром же и запас их чувств, подобно запасу слов, сократился, сжался до одного лишь звука. «Нет» – это все, что они способны бросить от всех своих щедрот роду людскому и белому свету.
Но говорить это ей, зомбированной либо оракулами на час, либо трибунами с их логореей, ей, воспринимающей трезвость как нечто постыдно-капитулянтское, бессмысленно – ничего не услышит. Трезвость – это трофей твоей зрелости и обретенного бесстрашия.
Я научился читать людей. Распознавать чуть не с первого жеста высокомерие визитера, привыкшего дверь открывать ногой. Растерянность и нервность просителя, который стремится произвести благоприятное впечатление. Я видел нарочитую скромность и нарочитую самоуверенность. Желание сохранить лицо при драматических обстоятельствах. Бабскую суетливость мужчин и доблестные усилия женщин. Маску усталого безразличия, напяленную на себя игроком. И подлинную усталость людей, словно рожденных для поражения.
Свою чиновничью академию я проходил хотя и напористо, но сдерживая свое нетерпение. Знал, что оно к добру не приводит. За время службы мне приходилось не раз менять места своей деятельности. Не из-за вздорности и неуживчивости. Каждая следующая контора была значительней предыдущей. Конечно, и тут существовала своя очередность, но образ очереди не возникал, – я уже не был человеком со стороны.
Один только раз случился зигзаг. Я сбился со своего пути. Мой пухлотелый доброжелатель меня совратил. Он задал вопрос: вы не задумывались, что лучше служить одному, нежели многим? Кто ж эти многие? А то ведомство, в котором вы сейчас пребываете.
Мысль эта меня обожгла. И я опомниться не успел, как был удостоен аудиенции у частного лица, знаменитого своим влиянием и состоятельностью.
Он произвел на меня впечатление. Самой своей внешностью – на голове высились два черных холма, разделенных еле заметной дорожкой. Его большое лицо освещали два столь же черных пронзительных глаза, могучий волевой подбородок был словно смягчен симпатичной впадинкой. Он показался мне похожим на Фарадея, и про себя я обозначил его этим именем, тем более магнетизма и тока тут было более чем в избытке.
Я нравился, черт побери, я нравился! Мне было предложено стать устами этого незаурядного мозга, осуществлять его связи собщественностью. Милое дело. Как раз для меня.
Общественность мне показалась пресной. Время от времени возникало несколько пресыщенных лиц, по большей части одни и те же. Достаточно было на них взглянуть, чтобы понять: эти все знают, всех видели, их ничем не проймешь. И что не ждут они ничего ни от меня, ни от наших связей.
Однако мне все-таки удалось чем-то зацепить их внимание. Может быть, доверительным тоном, может быть, определенным умением придать любой информации вес – я это делал не без изящества. Во всяком случае, я был замечен. А это имело свое значение. Ибо, осуществляя связи, надо к тому же их заводить. Процесс обрастания все еще длился, да он никогда и не прекращается.
Со страхом, с восторгом и тайной грустью я вспоминаю о Фарадее. То был экземпляр безусловно штучный, а может быть, даже и уникальный. Боюсь показаться не слишком скромным, но в чем-то я ощущал сродство. Похожий яростный темперамент и, смею думать, похожий мозг, умевший укрощать это пламя. Однако – в отличие от меня – ни воздыханий, ни сожалений. Воля, помноженная на жесткость, возможно – и с оттенком жестокости. Твердят, что люди такой суровости бывают часто сентиментальны, но, видимо, он надежно прятал даже подобие этого свойства. За время нашей общей работы оно не проявилось ни разу. Я лишь догадывался, что в нем неутолимо клокочут страсти, что он не только зодчий и кормчий, но и прирожденный игрок. При этом игры он хотел серьезной, игры на самом краю обрыва. Вполне отвечавшей его калибру. Иначе сюжет, на диво сложенный, терял для него и вкус, и смысл.
Он образцово слепил команду. За годы государственной службы я стал снисходительней к выбору лиц, мало-помалу освобождался от прежней молодой нетерпимости. Больше того, я начал видеть оправданность ставки на посредственность – на наших заснеженных пространствах история делает эту ставку, прислушиваясь к своей интуиции. А та ей нашептывала, что народ требует либо недосягаемости божественного происхождения, либо же – социальной близости. Вторая – даже в большей цене.
Но Фарадей жил в другой эпохе, а может быть, и в другой стране. Страну эту он самолично создал, в ней действовали иные правила. Работали только профессионалы, кибернетически безупречные. Чувствующие свою особость. Готовые отдать принципалу решительно все, чем их бог наградил – от преданности до дарования.
Я выдержал год такого режима. Немало. Но на исходе года я понял, что служить одному труднее, чем многим. Мне – труднее. На службе отечеству можно расслабиться, сын отечества, которому служишь, требует тебя без остатка. Без передышки и без отсрочки. Он посягает на всю твою сущность. Он хочет, чтоб ты в нем растворился.
Но я о себе высокого мнения – есть такой грех, никуда не деться. (Недаром мне все еще не удается справиться с утренним эпизодом.) Я не могу масштабом начальства определять масштаб своей личности. Она существует сама по себе. Однако и это не было главным. Все дело было в том, что я понял: эффектно, но – не мое, чужое. Не всякая рыба ищет где глубже.
Расстались мы с Фарадеем по-доброму. Я чувствовал, я ему не безразличен. И я, в свою очередь, был увлечен, – магнит его действовал безотказно. Но мой сюжет диктовал мне решение. Я вновь отозвался на звук трубы.
Итак, я вернулся на круги своя. На менее доходное место. Зато оно было как раз по мне. Я мог бы сказать подруге младости: как видишь, я не столь прагматичен, каким ты привыкла меня считать. Но вряд ли бы ее убедило самое мощное доказательство. Мы спорили с нею три долгих года и недоспорили – бесполезно.
Проехали Поклонную Гору. Слева какая-то новостройка с остроконечными прибамбасами. Справа, около улицы Минской, сооружают торговый центр. Впрочем, это моя догадка.
«Все хорошо», – говорю я себе. Все хорошо, конец недели, и впереди у меня – детант. День превосходный, кругом в изобилии летние загорелые пташки, они добавляют очарования этому взятому мною городу. Все хорошо уже потому, что мне предстоит многолетняя жизнь. Я ее делатель и участник и еще долго таким останусь. Мир путнику! Он осилил дорогу. Он прибыл в порт своего назначения. Здесь его любят, здесь его ждут.
Ждут меня жена и дитя. Сыну уже четыре года. Младше меня на сорок лет. Мальчик ничем не похож на отца. Как говорят, похож на деда по линии матери. Может быть. Пусть унаследует мой характер.
Да, я женат уже пять лет. Когда задаешь себе вопрос, отлично знакомый едва ли не каждому: «все-таки, зачем я женился?», сразу находишь с десяток точных и убедительных ответов. Их неизменно бывает много, если нельзя обойтись одним.
Прежде всего все сроки вышли. Я неприлично припозднился. Устал от унылых грехопадений, от этих клонированных дебилок – кажется, что они однажды были поставлены на поток и без задержки сходят с конвейера. Чаще, чем прежде, я стал ощущать некий тревожный, опасный вакуум – еще, конечно, не одиночество, но – одинокость, уже одинокость! Не говорю уж о том, что по статусу мне надлежит состоять в супружестве. Свою нареченную крайне желательно искать и найти в своей среде. Что я и сделал. И не жалею. Из всех вариантов это был лучший.
Замечу попутно: «своя среда», «свой круг» – не претензия и не пошлость. Нет ни следа снобистской дешевки и нуворишеской амбиции. Мой круг – это взаимопонимание, лояльность, соблюдение правил и отношение к успешности как к состоянию души. Если короче – естественный выбор или естественный отбор.
Я не жалею о трудном годе, который провел у Фарадея. Он повлиял на мою психосферу и, может быть, несколько отточил мой аналитический ум. Сделал его острее, резче, свободным от всяческих симулякров. Поистине, опыт всегда во благо. Кроме того, я обрел популярность и вес как один из важных ньюсмейкеров. В отличие от многих коллег я избегал округлых фразочек и прочих клишированных банальностей. Мой стиль общения был оценен. Новые люди – новые связи. «Вы стали элементом действительности», – сказал не без яда один пересмешник, оставшийся на третьих ролях. Да, стал. Когда знакомый редактор по-дружески предложил мне высказаться в руководимом им рупоре мысли, это нисколько не удивило. Я поразмыслил и согласился. Пора было о себе заявить.
Должен сказать, что та декларация даже сегодня тешит память. Она наделала много шума, на что она и была рассчитана. Лишь откровенность рождает отзвук.
Я вклинился в прессу, перенасыщенную прогнозами нынешних прорицателей. Не слишком внятными и фанфарными – все понимали, страна больна и ее будущее темно, столь же, как прошлое мидян, – однако же сохранение автором религиозного отношения к окружающему его населению было едва ли не обязательным.
Естественно, я не стал повторяться. Не клялся молитвенно вместе с другими в коленопреклоненной любви к этому странному божеству. Хотя сознавал, что в такой секулярности легко разглядеть неприкрытый вызов. Но эта предписанная любовь была обрядовой. Ритуальной. Полой, без всякого содержания. Да и само божество глазело на тех, кто ему так истово молится не с высоты, как ему положено, а снизу, задрав святейшую голову. Я не случайно озаглавил свой опус «Правда патернализма».








