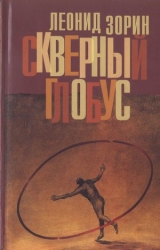
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
Лидер угрюмо поднес к губам стройную узкогорлую рюмку. Уничижительная оценка его соперников вроде должна была порадовать и согреть его душу, но – странное дело – он был задет. Казалось, презрительный сотрапезник загнал и его самого в их шеренгу. При всей его верности тем, кто в ряду, мучительно захотелось выпрыгнуть.
– Однако же вы к ним беспощадны, – сказал он с принужденной улыбкой. – Не зря говорил мне Павел Глебович, что у вас острое перо.
– Не вам их жалеть, – откликнулся Лецкий. – Что же касается пера, то ведь оно – мое продолжение. А об меня можно порезаться. Но – к делу. Вы окрестили партию «Гласом народа». Не так уж плохо. Все же какое-то отличие от мало что говорящих эпитетов. Не бог весть какая, но все же метафора. Теперь ее надо приблизить к жизни. Абстракцию социум не усваивает либо усваивает формально. Бессмысленно и то и другое.
Он сделал учительскую паузу. Потом продолжил:
– Из этого следует: метафора оживает тогда, когда ее связывают с реальностью. Символ работает и воздействует, когда у него бытовая основа.
– Я не вполне вас понимаю, – признался, покраснев, Коновязов.
– Сейчас я объясню популярней, – отечески посулил ему Лецкий. – Вам нужен пример? Я дам вам пример. – Он улыбнулся, как будто вспомнил событие из собственной жизни. – Известно, что в позапрошлом столетии была франко-прусская война, и только ленивый не говорил, что Франция – неуправляемый поезд, который несется прямо в бездну. Но этот образ наполнился кровью тогда лишь, когда писатель Золя выпустил в свет свой новый роман, где Францию он затолкал в вагоны – имею в виду ее солдат, – отправил эти вагоны на фронт, выбросил из паровоза на насыпь двух машинистов – Пекэ и Жака, – и поезд остался без управления. Вот тут он из поезда стал страной! Вам ясно? Метафора ожила, а символ стал плотью, обросшей мясом. Вот точно так же наш «Глас народа» – позволю себе назвать его нашим – должен быть связан в сознании массы с реальным человеческим голосом.
– С моим? – поспешно спросил Коновязов.
Лецкий покачал головой.
– Тут требуется особенный голос. Чарующий. Проникающий в души. Владеющий колдовской притягательностью и гипнотической силой внушения. Вы поняли?
– Стараюсь понять, – страдальчески вздохнул Коновязов. – Это такая фигура речи?
– Да нет же, мой друг, никаких фигур! Нормальный голос, но не похожий на наши бесцветные голоса. Чтоб каждый, услышав его, воскликнул: «Теперь наконец-то я понимаю, что означает „глас народа“». И только тогда название партии станет ее настоящим брендом.
– Бренд партии – это имя вождя, – ревниво проговорил Коновязов.
– Ошибка, – мягко поправил Лецкий. – Причем она может стать роковой. Наша партия – с вашего позволения я буду называть ее «нашей», – должна отличаться от прочих сборищ. Она будет партией без вождя. Я, разумеется, не слепой, заметил, как вы недовольно морщились, когда я нелестно отозвался о наших замыленных харизматиках. А между тем здесь та самая точка, где можно их с блеском переиграть. Поймите, остофигевшие лица не выдержат состязания с Голосом, который волнует и обволакивает, неудержимо к себе влечет.
– А что в это время делаю я? – требовательно спросил Коновязов.
– О вас гадают: кто вы и что вы. Ждут, когда прозвучит ваше имя. Судят-рядят, как о некоей дикторше, укрывшейся за волной эфира. Рисуют ваш образ с его загадкой, с этим канальским его обаянием, мысленно представляют стати. Вы будете первым, кто догадался оставить народ наедине с собственным гласом, который так звучен, так упоительно неотразим. Никто еще так незаметно и тонко не угождал своему избирателю, никто еще так его не возвысил, отождествив с этой музыкой сфер.
– Не представляю, – сказал Коновязов – как партия может расти и крепнуть без человека, который ведет ее.
«Самое время сходить с туза, – не без азарта подумал Лецкий. – Не зря же моя козырная дама дала мне наводку на золото партии».
Вслух он задумчиво произнес:
– Политика требует неординарных и неожиданных решений. Завоеванье сердец – тем более. Можете трижды чмокнуть в щечку подвернувшееся дитя – этого мало, чтоб стать отцом нации. Надо иметь воображение. Такое, как у Матвея Даниловича. Если бы я ему изложил такую отважную стратегию, она бы его воодушевила. Впрочем, это можно проверить.
Это был риск, но риск оправданный. Коновязов озабоченно буркнул:
– Сейчас в этом нет необходимости. Вы – одаренный человек. Но где вы отыщете этот голос?
– Моя проблема, – заверил Лецкий. «Теперь объясни работодателю, – подумал он со скрытой усмешкой, – что надо тебя держать подальше от восхищенного населения. Я справился бы с этим уверенней. Ах, как мне нужен прямой контакт».
Когда они вышли из ресторана, день приближался уже к закату. Швейцар попросил их захаживать чаще. И миг спустя девятнадцатый век скрылся в своем лирическом сумраке. Двадцать первый встретил их лязгом и смогом.
Простились они на углу Тверской. Коновязов направился к Гнездниковскому, где дожидалась его машина. Лецкий зашагал к Триумфальной.
5
– Да вы несете бог знает что! – воскликнул, смеясь, Иван Эдуардович.
На деле предложение Лецкого его нисколько не насмешило. Скорей ошарашило и шокировало. Он вообще со вчерашнего дня был в угнетенном состоянии. Вера Сергеевна рассказала, что получила письмо от мужа – в конце месяца Геннадий вернется.
Жолудев с ужасом обнаружил: его эта весть повергла в смятение. Возникла нравственная дилемма, с которой он был не в силах справиться. С одной стороны, он должен быть рад, что узник выйдет из заточения и снова хлебнет глоток свободы, с другой стороны, из этого следует, что счастье, окрылившее Жолудева, исчезнет, как утренний туман и жизнь станет такой, как прежде, – бесцельной, бесплодной, и в общем – бессмысленной. Нельзя календарный круговорот считать полноценным существованием. И вот она вновь ему предстоит. С той разницей, что теперь она станет уже окончательно невыносимой, решительно ничем не оправдывающей его пребывания на земле.
Но это значит – его устраивает то, что Геннадий страждет в темнице, больше того, он готов согласиться, чтобы супруг обольщенной им женщины жил бы и дальше в таком положении. Да, это так. Он предпочел бы! Как бы ни лгал самому себе. Он, Жолудев – исчадие ада!
Последнее время было для них неправдоподобно счастливым, любили они друг друга пылко, будто предчувствуя неизбежность. Однажды он потрясенно воскликнул:
– Как мог он поднимать на вас руку!
Она отозвалась с печальной улыбкой:
– Я и сама была в изумлении. Все злился, что я не затяжелею. Спрашивал: «Что ж ты, корова яловая, никак не телишься? Ровно стенка!».
– Странно же он выражал сочувствие! – негодовал Иван Эдуардович.
– Я думаю, он совсем не сочувствовал, – горько вздыхала Вера Сергеевна. – Зато ревновал как ненормальный. В особенности когда бывали ночные дежурства – с резьбы соскакивал! Я возвращаться домой боялась.
– О, Господи, – поражался Жолудев. – Неужто же он не понимал, что вы неспособны спокойно бросить больных людей, оставить без помощи.
Она кивала:
– Не понимал.
Жолудев воздевал свои длани и потрясенно произносил:
– Это какое-то мракобесие!
– Какие-то основания были, – вступалась за мужа Вера Сергеевна. – Я как-то по глупости поделилась, что сестры с дежурными врачами иной раз себе позволяют вольности. Он сразу решил, что и я – туда же.
Жолудев озабоченно спрашивал:
– Врачи бывают настолько несдержанны? И сестры легко идут им навстречу?
Вера Сергеевна улыбалась:
– Дело житейское. Знаете, Ванечка, где смерть поблизости, стыд уходит.
– И вас они тоже домогались? – допытывался Иван Эдуардович.
Она успокаивала его:
– Нет. Я умела себя поставить.
Потом вздыхала:
– Вы, как Геннадий. Все-таки все мужики одинаковы.
Он заверял ее:
– Это не так. Я бы вас не оскорбил недоверием.
И в самом деле, ее рассказы ни в коей мере не отражались на чувстве, которое он испытывал. Больше того, порой казалось, что эти дразнящие подробности лишь добавляют ему огня.
И вот возведенное ими пристанище, в котором вдвоем им так целебно, может обрушиться и под обломками похоронить обретенную радость. Сколько бы ни твердил себе Жолудев, что человек некриминальный, пусть даже и с тяжелым характером, не может, не должен жить в неволе, он понимал, что свет его гаснет.
Вера Сергеевна сказала:
– У вас выражение лица совсем как у Марии Васильевны.
– А кто же это?
– Одна старушка. Лежит у нас в четвертой палате. На днях пришел навестить ее внук. Принес ей яблочек и карамелек. Ну, посидел с ней десять минуток. Не знал, что сказать, встал, попрощался. Ох, как она ему вслед глядела! Совсем как вы сейчас – на меня.
Сравнение его не порадовало, но он ни звуком не возразил. Было не до того. Лишь сказал:
– Да, в старости люди беззащитны.
Она утешила:
– Что поделаешь? О старости вам еще рано думать. Вы, Ванечка, – дивный.
Он спросил:
– Вы не останетесь со мною?
Она чуть слышно проговорила:
– Нельзя. Немыслимо.
И добавила:
– Он так намучился. Невозможно.
Жолудев сокрушенно подумал о том, насколько Вера Сергеевна нравственно его превосходит. Но легче от этого не становилось. Было неясно, как теперь жить.
Он просто не находил ответа: «Тупик, – бормотал он, – я в тупике». Мысль о том, насколько хрупким вдруг оказалось его равновесие, буквально сводила его с ума. «Если я буду вновь одинок, – терзал он себя, – тогда зачем я? Я занимаю чужое место».
В этом подавленном состоянии, в смятении и упадке духа, застал его появившийся Лецкий.
Сосед не почувствовал атмосферы, в которой томился Иван Эдуардович. Был слишком захвачен целью визита. Не уставал объяснять хозяину, как бесподобны его перспективы.
– Вы обладаете редким богатством, – внушал он оторопевшему Жолудеву. – На что вы растрачиваете его? Никто из обитателей социума и не догадывается, что рядом, на этой непримечательной улице, живет обладатель такого чуда.
– Да вы потешаетесь надо мной, – Жолудев улыбался растерянно, тряс головой, пожимал плечами. – Это какая-то мистификация. Какое чудо? Голос как голос.
– Некогда мне морочить вам голову, – нетерпеливо настаивал Лецкий. – Нет у меня свободного времени. К тому же я слишком вас уважаю. Не спорю, немногие знают хинди или урду, но это не значит, что можно забыть о своей стране.
– Я знаю хинди. Урду не знаю.
– Тем более, – с жаром воскликнул Лецкий.
Для Жолудева осталась неясной такая реакция, но не хотелось вникать в ее смысл. Он спросил:
– Что общего может быть у меня с какой-либо политической деятельностью?
– Хотя бы ваша способность любить, – проникновенно ответил Лецкий. – Я знаю, вы счастливы, мир к вам добр. Надо подумать и о других.
Эти слова оказали на Жолудева самое горестное воздействие. Будто резинкою стерли с губ даже подобие улыбки.
– Почем вы знаете, что я счастлив? – запальчиво оборвал он Лецкого. – Мне вовсе не хорошо, мне плохо. Муж Веры Сергеевны возвращается. А это значит: всему конец.
И неуверенно проговорил:
– Я рад, что он обретет свободу. Но жизнь моя идет под откос.
Лецкий нахмурился. Их отношения не были близкими и доверительными. Признание Жолудева свидетельствовало – ему не под силу страдать в одиночку. Лецкий сочувственно произнес:
– Я разделяю ваше волнение перед грозящим вам катаклизмом. Устройство мира несовершенно – радость всегда соседствует с болью. Это касается личных судеб и социальных отношений. Но именно эта ошибка неба есть дополнительная гирька в пользу того, что вы обязаны содействовать партии «Глас народа». Работа на благо ваших сограждан займет ваши мысли и вашу душу, не даст вам замкнуться в своей беде и стать ее добровольным заложником. В сущности, я не только не вторгся в самый неподходящий момент – наоборот, я пришел дать вам волю.
– Да вы искуситель, – промолвил Жолудев.
– Я – благодетель, – откликнулся Лецкий. – Поверьте, немного здравого смысла и трезвой оценки происходящего – вот все, что мне требуется от вас. Всевышний в своей неизреченной ошеломительной доброте дал вам божественный инструмент, способный и волновать и излечивать. Но это не только ваш собственный голос. Возможно, что им вещает Некто, вселившийся в вас подобным образом. Не улыбайтесь. Эта улыбка – лишь недостойная вас попытка отречься от своего назначения. Иван Эдуардович, божий дар не может быть личным достоянием. Кто слышит врученный вам орган речи? Вера Сергеевна? Это прекрасно, но даже этой прелестной женщиной еще не исчерпывается весь мир. К тому же освобожденный супруг может лишить вас и этих ушек. Кто остается? Сосед по площадке? Работодатель? Случайный гость? Досадно, но узок круг счастливцев. Стало быть, нужно его расширить. Вам будет восторженно внимать громадное, замершее в ожидании, непостижимое государство. Ему вы откроете горизонты.
– Вы невозможны…
– Но мало того, – продолжил Лецкий. – Сейчас вашу жизнь постигло нелегкое испытание. И я вам предоставляю возможность преодолеть его и избыть. Ведь Некто, который неслышно ведет нас, творит судьбоносную связь поступков. Вы выручаете себя и этим помогаете обществу. Служа ему, служите и себе. Вы сразу становитесь необходимы и через эту необходимость людям и жизни вы вновь воспрянете.
– Бог знает что вы такое несете, – растерянно улыбался Жолудев. – Я даже не знаю программы партии, которую должен представлять.
– Программа самая благородная. Таких программ еще поискать, – решительно заявил Герман Лецкий. – Я мог бы заметить – не без цинизма, – что за программу еще никогда и никому не было стыдно. Стыдно бывает за воплощение, а вам за него не нести ответственности. Но в нашем случае не до ерничества. Партия поднимает свой голос – или свой глас, как вам угодно – за рядового человека. Отнюдь не за маленького, он не мал. Не за простого – он не прост. Но он не из ряда вон выходящий, он честно шагает в ряду с другими. И это ему не мешает иметь свое достоинство, самосознание, иметь свою миссию на земле. Возьмите хотя бы Веру Сергеевну – разве она не воплощает этот высокий и твердый характер? Она ли не заслужила счастья в вашем лице? Но она исторически привыкла мириться с ярмом повседневности, с образом жизни и с обстоятельствами. Ход событий ей кажется неодолимым. Она привыкла ему подчиняться, не может переломить судьбу.
– Как верно, как точно! – воскликнул Жолудев.
Внезапное превращение Веры в своеобразного демиурга сыграло решающую роль. Автоматически он произнес:
– Но вы меня откровенно вербуете…
Однако уже сама эта фраза свидетельствовала о капитуляции.
Лецкий мефистофельски хмыкнул:
– Естественно. Разве я это скрываю? Но вы ничего не потеряете. Наоборот – приобретете. Увидите, партия «Глас народа» умеет быть истинно благодарной тем, кто кует ее победу.
«А в самом деле, – подумал Жолудев, – решительно все за мое согласие. Деятельность, пусть вспомогательная – читать заготовленные тексты, – поможет занять мне ум и душу, возможно, хоть несколько сократит подкрадывающееся ко мне одиночество. К тому же внесу посильную лепту – хоть дикцией – в достойное дело. Разве такие люди, как Вера, не заслужили иметь предстателей?» Он вспомнил, однажды она сказала: «Вот так всегда живу без заступы». Усталое, одинокое сердце! Недолгим же было твое возрождение. «Хоть так я буду твоим заступником», – растроганно сказал себе Жолудев.
Деятельность, которой он должен был себя посвятить, останется тайной – он обязался не нарушать это важнейшее условие. Никто отныне не вправе знать о том, что это он – глас народа. Такое подполье вначале смутило и даже обескуражило Жолудева.
– Видите ли, – сказал он Лецкому, – я по природе не приспособлен к подобной конспиративной жизни. Мне для нее не хватает собранности. Помнится, в своей ранней юности я избегал запрещенных книг. Не из любви к властям предержащим или отсутствию интереса к состоянию общественной мысли. Все потому же – я не способен к какой бы то ни было потаенности. Вы понимаете меня?
– Я вас отлично понимаю, – заверил Лецкий, – я сам таков. Вполне лоялен, законопослушен, живу заодно с правопорядком. Табу, наложенное на ваше имя, вызвано не экстремистскими целями, а чисто рабочими, технологическими. Если хотите – даже идейными. Глас народа не может принадлежать какому-то одному человеку, как это было б в вождистской партии. Глас народа не имеет фамилии и не имеет имени-отчества. Его невозможно персонифицировать. В этом-то – весь пафос проекта. Как видите, ничего сомнительного. Развеял я ваши опасения?
– Да, вы убедительны. Я ведь сказал: мне никакого шума не нужно, безвестность меня не тяготит. Наоборот, для меня органичней по-прежнему пребывать в неприметности.
– Вот и отлично, – одобрил Лецкий.
Денька через два после этой беседы явилась Валентина Михайловна. Чем чаще случались такие визиты, тем она тщательней к ним готовилась. Теперь она редко упоминала о своей опытности и знании жизни – эти бесспорные достоинства могли обернуться против нее, она это ясно сознавала. Соленые шутки о преимуществах зрелого возраста, второй молодости, уже не слетали с припухших губ. Она не шутя занялась собою, сдружилась с владелицей фитнес-салона и истязала себя по утрам с какой-то самоотверженной истовостью. Все это сильно тревожило Лецкого. Что делать, если дама привяжется? Последствия могут быть непредсказуемы.
Он отдал должное ее виду:
– Вы сногсшибательны, моя радость. А уж какие на вас одежды!
Она засмеялась:
– Напрасный труд. Предпочитаешь меня в натуре.
Они продолжали свою игру. Лецкий со старомодной изысканностью всегда обращался к ней на «вы». Она демократически тыкала.
Когда поединок завершился, она его одарила новостью:
– Мордвинов доволен твоей идеей. Сказал про тебя: «Малый не промах».
Прижалась к нему и шепнула:
– Он прав.
– Это он Гунину сообщил?
– Гунину. Кому же еще? «Малый не промах. Теперь посмотрим, какой он спичрайтер. В этом все дело».
Лецкий небрежно пожал плечами:
– По мне – идея дороже слова.
Он усмехнулся. Чтоб скрыть свою гордость. На самом же деле слова магната доставили ему удовольствие. «Слаб человек», – подумал Лецкий. Впрочем, могущественный Мордвинов был прав – торжествовать еще рано. Теперь ему предстоит оснастить сладкоголосого соседа. От этого, в сущности, и зависит успешный исход всего предприятия.
Не дай бог оплошать и порадовать столь уязвленного Коновязова. Естественно, общая неудача на нем отразится еще тяжелее, но так уж бездарно и пошло устроено наше поганое самолюбие.
На днях он знакомил лидера с Жолудевым, и ощетинившийся Коновязов не мог совладать с бушевавшей ревностью. Пытался заслониться иронией:
– Так вот вы какой! Уже наслышан, что вы и есть Орфей наших дней.
Жолудев кротко прошелестел:
– Это чрезмерно. Я вас уверяю.
– Рад за партию, – сказал Коновязов. – Слава богу, отныне в ее арсенале не только золотое перо, – он отвесил поклон в сторону Лецкого, – к тому же еще золотой голос.
Жолудев простонал:
– Помилуйте. Вы меня окончательно сконфузите.
Но лидер только махнул рукой. Душа его обливалась кровью.
«Что с ним творится?» – спросил себя Лецкий. Было обидно за бедного Жолудева, который всерьез принимал это гаерство, румянился и смущался, как барышня. «Какого рожна он так клокочет?» – думал он, глядя на Коновязова.
Теперь, после слов Валентины Михайловны, нервная взвинченность Коновязова стала ему гораздо понятней.
«Все ясно. Верховное одобрение, которого я был удостоен, его окончательно подкосило». Он почему-то разозлился на грешную Валентину Михайловну.
– Зевс-громовержец не запылился бы, если б сказал о своих впечатлениях не вашему мужу, а мне самому.
Она опрометчиво рассмеялась:
– А ты бы их вызвал к себе обоих.
– Благодарю вас, моя дорогая, – проскрежетал он с кривой ухмылкой.
– Это за что же?
– Хотя бы за то, что вы мне напомнили мое место.
Она рассудительно посоветовала:
– Герочка, не валяй дурака. Какое это имеет значение?
Лецкий сказал:
– Имеет значение.
Она притянула к себе его голову.
– Да брось ты… Губы надул, как Федул. Дать тебе зеркальце? Ты как маленький…
Но Лецкий уже вернул равновесие и сам дивился нежданной вспышке.
«Юноша был самолюбив. И горд, – он мысленно усмехнулся. – Сказался дедушка-разночинец. А ты, моя милая, всполошилась. Ну что же… авось на пользу пойдет».
Вслух сдержанно произнес:
– Все в порядке. Но помните – у меня есть достоинство. И поступаться им я не буду.
– А я-то при чем?
– Подумайте сами. Давно могли бы нас познакомить.
Она прижалась еще плотней. Шепнула:
– Суетиться не надо. Все будет. Нужно иметь терпение.
– Терпеть я умею, – вздохнул он горько. – Терпение – мое главное качество. А также – скромность и безответность.
– Здорово ты себя рекламируешь.
Он рассмеялся и веско заметил:
– Шины «Данлоп» в рекламе не нуждаются. Сами за себя говорят.
6
В воскресный вечер, в лучшее время, обозначаемое как прайм-тайм, Иван Эдуардович вышел в эфир.
– Волнуетесь? – полюбопытствовал Лецкий.
Жолудев еле заметно кивнул. Его лихорадило с той минуты, когда они с Лецким вышли из дома, и с каждой следующей – все больше. В тот миг, когда он увидел здание, в котором располагалось радио, его охватил сильнейший озноб, горло стянула жестокая сухость. «Да я и звука не произнесу», – думал он, поднимаясь в лифте, который со свистом их нес в поднебесье – где-то на верхнем этаже, почти под самыми облаками, их поджидала заветная студия.
– Мужайтесь, – посоветовал Лецкий.
– Сел голос, – шепнул Иван Эдуардович.
Лецкий сказал:
– Как сел, так и встанет. Иллюзия. Очень вы впечатлительны.
Жолудев про себя изумился и позавидовал этой уверенности. Но необычная обстановка его захватила и отвлекла от мыслей, парализующих волю.
Длинный стремительный коридор с обеих сторон был точно заставлен прямоугольниками дверей. За ними, как догадался Жолудев, творилось эфирное священнодействие, готовились, варились, пеклись и заправлялись различными специями те многочисленные блюда, которые вылетали в пространство. На стенах между дверьми размещались фотопортреты культовых деятелей, которые побывали в студии. Под ними пестрели их автографы. Но еще большее впечатление производили лица сотрудников, шагавших навстречу по коридору. Жолудев лишь глазел и гадал, с кем из них следует сопоставить известные ему имена. Когда одинокими вечерами с каким-то мальчишеским интересом он вслушивался в их голоса, густые, заливистые, бархатистые, размеренные, смешливые, звонкие, задорные, нейтральные, грозные, но неизменно отчетливо внятные, он рисовал себе те черты, которые лучше всего соответствуют тому или иному звучанию. Особенно хотелось увидеть прячущихся за голосами женщин. Едва ли не каждую из них загадка делала обольстительной. Иван Эдуардович часто думал, что этим аудионезнакомкам разумнее хранить свою тайну и прятать себя с головы до пят, как поступают восточные дамы. Нет смысла тягаться с воображением всех тех, кто им внемлет, – это бесплодное и обреченное состязание!
Однако сейчас, когда перед ним явилась ожившая фонотека, он, против воли, все больше втягивался в эту волнующую игру – все раздавал незнакомым лицам давно знакомые имена.
И тут он со страхом и трепетом вспомнил: всего через несколько мгновений он тоже перестанет быть Жолудевым, возникнет человек-невидимка. При этом совсем не такой, как эти! Люди, вещающие в эфире, отнюдь не утрачивают фамилий, а он обязался свою забыть и раствориться в собственном голосе, отдать, подарить некому множеству, которое называют народом, и стать, как предписано, его гласом. Никто на свете не должен знать, что этот глас именуется Жолудевым. Никто. О, Господи! Помоги мне.
Дальнейшее Жолудев помнил смутно. Он, безусловно, существовал отдельно от себя самого, в сомнамбулическом состоянии. Он двигался и говорил как в наитии.
Его ввели в громадную комнату, похожую скорее на зал, заставленную аппаратурой. Потом усадили за длинный стол, напротив него возвышалась дама с гордо посаженной головой, обремененной двумя наушниками, напоминавшая существо из фантастического романа. Иван Эдуардович еле успел подумать о том, что это, быть может, одна из таинственных амазонок, беседующих с ним ежедневно – настал великий час его жизни. Он впился очами в стопку листов, в тот самый исторический текст, которым он должен начать свою миссию – Лецкий занес его накануне. За сутки он мало-помалу привык к этим отчеркнутым периодам, смысл которых при первом чтении его ошарашил и напугал.
«Здравствуйте, дорогие друзья, – братски воззвал Иван Эдуардович, – к вам обращается „Глас народа“. Поверьте, слова „дорогие друзья“ – совсем не дежурное обращение, это никак не фигура речи. Вы в самом деле наши друзья, и в самом деле вы все нам дороги. Ваши заботы – наши заботы, а ваши радости – наши радости. Вы слушаете, мы говорим, но это единственное различие, меж нами не существует зазора. Мы те, кого в некоторых кругах, самонадеянных, самовлюбленных, кичащихся своим процветанием – они называют его „успешностью“, – считают „рядовыми людьми“. Эти два слова там произносят с долей сочувствия в лучшем случае и с пренебрежением – в худшем. Сочувствие – сытое и снисходительное, пренебрежение – откровенное, в нем чувствуются самодовольство и вызов. В отличие от этих господ мы рады назвать себя рядовыми».
Далее Иван Эдуардович напомнил, что рядовой человек – соль нации и хребет государства. Он сторонится телеэкрана не от забитости и дремучести, а только от собственной самодостаточности. Его повседневная работа – та почва, на которой стоит и ежечасно крепнет Россия. Те, кто нашел свое место в строю, место в ряду, это и есть – так называемые рядовые!
Он объяснил, что сделает партия, чтоб наконец украсить их жизнь. Есть знание, есть воля, есть сила. Нужна лишь поддержка сестер и братьев. Партии не нужны голоса временщиков и пенкоснимателей, жирной толпой «стоящих у трона», как некогда точно заметил поэт.
«Глас народа», заверил Иван Эдуардович, не опустится до дешевой полемики с политиканами и демагогами. Он не издаст ни вскриков, ни всхлипов, ни электорального визга. Он неслучайно звучит так спокойно, так благородно, мудро и веско. Ибо доносится с той белоснежной, недосягаемой высоты, где попросту не слышны завывания.
«Чего хотят от вас эти люди? – печально спросил Иван Эдуардович. – Чего они ждут, чего домогаются? Они взывают о вашем голосе. О том, чтобы вы его отдали им. Думают ли они о вас? Мучаются ли вашей бессонницей? Мечтают ли озарить ваши сумерки? О, нет. Они хотят одного. Быть избранными. Произнесите вслух два эти многозначащих слова. Быть избранными. Вы вдумайтесь только! Богат да и точен русский язык! Быть избранными. Не только в парламент. Быть избранными членами общества. Особенными. Не рядовыми. Ничем не похожими на вас.
Ну что же? – спросил Иван Эдуардович. Голос его наполнился болью. – Ну что же? Вы изберете их в избранные? Сделаете своими избранниками? Доверите им свою единственную, честную рядовую жизнь? Ну нет, не зря же вы обладаете ясным умом и чутким слухом.
Партия „Глас народа“ – ваш друг, ваша защита, ваша заступница. Это вполне эксклюзивный, особый, ни с чем не сравнимый организм. Это не слепленное впопыхах темное, мутное образование, созданное с одной лишь целью – отрекламировать самозванца. Она – не инструмент честолюбца.
Партия „Глас народа“ – не лидерская, что следует из ее названия. Она выражает все ваши чаяния и сокровенные надежды. Само собой, есть бескорыстные люди, которые тащат, себя не жалея, груз повседневных партийных забот. Им нелегко, но они не хнычут. Имейте терпение. Время настанет, вы их узнаете и оцените. Сегодня они избегают шума, не ищут дешевой популярности. С достоинством сохраняя лояльность властным структурам и администрации, они отстаивают ваши права.
Их назначение – быть вашим голосом. Быть вашим колоколом. Набатом. Они всегда и повсюду – с вами. Готовы не говорить, а действовать.
Сплотите ряды, рядовые люди. Мы – рядом. Не кинем, не предадим.
Ваша партия, ваша опора, ваш глас».
Жолудев кончил читать манифест. Он чувствовал душевный подъем и безусловное удивление. Оказывается, словесный поток имеет свойство производить все новые и новые блоки, сцепленные не столько сутью, сколько способностью заряжаться от трения, вспыхивающего меж ними. Было престранное ощущение. Казалось, слова живут отдельно, какой-то своей автономной жизнью. И жизнь эта у них, как у нот, не столь смысловая, сколь фонетическая. Но больше всего его поразила возникшая у него уверенность: стоит включиться в эту стихию, и он сумеет ее направить даже без помощи Германа Лецкого.
«Вот это новость! – опешил Жолудев. – Выходит, что я себя толком не знал. Я человек авантюрного склада». Это открытие потрясло его. Он вспомнил себя неприметным школьником, всегда и везде сторонившимся стаек – этакий маленький аккуратист. Так он подавлял свою натуру? В его сердечке кипели страсти, а он не догадывался о них. Что, если все эти долгие годы он попросту губил свою сущность? Жолудев мысленно содрогнулся.
Он вышел из студии вместе с Лецким, ловя на себе теменным своим оком заинтригованные взгляды.
– Не худо, – весело бросил Лецкий, – надо отметить ваш бенефис.
Он предложил посетить заведение, почти прилепившееся к радиостудии. Сели за столик, наполнили рюмки коричнево-золотистым зельем.
– Я говорил, что вы искуситель, и я был прав, – рассмеялся Жолудев.
– Я тоже был прав, – отозвался Лецкий. – Вы оправдали мои надежды.
Он посоветовал на досуге прокручивать запись и слушать свой голос, чтоб обнаружить свои огрехи и совершенствовать сильные стороны.
– Я уже сам об этом подумал, – признался Жолудев. – Мне было стыдно просить вас достать для меня фонограмму.
– Это чего же вы устыдились?
Жолудев пламенно зарумянился.
– Я опасался, что вы решите, будто я склонен к нарциссизму.
– Вы эти цирлих-манирлих оставьте, – Лецкий поморщился. – Все это – вздор. Прежде всего – интересы дела.
«И снова он прав, – сказал себе Жолудев. – Цену имеет лишь результат».
– За ваши голосовые связки, – торжественно провозгласил Мефистофель. – За славное Золотое горлышко. Храните его как зеницу ока. Кутайте шейку, не ешьте мороженое.
– Все шутите надо мной.
– И не думаю. Помните, что вы – глас народа.
Рюмки вспорхнули и с нежным звоном облобызали одна другую.
– Спасибо вам, – сказал Жолудев с чувством.
Его благодарность была безмерной. Этот напористый человек, явившийся в лихую минуту, действительно его возродил. Просто отвел от края бездны.
Вернулись домой они уже в сумерки. Простились на лестничной площадке. Иван Эдуардович проследовал в свое одинокое жилье. Сколько событий за этот день! Даже подкашиваются ноги. Не раздеваясь, прилег на тахту, прикрыл глаза, протяжно вздохнул. Как грустен этот нежданный праздник! Еще недавно он мог разделить его с незаменимой любящей женщиной. Пусть рассказать ей о том, кем он стал, где был, как повернулась судьба его, он нынче не вправе, он связан словом, но уронить небрежный намек, сказать, что судьба переменилась, не та, что была, и что он – не тот, дать ей понять – пожалуй, он мог бы.








