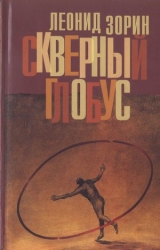
Текст книги "Скверный глобус"
Автор книги: Леонид Зорин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Я поступал, как он внушал, и делал то, чего он хотел. Я вспоминал о своей медицине, когда это требовалось сюжету. Я и на самых близких людей смотрел как на будущих персонажей.
Стоила игра этих жертв? Стоило воссоздание жизни той, несочиненной, той, подлинной? О, разумеется, жизнь под пером, прошедшая сквозь жаровню мысли, кажется весомей и глубже. Перо соскребает с нее шелуху, словно ключом ее отмыкает и продирается – взмах за взмахом – все дальше, к сути, к смыслу, к секрету.
Но, может быть, в этой-то шелухе, в этих захлестах, в стесанной стружке и было главное очарование? Поздно об этом рассуждать. Писательство мне заменило весь свет – молодость, любовь и религию.
Впрочем, теперь уже не поймешь, что было частью, что было целым, что было первым, а что – вторым. Можно разъять мой монолог на реплики – они ведь не сцеплены. Но жизнь не разделишь на части, каждая проросла в другой. Меня нельзя уже развести с этим зеркальным отражением. В давние дни сей господин настолько покорил мою душу, что я пожелал в нем раствориться. Исполнилось. Мы и впрямь одно целое.
Кто из нас этого добился – я или он – уже неважно. Важно, что нас уже не различишь. Разве, если вернуться назад на сорок лет, или чуть больше, на берег покинутой Меотиды и встретить одного малыша, который там жил, ничего не предвидя.
Нынче пред вами старое чучело в полуседой бороде и усах. Вряд ли мы схожи. Но важно понять: что делало жизнь детской души такой неспокойной? Неутолимой? Что выдернуло ее из толпы? И почему, едва оперившись, ты вдруг задумался над загадкой: так в чем она, в чем она, эта причина, что видимое беднее скрытого и воплощение – хуже замысла? Сам человек тому пример. Таким ли был некогда замысел неба?
Нет, лучше не возвращаться назад. Смотришь на старую фотографию, остановившую краткий миг, и сразу же гасишь одно желание: немедленно переписать и детство и все, что последовало за ним. Перебелить и переделать едва ли не всю свою судьбу.
Все же в ней было и много славного. Знал это острое наслаждение, которое доставляла работа и все, что сопутствовало ей, – раскладывание писчей бумаги, забавы с карандашами и перьями, распухшие записные книжки, настраивавшие тебя, как скрипку. И этот егерский холодок, когда решаешься наконец выбрать необходимое слово. Радуешься, как малый ребенок, чувствуя его свежесть и меткость.
А этот донесшийся до тебя неведомо откуда сигнал: дело ладится, мысль на верном пути. Сама судьба невзначай, ненароком, подсказывает тебе решение и посылает тех, кого нужно.
Удовлетворение кратко. Но тут уж ничего не поделаешь. В замысле все почти совершенно – до чуда, до головокружения – свершения неизменно тусклее. Что ж, был зато и счастливый жар.
И все же: как надо жить свою жизнь? Когда-то ответ казался прост: мудрее всего жизнь ради жизни. Недаром же она соответствует любезной сердцу литературе – внятной, естественной, без претензий. Но нынче я не думаю так и, больше того, я так не чувствую. И поиск истины в непритязательности, и поиск смысла в наших усилиях занять собою клочок пространства кажутся мне попыткой бегства от неразрешимой загадки. Такая жизнь – подобие жизни, и обретенным тобою зрением видишь ее приговоренность.
Что делать в этом замкнутом круге? Везде все то же – в горном гнезде и в муравейнике в долине. Жизнь кричит от безутешности.
Время спросить себя: было в ней что-нибудь, кроме труда и одиночества? Но ведь и одиночество – труд. Правда, я верил, что в нем спасение. В общем-то, все так и выходит. Одиночество спасает от жизни, смерть спасает от одиночества. Всегда есть тропка из тупика.
Еще один монолог невпопад. Во мне клубится недоброе чувство. Недосягаемый образец, следящий из своего зазеркалья за каждым моим душевным движением, меня, безусловно, не одобряет. Он столько учил участию к людям и снисходительности к их слабостям.
Его удручает, что для меня все еще так немаловажны их рассуждения о том, что я делаю. Он повторяет, что жизнь – не суд, где требуют от тебя доказательств. Что доказать ничего нельзя, что те, кого бы хотел опровергнуть, либо уже сошли со сцены, либо сойдут в ближайшее время. В сущности, это всем безразлично. Он мне внушает в который раз: где доброта, там доброе имя.
Я это понял, сделал своим, я потрудился для доброго имени в нелегких отношениях с ближними и – что еще изнурительней – с близкими. С юности помнил, что год без них стал годом моего распрямления, но этого больше не повторилось, так и остался я жить в семье. Он был доволен моим решением.
Но и когда сестра отказалась от собственной жизни ради меня, я ей позволил так поступить. И что поразило – позволил и он. И принял этот дар как естественный. Право, тут есть над чем подумать.
Был ли я добр от рождения? И сам не знаю. Да и не вспомнишь. Я видел, что люди вокруг несчастны, что если даже они грешны, любая укоризна бессмысленна. Так же, как и любой призыв. Услышат их только в тех пределах, которые могут быть доступны нашей себялюбивой природе.
Свои пределы имеет и жалость. Я чувствую, как она иссякает. Люди, привыкшие быть страдальцами, все больше становятся невыносимы. Может быть, я, наконец, возвращаюсь к себе самому, к своей Меотиде?
Трудно сохранять равновесие, когда понимаешь, что впереди могло быть и двадцать и тридцать лет! Еще тридцать лет этих утренних запахов, этого полдневного света! Можно захлебнуться от счастья! Но впереди есть только два слова – новопреставленный и приснопамятный.
Второе слово приятно, но лживо. Тургенев сказал, что следы нашей жизни глохнут мгновенно. И это так. Если и представить несбыточное: вдруг появляется некий чудак и среди гор громоздящихся книжек находит мою, что его ждет? Нечто забытое, несообразное, ничем не сходное с его жизнью. Малопонятные персонажи, странный архаический слог, написано на чужом языке.
Невесело. Но кто его знает? Судьба читателей может сложиться еще незавидней судьбы писателей. Снова мыслишка не без злорадства. Когда ждешь поезда в никуда, невольно думаешь: эта дорога не одному тебе предстоит. Вот мы какие христиане. Небо отказало в смирении так же, как отказало в детях.
Чем ближе и неотступней прощание с этой изношенной бедной плотью, тем чаще думаешь, понимает ли глупое суетливое племя, что вскорости ждет его расставание с островом, где ему выпало жить, что нужно готовиться к этому часу. Изношены и племя, и остров.
На сколько нас хватит? На век-другой? Меньше минуты в потоке времени. Но ты обязан трубить: надейтесь! Лет через двести или триста земля станет садом, а жизнь – праздником. И будет над нами алмазное небо. Лет через двести или триста. Русский писатель вас заверяет.
Призвание у него такое? Потребность ли у него такая? Или все тот же хороший тон? Необходимый «хороший тон», предписывающий нам веру в будущее?
Пешков восторженно и умиленно, как и положено оптимисту, тамбурмажору новой зари, гудит, что боготворит человека. Шопенгауэр, которым мог стать дядя Ваня, однажды окрестил оптимизм «насмешкой над муками человечества». Какая все-таки мешанина в наших раздувшихся головах! Так никогда и не разберемся ни с оптимизмом, ни с новой зарей, ни с человечеством, ни с его муками.
Новая заря поспешает, блеснет «через двести-триста лет», а человека всегда будет жаль, но бога творить из него не нужно. Хотя бы за то, что своими муками обязан он себе самому, своей разрушительной природе.
Все смутно. Что можем мы знать о жизни, которая будет спустя триста лет, какой тогда она примет облик? И будет ли она на земле? Но, если ты русский писатель, тверди: ждите. Всего только триста лет.
Слово все больше лишается смысла. То жреческое шаманство под бубен. То просто молодящийся вздор под звуки марша. Хороший тон. Музыка играет так весело.
Мы неудержимо стареем. Даже и те, что сюда пришли совсем недавно, глядят на нас морозными седыми глазами. Молодость точно себя стыдится, точно не хочет быть молодой. Ищет насилия, бури, крови. Вовсе не держится за жизнь. Отдать и принести ее в жертву становится все проще и легче. Словно когда-нибудь повторятся эти лебяжьи облака, снова зашелестит трава, лукаво, как платье любимой женщины. Словно возможно возникнуть вновь на берегах своей Меотиды.
Но не вернемся, не повторимся. Платье износилось, как плоть, как сердце, как наш уставший дух. Нужно найти в своем существе достаточно трезвого достоинства, чтобы расстаться с пустой надеждой. Если разумная свежая жизнь родится, то родится не здесь. Кто знает, может быть, ей повезет.
А мы? Сколько будем мы жить на земле с этим отчетливым чувством прощания с нашим островом? Век? Два века? Три века? Три еле заметных мгновения. Три огонька в подступающей тьме. Три поминальные свечи.
Думать не хочется. Мысли стихли. Чувствовать тоже – уже не по силам. Если прислушаться – воздух звенит. Звон его вокруг и во мне. Я еще слышу эту ноту.
Самое важное – в гуле, в слове, в художестве, услышать свой звук. Мне стало легче его найти, когда я неожиданно понял, что он исходит из монолога – либо не прячущего себя, либо укрытого в тайнике.
Как это неизменно бывает, то, что открылось в счастливый день, после показалось естественным, почти само собой разумеющимся. Ведь мир наш, в сущности, монологичен. И все звучащие в нем голоса перекликаются монологами, не находящими ответа. Каждая жизнь есть монолог.
Однажды им началась моя пьеса, теперь последнее одиночество тоже потребовало его. В конце концов, монолог под занавес – может быть, самый традиционный.
Но и сейчас ты не один. Но и сейчас, отбирая слова, старательно приглушаешь звучность, чтоб он не нахмурился, не осердился. Он – здесь. Он глядит на тебя из зеркала, следит, чтоб и в свой прощальный час был ты таким, каким он тебя сделал.
Позволь себе крикнуть, дитя человеческое! Ты долго постился на этом ристалище, не разрешал себе ни излишеств, ни лишнего ломтика ситного хлеба – ты заслужил хотя бы на миг, всего лишь на миг, отпустить постромки. Нет, поздно. Теперь вы с ним нераздельны и он не дает тебе права на слабость.
Он прав. И теории, и системы, бунты, восстания, перевороты, сменявшие друг друга эпохи, – все обнаружили свою ложь. А не обманет только оно – найденное в бессрочном поиске, выбранное одно из тысячи, верное, неподкупное слово.
В парке все больше и больше людей.
Музыка играет так весело.
Ну вот-с.
Давно я не пил шампанского.
Ich sterbe.
Июль-сентябрь 2005 г.
Восходитель
Монолог
Ехал из загородного теремка, к которому привыкаю все больше, радовался летнему утру, смотрел на бесстрастную спину водителя, не пялясь на встречных и поперечных. Сколько я помню себя на свете, столько меня сопровождает раздражение от людского потока. Возможно, когда-то в моей подкорке вдруг поселился испуг перед множеством, возможно, в младенчестве некий страх сотряс мою душу, кто теперь скажет, но эта напасть со мной осталась.
Я научился ее скрывать, как нечто стыдное и дурное, к тому же обидное для окружающих. Поныне никто о ней не догадывается, хотя она никуда не делась. Наоборот, даже усилилась. Хотя, бесспорно, стала понятней.
Уже в пределах Москвы, на Кутузовском, на повороте, мой взгляд скользнул по переминавшимся пешеходам, которые, гася нетерпение, ждали зеленого сигнала. Скользнул и выдернул из толпы лицо, показавшееся знакомым. И весь немалый остаток пути я спрашивал себя: это она?
Нет, это вздор, случайное сходство. Да и не виделись столько лет, страшно подумать, легко ошибиться. Просто усталое лицо. Женщина, не пощаженная жизнью. Столько я видел подобных лиц, вянущих и уже смирившихся с тем, что их свежесть давно прошла. Нет, померещилось, помстилось. Так некогда изъяснялись авторы в златую пору нашей словесности. Если б она оказалась в столице, неужто не дала бы мне знать?
Была она худенькая до невесомости, глаза ее в коричневых крапинках мерцали задумчиво-отрешенно. Поморское северное лицо, северные твердые скулы, редкие в наших теплых краях. Единственная, должно быть, примета, которая могла бы запомниться. Да, скромная, неброская внешность. А голос был еще полудетский.
Вздор, сходство, игра воображения. И все же лицо на перекрестке не выходило из головы.
Поэтому и день не задался. Я неожиданно для себя отвлекся во время речи шефа. Взгляд мой поплыл над его шевелюрой, над хохолком, словно отбившимся от чинно уложенных волос.
Всего лишь на миг я выпал из времени. Но шеф отреагировал сразу. Я снова увидел, как мгновенно белеют его глаза и губы. Не раз был свидетелем этих вспышек. Но нынче я сам причина гнева. И это он мне, а не другому, бросил свистящим полушепотом: «Слушать! А если неинтересно, то вас не держат». Я промолчал. Знал, что оправдываться не надо. Нужно безмолвно принять пинок.
После, один, смиряя обиду, я по привычке искал оправдание этой не слишком пристойной сцене. Конец недели нервен и взрывчат – шеф устает себя контролировать. Бедняга. Он теряет лицо. Не может овладеть ситуацией. Я преисполнился пониманием.
В этом и состояло средство, найденное за годы службы. Средство умерить свою досаду и укротить свое самолюбие. Я начинал жалеть начальство, посмевшее устроить мне порку. Вы возвышаете свой голос, я возвышаю себя до жалости. Участливо прячу свое превосходство.
Как правило, такая инъекция мне помогала во всех кабинетах. Не исключая и самых грозных. Стоило очередному боссу сдвинуть брови, я себе напоминал: растерян, ищет правильный тон, все еще не может поверить, что он командует этим манежем.
Вот и сегодня, по той же схеме, я говорю себе: не ершись. В сущности, кто этот громовержец? Один из безродных баловней счастья, вытолкнутый наверх обстоятельствами. Дела у него давно не ладятся, он мучается, пыхтит, не тянет, хозяйство трещит и ползет по швам. Только одно ему и остается – время от времени исторгать из помертвевших стеклянных глаз этот пучок белого пламени. Нет, право же, гуманистический взгляд на сильных мира сего оправдан. Жалею, сочувствую, снисхожу.
Однако моя терапия буксует. Мне душно, и духота не проходит. Впервые полувскрик-полушепот обрушился на меня. Ну, нет! Я знаю, что я обязан сделать, – немедленно объявить об уходе. Я не из тех, кого можно размазать. Я не из тех… Но постепенно, с усилием, прихожу в себя. И тут меня пронзает догадка: моя смешная щенячья реакция связана с утренним эпизодом – я думал о женщине на перекрестке, которую принял за ту, и почувствовал, что я унижен в ее присутствии!
Ах, господи! Все еще как мальчишка. Не кипятитесь, гордый мужчина. Самое обычное дело. Тебе напомнили – и своевременно – разреженный воздух вершин суров. Требует всяческой концентрации. Ежеминутной, ежесекундной. Мудрее поблагодарить за урок.
Подобная солдафонская взбучка – очень умеренная плата за то, что жизнь так удалась. Три раза повтори это вслух. В расцвете своих сорока четырех почти достигнуть верхушки древа.
Тем более день уже позади, я еду обратно в свой теремок и буду принадлежать себе более суток – просто гулянка! Да и нервишки придут в равновесие. Как трудно мы расстаемся с юностью! Не отпускает, нет-нет и обдаст какой-нибудь жаркой шипучей пеной. И будто кровь мутит твою голову. А между тем ты давно не птенчик. Ты уже купан во всех щелоках.
Сейчас, когда я качу по Москве, уткнувшись глазами в шоферскую спину, мой пыльный, оставленный мною город кажется почти сочиненным. И знойный полуденный асфальт, и плотный почти внезапный сумрак, как будто падающий на улицы, на эти приземистые дома и чадные грязные дворы. Везде закоулки и тупики, шаг в сторону – и путь обрывается, словно внезапно вышел весь воздух.
И ты, мое родовое гнездышко, где я пробил скорлупу своим клювиком, не вызовешь умиленного отклика. Поныне гнетут полутемные комнаты, и темная нищая подворотня, и эти чаны, набитые мусором – из них тянуло гнилью и прелью. А пуще всего хотелось избавиться от клейкой родительской опеки. Хотелось заголосить: уймитесь! Зачем вы учите уму-разуму, если страшней всего повторить ваше дремучее прозябанье?
Мой бедный отец постоянно служил мишенью семейного остроумия. Он как никто умел оказаться в самой нелепой ситуации. В нашем семействе ему постоянно напоминали одно событие: в доме однажды вспыхнуло пламя, и он с непостижимым бесстрашием ринулся спасать партбилет. Мать не могла ни понять, ни простить этого беспримерного подвига, тем более что отец мой не слыл таким уж истовым меченосцем. Членство его скорее было карьерной удачей, нежели постригом. Теперь-то мне ясно, что в огонь вела его не верность идее, а мысль о неизбежной каре, не сбереги он своей святыни. Добавлю, что до конца своих дней он маялся комплексом полукровки, допущенного по чьей-то ошибке, по недосмотру, в священное братство. Спасал он не столько скрижаль господню, сколько единственную защиту от унижений и катастроф. Если уж даже мне, квартерону, эта треклятая четвертушка южной, не вовсе дозволенной крови все еще создает дискомфорт, то что говорить о моем родителе? Активная жизнь его началась уже во второй половине века, после триумфальной войны. Но побежденный внушил победителю, что сила этнической исключительности надежнее всех ракет на свете. Право, история поражений не знает второго такого реванша.
Но я был молод, самонадеян, смеяться над тем, кто дал тебе жизнь, – это особое удовольствие. Прыжок в костер за кусочком картона стал обязательным анекдотом. Тем более в родимом клоповнике смеялись и веселились нечасто. Я и встречал и провожал каждый свой новый день обетом: вырваться отсюда на волю.
Когда мне доводилось читать благостный вздор об уюте провинции, я мысленно обращался к автору: меня обмануть тебе не удастся. Еще одна ложь в ряду остальных. Обманывает малая родина, да и большая – что эта, что та. Не лгут только те, кто возглашает, что ложью пропитано все пространство, отпущенное взаймы человеку. Врут песни, ритуалы и праздники, вбивающие нам в уши и в души, что мир мажорен и гармоничен.
Именно так я пускал пузыри – можно извинить недоумка. Даже и более зрелые люди любят фрондировать – этим манером они утверждают свое достоинство – даром ли оно так топорщится!
Но будьте же ко мне снисходительны – маленькой захолустной петарде невыносимо жить в неподвижности. Все те же стены, все та же скудость, кажется, время остановилось. Зачем я, если не для того, чтобы взлететь и загореться? Терпи. Ты никто, и звать никак.
Но я не находил себе места. В юности всякое несоответствие переживаешь особенно остро. А уж субъекты вроде меня с их вечно повышенной температурой и столь же повышенной самооценкой… Все, в чем я жил, и все, чем я жил, – все было цепью несоответствий.
Что же спасло меня? Ты и спасла. В моем ненормальном состоянии нежданно грянувшая влюбленность не столько лишила меня устойчивости, сколько, напротив, ее вернула. Встряхнула стрелки на циферблате, а с ними и всю мою обыденщину.
Пожалуй, не меньше чем тысяча лет меня отделяет от старого города, от спутанных замызганных улиц, которые я пробегал ежедневно. И даже не тысяча, что значит «тысяча» – полое, равнодушное слово? Нет, минуло неизмеримо больше, минуло два десятилетия, больше, чем половина жизни. И никогда, уже никогда я не метался на жаровне с таким самоедским остервенением.
Дело не только в незрелом возрасте – я и в Москве не сразу стал взрослым. Дело все в той же среде обитания. Провинциальный быт беспросветен, зато провинциальный роман захлестывает тебя с головой. Чем жалостней было все, что я видел, тем жарче и щедрей было чувство. Только оно и могло возместить то, чего не было, скрыть то, что было, и примирить мое глупое сердце с этой пародией на жизнь. Злые и грешные слова, но так, с тоскою, без благодарности, душа отзывалась на каждый день.
Но чем же и впрямь я мог утешиться в той скученности грязных кварталов с желтыми бликами узких окон? С кривыми и тесными тротуарами – едва разойдешься со встречным прохожим? С киосками, лавочками, парикмахерскими, в которых стригут, скоблят подбородки и выясняют отношения? С продолговатыми помещениями на уровне первого этажа – в городе их называли растворами? И негде приткнуться, некуда деться, сбежать от опостылевших лиц, от этого горестного пейзажа!
Любовь, возникшая в этом мирке, должна была совершить невозможное, почти чудодейственно перевесить регламентированное время и ограниченное пространство. Она это делала – с редкой свежестью и невесть откуда взявшейся силой.
Душен и пресен был днем наш город, поэтому все начиналось вечером. Всегда неожиданный темный полог прятал нашу скудную жизнь, обволакивая дыханием тайны, уподоблением правды вымыслу, сближеньем и парадом планет.
А может быть, возбуждал и тревожил страх, зарождавшийся в те часы – молодость бездарно проходит, ежеминутно сочится сквозь пальцы, как струйка стекает в летейскую глубь, и надо спешить, не терять ни мига и жить, жить взахлеб, с тропической страстью, пока наша юность не изошла.
Как дерзко преобразилась столица! Не только ее древняя кожа – сама душа ее стала иной, уже не похожей на ту, что ворочалась в этом просторном холмистом теле. Однако томительный час заката обнаруживает в державной твердыне ее старомосковскую прелесть.
Общий фасад украшают женщины. То ли они произрастают на плодородной столичной почве, то ли из всех уголков страны слетаются честолюбивые пташки. Иной раз даже грустно вздохнешь – сколько возможностей я упускаю из-за своей чудовищной занятости. Столько отменного дамья ринулось бы по первому зову. Впрочем, я вовсе не убежден, что это принесло бы мне радость.
Голос был полудетский, высокий. Она им старательно выводила запомнившуюся с тех пор мелодию. Забавная наивная песенка о том, как странствовал некий чудак – все не сиделось ему на месте – с потешным зверьком на своем плече. Рефрен выпевала она по-французски, должно быть, чтоб подчеркнуть иноземность этого странного бродяги, который блуждал по разным странам авек де ля мармо́ттэ.
Эта печальная полуфразочка на полузнакомом языке во мне и осталась, другие выветрились. Стоит занервничать, заволноваться, и я привычно бурчу под нос: авек де ля мармо́ттэ. Чужой язык я давно уже выучил, и с ним еще два других в придачу, но эти звуки не потеряли того фонетического очарования, которым манил недоступный мир.
И все же была она хороша? Теперь – не знаю, тогда я знал, что нет ее лучше и притягательней. Впоследствии я набрел на мыслишку очень неглупого юмориста. На белом свете два вида красавиц – первые улыбаются вам с обложек журналов и с экранов. Это законные чемпионки. И тем не менее как-то вы держитесь. Но есть и другие, ничем не опасные, и вот возникает одна из них – веснушчатая соседка Анна. Она-то вас и сбивает с ног. Видя ее, вы ловите воздух сразу же пересохшим ртом, пытаетесь уцелеть – напрасно! Анна ввергает вас в помешательство первым же взмахом своих ресниц.
Так и случается в этих пятнышках на географической карте, в крохотных бугорках на глобусе. Так произошло и со мной. За исключением веснушек все приблизительно совпадало. Да и жила она неподалеку, в детстве мы не раз с нею сталкивались. Выросли, и судьба свела нас, стали друг от друга зависеть. Моя нетерпеливая кровь, вчера еще гнавшая прочь отсюда, вдруг устремилась в ином направлении. Анны стреноживают скакунов, Анны встают на их пути и заслоняют собой столицы, спасают от нашествия варваров.
Машина сворачивает еще раз, мелькают кадры нового сити, призванного представить приезжим и обретенное богатство и космополитический дух вчерашней разросшейся слободы. Долгое время я беспокоился: стал ли я городу своим? Теперь, когда на этот вопрос дан утвердительный ответ, я вновь неутомимо допытываюсь: стал ли мне своим этот город? Это почти уже ритуальный, в чем-то болезненный диалог. Провинция отпускает трудно.
По крайней мере, на несколько лет великий поход на Москву был отсрочен. Время безумия. Но ведь и ныне, стоит лишь мысленно воскресить гибкую худую фигурку, медленный отрешенный взгляд, и усмиренная старая дрожь, будто заточенным острием, пробует, крепка ли броня. За миг единый одолеваешь путь, на который затратил годы. От первой встречи до той, последней, в которой мы должны были выжить. А чаще всего опаляет день, когда наконец я ее познал, еще не веря, что это явь. Нервный смешок, чуть слышный голос: «Ну, чему быть – не миновать. Мы ведь хотим этого оба».
Ее нагота только умножила соблазн и прелесть ее худобы. Но отдалась она с тем же задумчивым сосредоточенным выражением, которое всегда покоряло. Не было ничего вакхического. Вспомнилось, как прочел у Пушкина: «Ты предаешься мне нежна, без упоенья». Так это же про нас, про нее. Да, не отдалась – предалась! Пошла в полон, приникла, доверилась!
И никогда уже не испытывал такой благодарности и вины, такой же умиленной растроганности! Вдруг с изумлением обнаружил: нежность приносит мне наслаждение, почти запредельное по утонченности. По протяженности и полноте не шло оно ни в какое сравнение со всеми бенгальскими страстями. Недаром из тех трескучих искр стойкого пламени не возгорелось.
Что ей занадобилось в Москве? Мало ли! Да все что угодно. Иной раз даже два точных слова могут подтолкнуть тебя к действию. Так это случилось со мной.
Мне странным образом пособила бедная коммунальная жизнь. В нашей квартире, нелепо спланированной, близ самого выхода на лестницу, была одна небольшая комнатка, от нас отделенная коридором. Он был изогнут и неопрятен, но именно этот закрученный шланг давал известное преимущество нашему улью перед другими. Та комнатка точно ютилась на выселках и не имела к нам отношения. Мы обитали почти автономно. Родителей эта иллюзия тешила.
В комнатке копошилась старушка, забытая богом и людьми, беззвучная, неслышная мышь. Однажды, когда ее не стало, там поселился один холостяк, тощий, с лицом, похожим на луковицу, с редкими белесыми усиками, с полуприкрытыми глазами цвета слежавшейся соломы. Взирали они с хитрецой и презрительностью. Я так и не понял, где он работал – кажется, был связан с милицией.
Это подобие секрета вызвало у меня интерес. Иной раз между нами вдруг склеивалось нечто похожее на общение. Словно одаривая, небрежно, он походя ронял свои реплики. Все они так и ушли в песок.
Но вот одну из них я подобрал: «Жизнь – это сюжет, – изрек он. – Как его сложишь, так проживешь».
Странное дело! Случайная фразочка, брошенная вскользь, невзначай, сильно подействовала на меня. Что в ней такого было особенного? Будто я с малых лет не слышал, что «мы – кузнецы своей судьбы».
Однако то был лишь мертвый образ из пролетарского стихотворства. В постреволюционнные годы – по счастью, я их уже не застал, – были в ходу такие строки с ясным индустриальным началом. Как можно было узнать из учебников, фабрично-заводская стихия почти целиком подчинила словесность и пропитала ее собою, стала едва ли не идеологией.
Но ведь реальность – иное дело. Где взять мне молот и наковальню? Да и судьба не кусок железа – может задымить и прогнуться.
А слово «сюжет» ту же самую мысль высвечивало совсем по-другому. Сложить сюжет – не стучать кувалдой. Это особое умение требует совсем не размашистости, а вкрадчивых и хитрых движений. Сюжетосложение – тонкая вязь, необходима изобретательность. И прежде всего твоя способность распорядиться счастливым шансом. Взвешенно, но и с должной отвагой.
«Как сложишь сюжет, так проживешь». Он прав. Все зависит лишь от меня. Жизнь может быть чередою дней, а может обернуться сюжетом. Конечно, я оказался чуток к этой незамысловатой мудрости еще потому, что мной вновь овладела былая дорожная тревога. Юности оставалось все меньше, несколько терпких горячих капель, может, на два или три глотка. Сделаешь их – и вступишь в иную, грузную, осторожную пору, уже не легкую на подъем, склонную к трусости и опаске. А в слове «сюжет», волшебном слове, слышалась маршевая мелодия, весенний звон, мушкетерский азарт. Слово хотя и взято из жизни, а все же относится к милым книгам и к их героям, любящим риск, ставящим биографию на́ кон.
«Сложить сюжет». Тогда я впервые понял значение точной формулы. Она предлагает ясный выбор, дает надлежащее направление и упорядочивает мир.
Да, сказанное не меньше содеянного. Способно даже с ним и поспорить – я все еще не могу забыть произнесенного полушепотом, с этим заклокотавшим присвистом: «Слушать! А если неинтересно, то вас не держат». И я смолчал. И должен ждать, когда наконец эти слова прекратят чадить и перестанут ползти мне в бронхи, мешая свободному дыханию.
Опять все о том же! Возьми себя в руки. На пятом десятке уже непростительны такие конвульсии самолюбия. Сдается, мой друг, ты научился владеть ситуацией, но не собой. Слово могущественно, все верно. Ты это понял уже давно. Спасибо соседу. Теперь успокойся.
И трижды спасибо любовной горячке. На целых три года она побратала и подружила меня с моим городом. Для живчика, каким был я в ту пору, – почти астрономический срок. Я словно подписал перемирие в моей необъявленной войне, взглянул окрест себя и очнулся. Вокруг был зовущий непознанный мир.
Но как расточительно и бездумно мы обошлись с отпущенным временем! Беда была в том, что мать-природа нас наделила несочетаемыми неублажимыми характерами.
Мы были усердными читателями, и это нас, безусловно, роднило. Она смеялась: «два книжных маньяка». Пришествие запретных названий лишь предстояло, и до него еще оставалось немало лет, но книг достойных, чтоб их прочли, хватало, и недолгое время, которое мы оставляли друг другу, почти целиком на них уходило. Возможно, не сознавая того, мы отдыхали от наших споров.
Но ведь и книги нас разводили, мы находили в них каждый свое. Не совпадали оценки событий, оценки героев, оценки итогов. Картина мира в ее представлении была картиной враждебного мира, а наши усилия изменить ее на деле преследуют вздорную цель – вызвать у людей интерес. Цену имеет лишь сострадание.
Но мне, готовившему себя к соревновательной стихии, это вселенское сочувствие казалось не только обезоруживающим и размягчающим нашу волю, но и не слишком оправданным даром. «Люди несчастны? Пусть даже так. Но ведь они не только несчастны. Они еще злы, завистливы, мелочны. Несчастны? Но по чьей же вине? Что они делают, чтобы узнать, как пахнет счастье? А ничегошеньки. Злобствуют и по мере сил стараются помешать тем, кто действует».
Однако я уже понимал: да ей и не нужно, чтобы я действовал. Коль скоро я и она, мы оба, пресытились официальной ложью, то нечего мне участвовать в скачках. Это значило бы, что меня приручили. Сколько я ни старался внушить ей, что политическая жизнь строится по своим законам, она лишь вздыхала и улыбалась. Стала уклоняться от споров. Сказала, что различие спорящих скорее кажущееся, чем истинное. «Спорщики все на одно лицо». Слова эти меня огорчили. Худо, если она права. Смертные спорят тысячелетиями и выглядят, пожалуй, комично. Мысли, как души – непримиримы.








