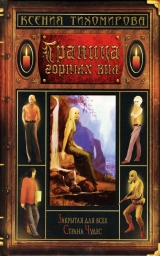
Текст книги "Граница горных вил"
Автор книги: Ксения Тихомирова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
История восьмая
САНЬКА
Глава 1
САНЬКИНА РАБОТА
Сборы прошли в лихорадочном темпе, хотя я старался следить, чтобы все сделали на совесть. Мне было понятно, что эта экспедиция по-своему стоит нашей вылазки за Андре.
Он ожил сразу, как решился ехать. Дон Пабло сделал ему изумительные документы со множеством самых настоящих виз. Лететь Андре собирался через Испанию, но представляться гражданином Франции. Было у него такое гражданство, его оформили еще во времена экзаменов. Дон Пабло предлагал сделать Андре испанцем: в испанской бюрократии и дипломатии у нас более обширный и могучий блат. С другой стороны, с Францией тоже лишний раз ссориться никто не станет, а я радел за чистоту и неподдельность документов. Анкета у Андре и без того была проблемной, как совершенно правильно сказал когда-то Ивор.
Я инструктировал Андре о мелочах московской жизни: метро, автобусы, милиция; с такси не связывайся, с частником – тем более; денег твоих чтобы никто не видел, разве что замызганные какие-нибудь сто рублей; смотри, чтобы в карман наркотик не подбросили: потом посадят, и не отобьешься; с этим не связывайся, туда не суйся… В общем, он меня понял. Блеснув своей вернувшейся улыбкой, сказал:
– Пожалуй, в подземелье жилось спокойнее и безопаснее, чем у тебя на родине.
Тонио научил его искусству становиться невидимым. Это умение годится на крайний случай: оно достаточно опасно, а главное, делает щит очень заметным для некоторых приборов, поскольку при этом фокусе работает огромная энергия. Здесь, у себя, мы никогда им не пользовались, но там такой трюк вполне мог пригодиться. Дьюла учил Андре азам шпионского искусства, почерпнутым из книжек и кассет. Я, правда, подозревал, что Андре без всяких книжек понимает в этом деле больше Дьюлы. Ференц пригласил его пострелять, хотя стрелять в Москве Андре не собирался.
Особый художественный совет провели по его внешнему виду. Андре, посмотрев какие-то наши фильмы последних лет, предложил сделать из себя лицо кавказской национальности: типаж яркий, работать под него легко. Мы с Дьюлой, Зденек и Робби (поднаторевшие в политике) взвыли в один голос. Я объяснил, какими осложнениями чреват этот типаж. С помощью Бет, Милицы и нескольких журналов мы сделали Андре приличным и благонадежным московским студентом, может быть, приезжим, но уже пообжившимся в Москве, не новичком и не иностранцем. И никаких восточных орнаментов.
– Бриться не забывай, – напутствовал я его.
– Ты же сам говорил, что это сейчас немодно.
– О да! Особенно среди криминальных авторитетов.
– Одного не понимаю, – ответил он на это, – зачем вы Саньку туда отпустили?
– А что ей было делать? Сидеть и плакать на границе? – спросил Зденек.
– И то спокойней, чем жить в таком веселом городе.
– Так ведь и там люди живут, – ответил Робби философски. – Не все же там бандиты и кавказские головорезы. Иван вон родом из Москвы – и ничего. Вполне приличный человек.
– Спасибо, – сказал я.
– Ты меня утешил, – кивнул Андре. – Но я знаю Саньку. Она найдет себе неприятности где угодно.
Насколько мне было известно, они начались у Саньки в первый же месяц ее московской жизни. Устраивать ее в Москве ездил дон Пабло. Я предпочел бы сделать это сам, но меня не пустили. Напомнили конвоиров с «Калашниковыми», и мне пришлось умолкнуть. Дон Пабло разговаривал с московским «наробразом», дарил цветы, духи, только что ручки не целовал, однако Саньку взяли на работу в какой-то интернат в районе Ховрина. Я бы такого никогда не допустил: Ховрина славится своей криминогенной обстановкой и общим культурным убожеством. Ну ладно. Откуда дону Пабло это знать? Работу Саньке дали, но жилья ей никто предоставлять не собирался. Проще всего было бы купить квартиру, но на это не соглашалась Санька, и я ее понимал. Обзавестись своим жильем в Москве значило бы для нее примерно то же, что похоронить Андре. Квартиру сняли.
Вообще-то и мне, и дону Пабло, и всем прочим в глубине души хотелось поселить Саньку в мой старый дом, к Витьке и Тане. Так всем было бы спокойней. Дон Пабло с Санькой навестили их, передали от меня письма, показали фотографии, рассказали всю нашу историю, прикрыв квартиру колпаком и, верно, очень досадив тем, кто тоже хотел послушать столь интересную сказку. Но о квартирных планах не заикнулись. Витя и Таня сами пригласили Саньку пожить у них. Она осторожно ответила, что ездить в Ховрино с Петровки, пожалуй, будет тяжело. Нам же дон Пабло доложил, что у этих замечательных людей уже есть один ребенок, и они ждут второго, а моя в высшей степени почтенная старинная квартира непозволительно мала даже для этой семьи. Она годилась лишь для одинокого холостяка, как я. Ни о каких постояльцах просто не могло быть речи.
Олега и его семейство дон Пабло с Санькой тоже навестили – по моей просьбе, без задних квартирных мыслей. Сказок там не рассказывали, только передали мое бодрое письмо и показали фотографии. Я срежиссировал для этих снимков самые банальные сюжеты: малыш в кроватке, мы в саду, Николка держит Рыжего за длинный пышный воротник, мы с Бет стоим, взявшись за руки, на фоне университета. Фотографии дон Пабло увез обратно, чтобы не оставлять улик.
Витя с Таней приняли Саньку близко к сердцу и взяли с нее слово, что она будет к ним заходить. Запросто, в любое время. Они оба не были москвичами и тоже не смогли как следует предостеречь от ховринского интерната. Вопрос с жильем остался открытым, и дон Пабло снял по объявлению какую-то квартиру.
– Дон Пабло, – сказал я, – ну как так можно? Вы что, просто содрали объявление со столба?
– Да, так я и сделал. Это не очень красивая форма торговли, но, надо признать, весьма удобная.
– И, конечно, никакой договор вы с хозяевами не оформили?
– Ты сам виноват, – вздохнула Бет. – Надо было все объяснить в деталях.
Сколько с них запросили (учитывая внешность и замашки дона Пабло) – об этом я лучше промолчу, чтобы других не вводить в искушение. Но когда дона Пабло уже не было в Москве, а Санька стала расплачиваться с хозяевами («Почему? Ведь вы же заплатили вперед?» – спрашивал я, но не получил вразумительного ответа), с нее стали требовать вдвое больше. Или велели немедленно освободить квартиру.
У Саньки к этому времени уже хватило и других проблем, рабочих. Но директриса интерната, надо отдать ей должное, заметила Санькину растерянность и удрученное состояние. Расспросила ее обо всем и решила этот вопрос по-своему. Директриса была женщиной совсем другого типа и склада, чем наша старая знакомая Тамара Викторовна Краковяк (забыл я ее настоящую фамилию – уж больно хорошо прозвали тетку). Директором интерната должен быть не просто мужик, а мужик в десятой степени, чтобы выжить самому и удержать свой интернат на более или менее приличном уровне. Особенно если этот интернат находится в Ховрине. То есть, конечно, я неправ. Мужики с этим тоже иногда справляются, но, в общем-то, для этого надежнее всего быть русской женщиной. Достаточно простой, из тех, кого Некрасов воспевал. Эта вольфрамовая леди устрашающего вида решала большую часть проблем с помощью тех немногочисленных родителей своих учеников, которые могли хоть чем-то посодействовать интернату. Немногочисленных, поскольку (объяснял я своим ближним) обычно в интернат попадают дети алкоголиков и других неблагополучных родителей (не будем их перечислять), от которых детям может быть только вред.
Директриса велела Саньке забрать из квартиры вещи и взяла у нее телефон хозяев, а потом как следует облаяла этих мошенников. Затем нашла среди родителей какого-то строительного деятеля средней руки (что за беда загнала его ребенка в этот интернат?) и заставила его поселить Саньку в нечто вроде общежития для лимитчиц. Нет, все было не так уж страшно. Этот старый двухэтажный дом на несколько больших коммунальных квартир, вероятно, давно считался как бы снесенным, а в то же время воду, свет, газ и тепло никто и не думал в нем отключать. Возможно, что за них даже плату не брали, как бывает в аварийных домах. Эта берлога имела ряд очевидных преимуществ: во-первых, близко от работы, во-вторых, комната своя, отдельная, общие лишь кухня и все прочее, в-третьих, есть газовая колонка и ванна. В общем, я сказал директрисе: «Браво!» – и предложил Саньке все-таки снять нормальную квартиру. Витька сделал бы это лучше, чем дон Пабло. Но Санька отказалась от квартиры. Отчасти из деликатности: чтобы не обидеть свою директрису этаким барственным жестом; отчасти потому, что ее не очень интересовало это временное жилье.
– Зачем что-то менять? Ведь я же там не навсегда, – сказала она однажды с такой тоской в голосе, что я готов был запереть ее в каком-нибудь чулане и больше не выпускать в чересчур самостоятельную жизнь.
А вообще-то она столько времени проводила на работе, что ей и вправду было почти все равно, где жить. История с жильем произошла в самом начале Санькиных московских приключений; с тех пор Санька так и оставалась в этом бараке.
Доброе отношение директрисы объяснялось несколькими причинами. Она профессионально угадала Санькино внутреннее одиночество, причины которого ей, правда, были неизвестны. Дело ведь не в том, что у Саньки никого не осталось на свете, а в том, что рядом не было одного-единственного человека, которого никто не мог заменить. В общем, директриса вполне благородно считала своим долгом защищать и опекать эту маленькую, совершенно не приспособленную к нашей жизни девчушку. Звали эту героическую женщину Ирина Дмитриевна – пишу, чтобы выразить ей глубокое почтение. Хотя, возможно, скрывался тут и прагматический мотив. Санька оказалась безотказным работником («Это ты научил ее так убиваться на работе», – вздохнула Бет – скорее с огорчением, чем с упреком). Несмотря на все естественные трудности с дисциплиной, которые гремели и взрывались у нее на уроках, ею, как когда-то мною, затыкали дырки в расписании. Она преподавала математику, потом еще английский, а бывало, что и русский, и биологию, и географию, и физику, и химию, и what not. Но даже не это главная беда. Санька без конца оставалась дежурным воспитателем: и за себя, и за кого-нибудь еще. У всех ведь находились какие-то личные дела, только у нее их не было.
Приходилось ей проводить и уроки физкультуры, причем эту нагрузку Санька даже соглашалась оставить за собой постоянно, но как раз этого ей не позволили.
– Оказывается, все, что я делаю, запрещено, потому что опасно, – рассказывала она нам, приехав первым летом на каникулы. – Я даже в волейбол неправильно играю. Ну, то есть, правильно, но в школе так нельзя. Если все будут прыгать, как я, начнется травматизм.
Со временем, как мы поняли, она и сама стала держаться от зала подальше, поскольку там, кроме мячей и скакалок, обитал еще физкультурник. История отношений между Санькой и физкультурниками так однообразна, что и рассказывать неинтересно (это я, между прочим, цитирую О’Генри). Встреча в каком-то узком и укромном месте, короткий поединок и фингал под глазом у ловеласа с разрядом по боксу. Он признал поражение и в открытую мужскую драку больше не вступал, зато вовсю использовал возможности женского оружия, то есть грязных сплетен.
Женская часть коллектива (хоть, может, и не вся) подхватила у него эстафету с истинно спортивным азартом. Во-первых, просто потому, что это очень интересно, а во-вторых, Санька им не понравилась.
И не могла понравиться – это заранее понятно. То, что у Мейбл вызвало истерику даже на огромном расстоянии, вызвало взрыв естественного раздражения и вблизи. И «личико одухотворенное», и некоторая отрешенность от житейской суеты, и стиль – простой и строгий, но внутренне очень свободный. Неслыханная нешаблонность, сила, нежелание делиться своей болью и проблемами и независимость – наверно, главное из ее свойств и главный грех с точки зрения ее коллег. Независимость особенно раздражала тем, что никаких зримых педагогических достижений Санька, естественно, пока продемонстрировать не могла. Нет, в самом деле: восемнадцать лет, диплом Оксфорда, а рявкнуть как следует не умеет. Или построить быстро и толково какой-нибудь, к примеру, восьмой класс. Для этого ей не хватало убедительности в голосе, а строить в интернате приходилось на каждом шагу. Строить – одно из основополагающих педагогических умений, поскольку трудно даже представить себе, что могут вытворить непостроенные дети, особенно в ховринском интернате.
Мы предлагали Саньке сменить место работы. Я уверял, что в той же Москве есть совсем другие школы, где Санька очень даже придется ко двору, но она и здесь отказалась что-либо менять. У меня было впечатление, что она действует по принципу «чем хуже, тем лучше». Летом я изводил ее расспросами:
– И многому ты научила своих деток? Как там успехи в математике?
– Никак, – отвечала Санька честно. – Такая математика, что тебе стало бы тошно. Их упустили уже много лет назад. А некоторые, по-моему, вообще умственно не вполне полноценны. Я пробовала заниматься с ними дополнительно, но проку мало. Там шумно, душно, тесно. За стеной все время работал телевизор (такая каверзная вещь, я и не знала). И время там просто невыносимое. Как тебе хватало времени, чтобы учиться?
– Да как тебе сказать? Телевизор я смотрел редко. Можно сказать, что не смотрел. Я был единственным ребенком в семье, родители всю свою жизнь в меня вложили. И я учился не в интернате для неблагополучных детей и даже не в районной школе. Тебе тоже стоит поработать где-нибудь в нормальном месте.
– А что же будет в интернате? Там и так некому работать.
– Ты знаешь, сколько у меня на родине школ, интернатов и тому подобных мест, где некому работать? Ты собой все дыры не заткнешь. И потом, каждому лучше заниматься своим делом. Ты сильный математик, а работаешь с недоразвитыми детьми.
– Там не все недоразвитые, – буркнула Санька. – Есть нормальные ребята.
– Да все равно! Математиков твоего уровня давно отобрали в специальные школы и классы. Давай я лучше позвоню в ту школу, которую я сам кончал. Они тебя возьмут.
– Так и возьмут – по рекомендации выпускника? – удивился Зденек, присутствовавший при разговоре.
– У нас любят своих выпускников, – ответил я. – И это действительно хорошая школа. Тебе дадут небольшую нагрузку – на пробу. А тебе большая и не нужна. Я все равно хотел позвонить своему учителю.
– «Все равно», конечно, позвони, но про меня не говори, – отрезала Санька. – Я лучше останусь в интернате.
Мы поняли, что спорить бесполезно и что логика у Саньки хоть и бредовая, но по-человечески понятная: пока Андре плохо, ей тоже не должно быть хорошо. Так и будет мучиться до какого-нибудь конца этой истории. Даже общение с детьми в этом интернате вряд ли приносило ей много радости. У них наверняка была культурная несовместимость: тотальное несовпадение вкусов и интересов. Я все же пробовал еще несколько раз уговорить ее немного изменить условия ссылки, но Санька мне ответила однажды:
– Этих детей тоже кто-то должен любить. Наверно, я люблю их недостаточно, потому мне и трудно. Вот если научусь любить по-настоящему – тогда все станет легко.
Что на это ответишь? Оставалось поскорее разыскать и вытащить Андре, чтобы он увез ее оттуда. Хотя никто из нас не сомневался, что Саньке там не место и что ее нужно эвакуировать из этого интерната чем скорее, тем лучше. После первого года работы она приехала домой на каникулы такая измученная и угрюмая, что у нас руки опустились. С нее будто смыло все краски. Джейн попыталась зазвать ее к себе на ферму, но Санька пробыла там очень недолго: то ли сельское хозяйство ее не вдохновило, то ли картина чужого семейного счастья. В Лэнде она тоже не осталась, и на Круг ее в тот раз не смогли заманить. В конце концов, она отправилась на станцию к Георгию и весь остаток лета собирала его жемчуг. Мы все ее там навещали, по очереди жили на списанных кораблях. Санька загорела и потихоньку обрела живые краски. Я запомнил ее сидящей на палубе под тентом: она ссыпала собранный жемчуг, горсть за горстью, с подстилки, на которой он сушился, в желтую выдолбленную тыкву: Георгий считал, что его жемчуг следует хранить именно так. Крупные белые жемчужины, текущие струйкой из маленькой ладони в узкое горло тыквы, так очевидно выражали идею слез, что наглядней некуда. Сама Санька не плакала.
Второе лето она провела примерно так же. Правда, каникулы ее были короче: Саньку отправили в какой-то летний лагерь. Вернулась она такая же до смерти замученная, как в первый раз, и еще более опустошенная.
– Не понимаю, – сказала она мне, – почему у вас так тяжело работать? Не только мне – всем. Жизнь как нарочно устроена так, чтобы все жили на износ. Зачем это нужно?
– «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно».
– Но это же Петрарка. Ты о чем?
– Это Пушкин процитировал однажды, чтобы рассказать про нас. Вот такие мы чудаки. И всегда такими были. Пушкин все про нас знал.
– Где же взять сил, чтобы вынести такую жизнь? – вздохнула Санька.
– Возвращайся домой.
– Не могу. Пока он за мной не приедет.
Теперь, когда связь с ней прервалась, я не находил себе места от беспокойства и терзался разными предположениями. Наверно, я слишком мало рассказал ей о том, с кем и с чем в моей стране лучше не иметь дела. Теперь, собирая в путь Андре, я старался исправить эту ошибку и восполнить пробел. Образ родной страны вставал в моих рассказах таким жутким, что я даже корил себя за отсутствие патриотизма. Другие, правда, почему-то восприняли это иначе.
– Жалко Ивана, – услышал я однажды у себя за спиной. – Это все-таки ужасно: так любить свой дом и не иметь возможности его повидать. Хоть за что, казалось бы, любить? – это говорил Зденек.
– Во-первых, любят ни за что, а просто так. Я думаю, это касается любой страны, – это уже сказал Андре. – А во-вторых, за силу. Ты представь, какая мощь нужна, чтобы там жить, а тяжести даже не замечать. Сила противодействия, наверно, и есть любовь к такой вот… трудной родине.
Глава 2
ЕЩЕ О ДЕЖУРНОМ ВОСПИТАТЕЛЕ
Андре отправился в путь под самый Новый год, прямо с походного праздника, который мы устроили перед его отъездом. В Москву он приехал второго января, среди дня. Там была оттепель. Грязный снег, бурые лужи на мостовых, усами расходящиеся под носом у машин. Елки с большими раскрашенными лампочками. Растерянные, еще не оправившиеся от праздника люди. Сумерки, начавшиеся прямо с утра.
Андре наизусть выучил маршрут, который я продиктовал ему со слов Саньки: сначала электричка, потом автобус, потом пешком до старого облупленного домика в два этажа, зажатого между длинными белыми девятиэтажками. Андре поднялся на второй этаж развалюхи, нажал звонок. Ему открыла женщина лет тридцати – одна из трех Санькиных соседок. Она еще как будто не совсем проснулась и вышла открыть дверь в халате поверх ночной рубашки. Видно, поэтому она и разговаривала неохотно. Постучала к Саньке (ближайшая к входу комната), покричала, ответа не услышала, сказала: «Нет ее» – и хотела захлопнуть дверь. Андре вставил ногу в проем (моя наука, каюсь) и продолжал расспросы:
– А где она?
– Не знаю. Ушла куда-то.
– Надолго ушла?
– Она мне не докладывала.
За спиной у этой соседки возникла другая, так что расспросы продолжались.
– Вер, не знаешь, Александра скоро вернется? – спросила первая соседка ту, что вышла позже. Та оказалась помоложе и подружелюбнее.
– Скоро. У нее сегодня дежурство ночное. В магазин, наверно, пошла, – отозвалась Вера. – А что ей передать? Как сказать, кто спрашивал?
– Муж, – отрубил Андре (спровоцировав, по-видимому, немую сцену).
Он спросил, нельзя ли ему подождать в квартире. Его впустили на кухню (что само по себе удивительно), но скоро он сам оттуда убрался. Кухня эта, конечно, ничей глаз бы не порадовала: плита, пара холодильников, старые столики под грязноватыми клеенками, жуткого вида раковина, облезлый пол. Андре, впрочем, не столько интерьер вогнал в тоску, сколько достали соседки. Старшая все время входила и выходила и непонятно зачем каждый раз заглядывала в один из холодильников, но ничего из него не вынимала. Младшая появилась спустя некоторое время, переодевшись и подкрасившись, и стала приглашать зайти к ней выпить: по случаю праздника, за знакомство и вообще. Заодно она объяснила странное поведение другой соседки, Ларисы. По мнению Веры, та боялась, что у нее из холодильника утащат заготовки к вечернему приему гостей (вероятно, бутылку-другую спиртного). Андре осторожно отговорился от выпивки и вышел во двор – покурить (как он вежливо объяснил Вере) и ждать Саньку на промозглой оттепели, которая по южным меркам была вполне морозом. После оказанного ему приема Андре даже свой рюкзачок не решился бросить на кухне: подумал, что обыск ему ни к чему.
Он вышел очень вовремя и почти сразу увидел Саньку (не успел даже вытащить свое курево). Она показалась на верху довольно крутой горки, спускавшейся во двор. Серая куртка, белая вязаная шапочка, в руках хозяйственная сумка, не очень набитая продуктами. Санька оглядывалась, выбирая дорогу, и на лице ее было то же угрюмое и озабоченное выражение, которое, как заметил Андре, вообще отличало жителей Москвы. Правда, у большинства оно оттенялось хронической усталостью, а у Саньки к ней добавлялась настороженность и печаль. Одну дорожку раскатали дети, рядом с ней вниз вела лесенка с перилами – разбитая, раскрошенная и по-своему, наверно, не менее опасная, чем темная ледянка.
Дальше все было просто и понятно: бросить рюкзачок на скамейку у подъезда, рядом с тремя бабулями, успевшими только бдительно покоситься на Андре, но еще не успевшими его обсудить. Шагнуть к подножию ледянки – потому что не по лестнице же Санька спустится в этот убогий дворик. Вырасти как из-под земли, закружиться на конце ледяного раската. Выслушать обстоятельную лекцию о безобразной молодежи, у которой совершенно не осталось никакого стыда, – и не услышать ни слова. Споткнуться о брошенную сумку, в которой нечему ни биться, ни литься, и все равно удержаться на ногах. Это пусть кто-нибудь другой шлепнется – на радость зрителям. Не на того напали.
Зрителей хватало. Кроме трех бабушек были еще несколько мамаш с колясками, детишки вокруг недолепленного снеговика, два деловитых парня: один с бутылкой пива, другой – с мобильным телефоном, – шагавшие куда-то целенаправленной походкой. И, если разобраться, ну какое всем им было дело до этой встречи? Мало ли какие встречи происходят в большом городе?
Наконец, подобрав свое брошенное имущество, они вернулись в старый дом. Там обстановка уже изменилась, особенно на кухне, где трудилась старшая из обитательниц квартиры и еще одна, которую Андре раньше не видел. Их деятельность была кипучей в прямом смысле слова: на плите, на всех четырех конфорках, у них уже что-то кипело. Санька установила это, бросив в кухню один беглый взгляд; открыла свою комнату, сказала с отстраненным удивлением:
– Ну, надо же… В кои века мне есть кого покормить хоть пельменями, и вот, пожалуйста…
– Ты знаешь, когда я в первый раз вошел, там ничего не кипело и даже газ не горел, – поддержал Андре эту тему, не решаясь переходить к другим.
– А что ты им сказал?
– Да ничего особенного. Что я твой муж.
– Тогда понятно. Они мстят за разочарование.
– Неужели я им так не понравился, что меня приговорили к голодной смерти?
– Им не понравилось то, что ты есть на самом деле. Это было любимое развлечение Ларисы и Антонины: говорить, что тебя нет на свете. Что я тебя придумала, а колечко ношу просто на потеху публике.
– За что же… так?
– В каком-то смысле, может быть, за дело. Я как-то пришла с работы, а у них на кухне пировали кавалеры. Пьяные. И они хотели, чтобы я… присоединилась к ним… Это трудно описать. В общем, я спустила их с лестницы. Испортила Ларисе с Антониной вечер. Или вообще расстроила все планы.
Санька с Андре стояли возле входа в комнату, у старой казенной вешалки, оставшейся от каких-то былых жильцов.
– У меня нет для тебя тапочек, – сказала Санька. – И здесь довольно холодно. Вон видишь, стекло треснуло. Ты лучше садись туда, в угол дивана.
Он огляделся в этой комнате, крохотной, на удивление симпатичной (если не обращать внимания на трещину в стекле, расходившуюся странными ломаными линиями от центра), послушно забрался на тахту, покрытую уютным полосатым пледом, увидел перед собой маленький холодильник и улыбнулся:
– Ты тоже боишься, что у тебя стянут какую-нибудь еду?
– Ты о чем?
– О холодильнике. Меня твоя соседка заподозрила в таком преступном умысле.
– Я не боюсь. У меня обычно и тянуть-то нечего. Просто мне сказали, что на кухне и без моего холодильника тесно… А может быть, я их так раздражаю тем, что я из другого мира. Это всегда очень мучительно для тех, у кого другого мира нет, я понимаю. Хотя странно, что они именно на тебя так ополчились Я про тебя всем говорю обычную, понятную вещь: ты служишь в армии.
– Ну да. В саперных войсках, минером. А мне одна из них, Вера, показалась довольно дружелюбной.
– Правильно показалась. Так и есть. Она со мной более или менее дружит. Смешно сказать: за то же, за что другие враждуют.
– За другой мир?
– Нет. Я помогла ей выгнать одного типа. Он тут напился, стал за ней гоняться с бутылкой, орать: «Убью!» – ну и так далее. Лариса с Антониной заперлись по комнатам, а я его вытолкала из дома в сугроб.
– На тебя потом во дворе не пытались нападать?
– Пытались. Но я теперь всегда хожу под щитом, так что это нестрашно.
– Сань, а что ты сейчас хочешь делать? Может, тебе помочь?
– Да нет, тут двоим делать нечего. Я собираюсь поставить воду и сварить пельмени. Ты будешь есть пельмени?
– Я все буду есть. А что такое пельмени? С ними много возни?
– Наоборот. Их надо бросить в кипяток, подождать, пока всплывут, – и готово. Вода у меня есть в запасе – а то ее довольно часто отключают. А вскипятить ее можно и кипятильником. Меня Иван научил на кипятильнике готовить, хоть это и неправильно.
– Подожди. Это все успеется. Куда ты спешишь? Ты опаздываешь?
– Нет. Я спешу… Я боюсь, что если я перестану делать что-то очень простое и обычное, то ты исчезнешь.
– Я могу исчезнуть, пока ты смотришь на кастрюлю.
– Если б ты знал…
– Сань, хватит. Иди сюда. Сядь.
– …сколько раз мне снилось, что ты сидишь здесь, у меня, в этом углу. И почему-то тоже спишь или дремлешь. Руки уронил на коленки, голову на руки… Иногда мне даже удавалось дотронуться до твоего шерстяного носка. А удержать тебя не удавалось никогда. Я… не хотела плакать, но не получается.
– Прости меня.
– За что?
– Есть за что. Я мог бы приехать раньше. Меня лечили в Лэнде, но не в этом дело. Я все думал и не мог придумать, как я к тебе заявлюсь и расскажу свою историю. Еще бы долго собирался, но Иван намекнул, что сам поедет тебя выручать, если я такой слизняк. У меня очень скверная история, Сань.
– Я как-нибудь переживу. Все что угодно. Даже, может быть, другую женщину.
– Нет, этого не надо переживать. Но я, в самом деле, был чем-то вроде минера… а потом все взорвалось… едва мы вышли из подземелья. И все, кто там остался, погибли. Несколько сотен человек.
– Что-то не верится, что их взорвал ты.
– Их взорвал Альбер, но он хотел всего лишь выход завалить. Он не знал, насколько там все… заминировано.
Санька помолчала, потом усмехнулась, глядя в сторону:
– Значит, мы с тобой друг друга стоим. Ты хоть не хотел никого взрывать, а я иногда мечтаю, чтобы кто-нибудь взорвал наш интернат. К счастью или к сожалению, он от этого не взрывается. Я стала очень злая и жестокая. У меня тоже скверная история.
– Повернись-ка к свету. Нет. Это не жестокость, это усталость. Или отчаянье. Но ты не стала злее. Может быть, наоборот. Ты на соседок ведь не злишься и не хочешь их поколотить?
– Нет. Но это потому, что они делают гадости мне. Вот когда на моих глазах другого обижают, тогда лучше держаться от меня подальше.
– Понятно. Это слишком часто здесь происходит, вот и все. Ладно, Сань. Я постараюсь никого не обижать. Знаешь, я последнее время не хотел смотреть на ту мраморную головку. Она стала казаться мне игрушечной, что ли? Наверно, я подозревал, что ты уже другая. Более настоящая.
– А у тебя все косточки на лице видно. Хоть изучай их по-латыни. Помнишь, что как называется?
– Нет. Латынь мне как-то не пригодилась. Какая разница, как называется по-латыни скула?
– А кашель ты здесь подхватил?
– Нет. Он из подземелья: я два года дышал этим газом. Но сейчас все уже проходит.
– И ты, по-моему, куришь.
– Да. Я потом брошу.
– Как хочешь. Кури прямо здесь, я действительно переживу. Просто у меня уже выработался профессиональный нюх на курево… Ты в самом деле вернулся… ко мне?
– Да. К тебе и за тобой.
– Наверно, это правильно – что за мной. Потому что я, кажется, больше не могу без тебя жить. Иногда мне уже мерещилось, что они правы, а тебя даже не то что нет, а никогда и не было. Что я придумала тебя – с тоски от здешней жизни. И ничего нет, кроме интерната и этой комнаты. А еще мне все время кажется, что сейчас кто-нибудь из них к нам вломится и ты исчезнешь.
– Не вломятся. Я колпак поставил. А что, они к тебе еще и вламываются?
– Нет. Просто стучат и сразу входят. Я как-то раньше думала, что неудобно запираться… Да, но сейчас все мучаются от любопытства.
– Ну, пускай помучаются немного. Здесь, наверно, хорошо отсиживаться, запершись от всех. Я бы мог здесь жить… с тобой. Но, знаешь, давай лучше сразу уедем. Съедим твои пельмени, вымоем посуду – и все. Хватит.
– Через два часа я должна идти на работу.
– А ты не можешь не ходить?
– Сегодня я дежурный воспитатель. Это совсем не то, что у нас дома: не жизнь, а большая нервотрепка. Заменить меня никто не захочет: день-то праздничный. А оставлять эту банду без присмотра нельзя. Просто нельзя, и все.
– Да, это понятно. Я подежурю с тобой.
– Тебя не пустят в интернат.
– Меня? Я сам пройду. Подумаешь – не пустят! А утром мы уедем.
– А как? Меня ведь не хотят отсюда выпускать.
– Это с какой же радости?
– Да, в общем-то, по глупости моей.
История была такая. Саньку однажды вызвали в кабинет директрисы и представили ей какого-то дяденьку в штатском, который объяснил, что он представитель одной государственной фирмы, которая выпускает очень секретные вещи, чрезвычайно важные для обороны страны. Но в одном проекте у них что-то не ладится, и нужно это как следует обдумать, проанализировать. В общем, тут нужен небанальный подход и талантливый человек. И если бы вы согласились над этим поработать – как было бы славно. Работа очень интересная и хорошо оплачивается.








