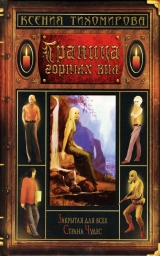
Текст книги "Граница горных вил"
Автор книги: Ксения Тихомирова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 33 страниц)
Ксения Тихомирова
ГРАНИЦА ГОРНЫХ ВИЛ
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.
О. Мандельштам
История первая
ИВАНУШКА
Глава 1 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Эта история впервые заглянула ко мне мимоходом, как Снежная королева в окно Кая, когда я был аспирантом-первогодком мехмата МГУ.
Стояла зима. Мы жили вдвоем с бабушкой в старом доме между Страстным бульваром и Петровкой. Бабушка большую часть дня просиживала в кресле: читала, вязала, смотрела телевизор. И в тот вечер она собиралась посмотреть какие-то международные юношеские соревнования по фигурному катанию.
Как сейчас вижу низкий оранжевый абажур над столом, клетчатую скатерть, накрытый ужин, темень в углах и яркий экран напротив бабушки. Все тихо и спокойно. Я думал о своем и комментатора не слушал, пока бабушка не спросила с возмущением:
– Ты слышишь, что он говорит?
– Нет, а что?
– Разве есть такая страна – Иллирия?
– Понятия не имею. Вряд ли. Разве что у Шекспира.
– Он говорит, что в этой Иллирии устроен детский дом или школа для украденных детей.
– Каких детей?
– Украденных. Смотри, они сейчас будут выступать.
Я посмотрел и впрямь увидел на экране угловатую электронную надпись: «Санни Клемент, Андре Илер. Иллирия» – и выезжающих подростков.
Два встрепанных весенних воробья. Девочка как былинка и парнишка ей под стать. Одного роста, одинаково одеты: в брюках и свободных рубашках. Только у Санни светлая головка и коса, уложенная на затылке, а у Андре темные волосы почти до плеч и темные глаза.
– Это неправильно, – сказала бабушка. – Нельзя такому маленькому кататься в паре. Он надорвется!
Какое там! Их будто ветром понесло с первым движением. Хрупкая угловатость превратилась в невесомость, скольжение – в полет без видимых усилий.
По стилю это был, пожалуй, контрданс. Шальная скорость не мешала им держаться церемонно, встречаться кончиками пальцев.
– Как на пуантах, – заключила бабушка.
Потом ладони вдруг смыкались в крепкий замок, и следовал страшный, неисполнимый трюк, который только чудом не кончался переломанными шеями.
Все замолчали, даже комментатор. Ждали, когда все это оборвется катастрофой. Один цветочный, праздничный Чайковский твердил, что детям, как и феям, дано летать.
Мне кажется, я знал, что они не сорвутся. И даже догадался, что им вроде бы не до того – не до катания, не до стадиона. И, может быть, отметил для себя оттенок профессионального автоматизма в этих трюках. Они не думали о технике, не рисковали, не боялись – они это умели.
Музыка кончилась, пальцы встретились, ладони крепко сжались. Поклоны, реверансы, никакой одышки. Публика перевела дух и благодарно грянула овацию. Судьи довольно долго совещались и отказались выставлять оценки. Программу признали не соответствующей правилам.
Теперь я был уже вполне готов послушать комментатора, но тот мало что знал и здорово растерялся. Из его лепета я понял, что выступать должна была другая пара, но кто-то там получил травму, а эти – запасные, не успевшие как следует отрепетировать программу.
– Оно и видно: слишком хорошо катаются, – съехидничала бабушка и попала в точку. Никто толком не обратил внимания на их разминку, не знал, чего тут можно ждать.
Пока судьи решали, как им быть, ребят показывали крупным планом. Тренера рядом не оказалось, цветов им тоже не принесли.
Память устроена коварно. Теперь я уже не могу ясно представить их пятнадцатилетними. Осталось лишь воспоминание о впечатлении. Мне кажется, что и тогда в Андре в первую очередь бросалась в глаза его свободная учтивость. Она, наверно, должна была бы скрыть дерзость и озорство – но не скрывала. Узкое, широколобое лицо, насмешливые быстрые глаза, пленительная улыбка, от которой бабушка растаяла и стала объяснять, что обаяние – дороже красоты.
Девочка больше всего впечатляла отсутствием вульгарности. Она не пыталась казаться взрослой, смотрела прямо и светло и вся сияла едва сдерживаемым ликованием. Чистое, тонкое, сероглазое лицо, правильный профиль, длинные ресницы.
– Ах, какая девочка, – сказала бабушка, – ее надо нарисовать, и лучше акварелью.
Я не стал спорить, но подумал, что у девочки совсем неакварельное выражение лица. Если назвать его одним словом, я бы сказал, что это смелость. Прямая и отчаянная, как у д’Артаньяна. Она отлично дополняла насмешливую дерзость темноглазого мальчишки. Даже непонятно, кто у них лидер. Ну и парочка, подумал я тогда, каково взрослым с ними ладить?
Мы видели короткую программу. На другой день бабушка все ждала, что судьи передумают, дадут ребятам хоть какое-нибудь место, и они выступят еще раз, в длинной произвольной. Я понимал, что судьи не передумают, но все равно пришел домой пораньше и честно отсидел у телевизора всю длинную программу, глядя то в книгу, то на экран в надежде на нечаянное чудо. Весь вечер рослые крепкие ребята крутили и кидали пигалиц, и на них так явственно давило земное притяжение, что было тяжело смотреть.
– Ну и хорошо, что они не катались, – вздохнула бабушка, – а то вдруг бы разбились насмерть.
Я опять не стал спорить, хотя про себя подумал, что без публики они наверняка и не такое вытворяют, причем, похоже, каждый день. Иначе не были бы в такой отличной форме.
Меня сильно задело это странное катание. Я даже купил спортивные газеты в надежде, что там будут комментарии или – что оказалось бы еще приятней – фотография ребят. Но газета поместила снимок победителей на пьедестале и о ребятах – ни гу-гу. Исчезли, будто их и не было.
А между прочим, если бы я не сидел сиднем у телевизора, мы могли бы встретиться с ними где-нибудь на улице, под легким декабрьским снежком. И это самое, на мой взгляд, невероятное в истории о фигурном катании.
Бет, лично вывозившая ребят на этот раут, подарила им свободный вечер в Москве. Сначала они оказались на пруду у Новодевичьего монастыря. Там стоял детский гвалт и шло разнообразное катание: на санках, лыжах, кубарем и так далее.
У наших ребят не было лыж и санок, коньки они тоже с собой не захватили. Они съезжали по раскатанной ледянке от стен монастыря на пруд (так сказать, показательные выступления), потом катали восхищенных малышей, учили их не падать. Смеялись, с кем-то перебросились снежками, потом чуть не ввязались в драку, когда шпана постарше с криками налетела на их ледянку.
– Они хотели показать, что тоже могут этак – с разбегу на ногах, но у них плохо получалось, – сказал Андре, припоминая тот вечер. – Одному верзиле удалось не шлепнуться, и он вздумал пристать к Саньке, раз уж такой герой. Полез со мной драться.
Я посочувствовал верзиле:
– Ох, зря! С тобой неинтересно драться.
– Ну, это как сказать. Лучше со мной, чем с Санькой. У меня рука легче.
– А ты с ней дрался?
– Правильней спросить, дралась ли она со мной. Хотя, сколько себя помню, – нет, не было такого. А раньше – кто нас знает. Вряд ли… Мы всегда хорошо ладили. Но это же и так ясно, что с Санькой лучше не связываться. А с той шпаной я тоже не стал драться: столкнул всех вниз, и мы удрали. Бет нас предупредила, чтобы мы не смели ни во что ввязываться.
Впрыгнув в отъезжавший троллейбус, они оторвались от погони и скоро оказались в центре. Потом бродили там бульварами и переулками. Если бы я вышел прогуляться за хлебом в Филипповскую булочную (бабушка любила хлеб оттуда, хотя какая разница?), я мог бы застать их греющимися в кафетерии. Решись я подойти (подростки ведь, чего стесняться?), они бы со мной поболтали, делясь своею радостью.
– Я бы чокнулся с тобой чашечкой кофе, – сказал Андре. – Зря ты не подошел.
– Но ведь меня там не было. Я же не знал, где вас искать. И, главное, зачем.
– Зачем? – он удивился и пожал плечами. – Достаточно того, что ты хотел нас видеть. Лучше не знать, зачем и почему. Если бы мне кто сказал, что мы окажемся в Москве в качестве фигуристов…
– А кстати, как вам это удалось? Давно хотел спросить, но забывал.
Он объяснил, что «международная общественность» – то есть комиссия, которая пыталась контролировать жизнь школы, – потребовала вдруг «спортивных достижений».
– Спорить с общественностью – себе дороже, – сказал Андре. – Мы тогда не задумывались, почему Бет терпит все эти комиссии, если можно их выдворить и перекрыть границы. Но Бет не стала с нами это обсуждать. Нашли мы мирный спорт, чем-то похожий на «карнизную охоту». Он тем еще хорош, что не замеришь абсолютный результат, – это чтобы не высовываться со своими «достижениями», а то затаскали бы по соревнованиям. Сделали мы программу с учетом мировых стандартов. Тиму и Лиззи поручили откатать.
– Тиму – за то, что старший?
– Да. Он выглядел солиднее, чем я. И потом Тим – спокойный человек. Он не гнушался осторожного катания. А Лиззи – душечка, она вообще трусиха, ей чем спокойнее, тем лучше, как известно. Они долго работали, чтобы выглядеть, как все. Жаль, ты не видел, как они катались. Этак отчетливо, неторопливо, невысоко и ну ни капельки не страшно. И знаешь, очень обаятельно. К ним бы, наверно, не придрались. Лиззи и платьице это согласилась надеть, не то что Санька. Ну, и мы всей компанией катались вместе с ними, но уж, конечно, без оглядки на стандарт. Кто кого перепрыгает. Всем хоть бы что, а Лиззи шлепнулась на своей черепашьей скорости и вывихнула ногу. Дня за четыре до отъезда.
– Все-таки мне казалось, – сказал я, – что Бет должна была бы привезти в Москву кого угодно, но не вас. Она всегда боялась…
Он кивнул:
– Всегда боялась и тогда боялась. Но, понимаешь, у нее существовала идея, что каждый должен побывать на своей родине. Я, к примеру, по Лувру мог ходить с закрытыми глазами. Глупо, да? Чего там делать с закрытыми глазами? Но я вообще-то много где бывал. А Бет хотела показать Саньке Москву так, чтобы «общественность» не догадалась, что эта девочка скорей всего родом оттуда. С Москвою связываться…
– Да, понятно.
– Еще бы тебе непонятно! Так что Бет все равно бы нас привезла. Нас вписали в какие-то заявки – то ли как наблюдателей, то ли как запасных игроков. Для Бет Земля ведь значит больше, чем для нас.
– Да, знаю, – кивнул я. – А тренер у вас был?
– А как же? Все та же Бет, конечно. Она нам всю дорогу говорила, чтобы мы при посторонних не скакали, как мартышки.
– А вы не слушались?
– Мы слушались. На тренировках нас никто и не заметил. Мы просто все забыли перед выходом на лед.
Он улыбнулся про себя, долго молчал, потом все-таки стал рассказывать:
– Сейчас странно подумать, из-за какой, в общем-то, ерунды все тогда началось. С комиссией всегда имела дело Бет. Иногда Кэт, но очень редко. А мы выросли непугаными и нахальными детьми. И перед самым выступлением вдруг впервые в жизни столкнулись с тетенькой. Мы с Санькой уже оделись и пришли к Бет за благословением (Бет выделили там какую-то конурку: все-таки важная персона). Заходим – там сидит она, тетенька то есть. Сама как шарик, волоса завитые торчат, как проволока, и лица под краской не видно. Лет под пятьдесят, наверно. Едва тетенька нас увидела, давай тут же играть комедию. Сначала придралась, что Санька в брюках, как будто это криминал какой-то. «Ах, это не по правилам! И неужели вы не видите, что это некрасиво? И почему вы к нам не обратились за помощью, мы бы нашли художников и модельеров!» На это мы благоразумно промолчали. Все равно она бы уже не успела Саньку переодеть, так что опасности особой не было. С костюмами кое-как обошлось, но тетеньке, наверно, очень захотелось неприятностей. Она уставилась на Саньку, этак прищурилась и спрашивает грозно: «Вы что, вот так и выпустите девушку на лед почти без макияжа? Она же пропадет в свете прожекторов! Личико у нее невзрачное, неяркое, ее нужно подкрасить!» Бет стала осторожно говорить, что у нас это не принято и лучше перед самым выступлением оставить все как есть. Но тетенька здорово вошла в стиль комедии и заявила, что всем нашим барышням необходимо прививать внешнюю культуру, хороший вкус, умение одеваться, краситься, нравиться и прочее в таком же роде. Ты представляешь себе, да? Сидит это чудище рядом с Бет и говорит о красоте и о культуре. И, главное, не унимается. Пристала к Саньке: садись, мол, деточка, не бойся, вот я тебя сейчас покрашу, а потом мы спросим молодого человека, как ему больше нравится.
Андре хмыкнул.
– Вот это было уже слишком. Не мог же я терпеть, чтобы мою даму при мне оскорбляли и унижали! Я отодвинул Саньку в сторону и сказал тетеньке учтиво, но с достоинством, мол, хватит, мы уже наслушались всякого вздора. И здесь художник, в том числе, по костюмам, – это я. Что вкуса у меня вполне достаточно, а грубый макияж – признак бескультурья, между прочим. И главное, что Санни ни в какой краске не нуждается, как прирожденный гений красоты. Тут Санька, хлопнув дверью, выбежала в коридор, а Бет и тетенька уставились на меня. Это стоило видеть. Тетенька ищет слов, чтобы меня испепелить, а Бет кусает губы, чтобы не рассмеяться. Но Бет нашлась быстрее. Нахмурилась, пристукнула рукою по столу и как прикрикнет на меня: «Убирайся вон! Где Санни? Вам пора на лед!» – и машет мне на дверь. Я вышел в коридор и увидел Саньку у стены. Лицо ладонями закрыла, и сквозь пальцы текут слезы. Это было настолько невозможно… Если бы стена заплакала, и то показалось бы мне нормальней. Поэтому, наверно, я все сразу осознал и про нее, и про себя. Именно так, как оно есть на самом деле. И решил объясняться, не откладывая. Плачет человек – чего тут ждать? Я же француз, мне выяснять отношения не так уж трудно… Хоть и страшно.
– И она тебе поверила?
– Да некогда там было не поверить! Все складывалось быстро и бесповоротно. Она пыталась говорить, что я над нею издеваюсь и что она нисколько не красивая, все это знают… Я просто отвел ей руки от лица и прямо в глаза сказал свое: «Je t’ aime», – и получил в ответ: «Неправда! Это я тебя люблю». А я сказал: «Вырастем и поженимся. Если, конечно, доживем. Иди умойся и пошли кататься, пока не опоздали».
Но мы, конечно, ничего не соображали, когда нас вызвали на лед. По счастью, тетенька не видела, как мы катались. Дело в том, что вначале мы были под щитом…
– Да, помню ваши ремни.
– Ну вот. И пару раз превысили реальные возможности. А потом я снял щит, и мы работали без страховки, потому что Санька никогда свой не включает, если не напомнить. Я хотел, чтобы все оказалось честно.
– Правильно. И чтобы поскорее свернуть себе шеи. На самом деле я не заметил разницы.
– Бет тоже не заметила. А то не знаю, что бы сделала. Она не разрешала нам снимать защиту ни днем, ни ночью. А тетенька сначала встретила в коридоре какого-то нужного человека и опоздала на первую минуту. На второй минуте Бет ее как-то попридержала, оценив ситуацию. Бет говорит, если бы тетенька это увидела, нас бы не выпустили из Москвы. Отправили бы в детский дом ради нашей безопасности.
– Да вряд ли. Мне кажется, у нас в детских домах пятнадцатилетних уже не держат.
– Ну, не знаю. Наверное, Бет просто припугнула нас. Или эта тетенька действительно собиралась что-нибудь придумать, лишь бы досадить Бет. Не это, так другое.
– Но ведь она могла посмотреть запись.
– Могла, но не посмотрела. По-моему, ей было просто лень. Она втайне порадовалась нашему провалу, ну и все. Или Бет уничтожила эту запись. Жаль, если так. Все-таки интересно когда-нибудь взглянуть… Зато спортивных достижений от нас больше не ждали. На некоторое время унялись, а потом потребовали научных, но это ты уже сам знаешь.
Андре помолчал и продолжал:
– На другой день была еще разборка. Это тоже комедия, каких я в те времена не видывал. Никто ни разу не спросил, как нам удаются наши трюки. Все твердили только о правилах, которые мы нарушали. Как будто мы законов физики не нарушали! Санька потом негодовала, все спрашивала: «Разве это спорт?» Зато Бет выглядела довольной.
– Вам сильно от нее досталось?
– Нет. Можно сказать, совсем не досталось. Она лишь спросила: «Что у вас с нервами, ребята? Публики испугались?» И объяснила вкратце, чем мы рисковали. Вот тогда я объявил ей про помолвку, и Бет схватилась за голову.
– Почему? Мне кажется, она от вас ничего другого и не ждала.
– Она боялась за нас – как всегда. Боялась моей безответственности. Или наоборот – что я собрался взять на себя ответственность, которая мне не по силам. И, главное, того, что будет с Санькой в обоих случаях. «Она, скорей всего, не передумает, – сказала Бет, – а ты? Что ты про себя знаешь? Что ты пижон и шалопай? Ты представляешь, сколько раз ты еще влюбишься? Так и будешь раздавать направо-налево руку и сердце? Как можно давать слово, не зная, сумеешь ли его сдержать?» Я сказал, что сдержу. Бет только рукой махнула. Потом сменила гнев на милость, опять рассказала мне доходчиво, что Саньку нужно охранять ежеминутно от всего. А я и раньше, между прочим, это делал, с тех пор, как началась карнизная охота. И отпустила нас гулять по городу.
Он помолчал еще немного и сказал:
– Хороший у вас город. По крайней мере, нам там было хорошо. Тепло, уютно, безопасно. Мы говорили всю дорогу, а о чем – не помню. Наверно, детство вспоминали.
Но этот разговор произошел уже спустя несколько лет, при очень странных обстоятельствах. Отчасти обстоятельства его и спровоцировали, но о них я расскажу не сейчас, а в свое время.
Глава 2
САНЬКИНА ЗАДАЧКА
«Второй звонок» прозвучал спустя год с небольшим. В конце зимы университет всегда проводил заочную международную математическую олимпиаду для школьников. Условия такие: все желающие присылают задачи своего изобретения, а мы должны их прорешать и выбрать самые красивые. Это был мой традиционный ежегодный приработок чуть ли не со школьных лет. Конкурсом заправлял сначала отец моего одноклассника (впоследствии однокурсника). К тому времени, о котором идет речь, его сменил сам однокурсник (тогда уже по аспирантуре) Пашка Воронов. Со школьных лет Пашка считал, что нет такой задачи, которую я не мог бы решить. Вполне естественное заблуждение человека, предпочитавшего при случае списать и не мучиться над всякой математикой. Пашка не был глупым, но ум имел с практическим оттенком. В его руках конкурс катился как по маслу. Студенты младших курсов на общественных началах (ради престижа) проверяли основную массу работ, отсеивая всякий вздор. То, что у них не получалось, разбирал я и еще двое таких же «штатных». Каждый раз начиналась морока и большая головная боль, но я не мог пожаловаться – конкурс оплачивал (частично) мои вылазки в горы.
Горы и математику я унаследовал от родителей. Отец был альпинистом-профессионалом и брал меня с собой в достаточно серьезные походы. Иногда и мама шла с нами, и кончилось это плохо. В то лето, когда я, ворча и ноя, вместо гор отправился на военные сборы, они попали под обвал, и я остался с бабушкой, мамой моего отца. Нам пришлось сдать «мою» (родительскую) квартиру, и я сумел продолжать учиться. Ну и, конечно, подрабатывал, когда получалось. Два аспирантских года я был привязан к дому: бабушку стало нельзя надолго оставлять без присмотра. К той весне, о которой пойдет речь, я остался совсем один. Бабушка не пережила тяжелую операцию.
Жизнь превратилась в легкую и пустую. Не то чтобы я не обзавелся друзьями, но я был «старомодный юноша», как выразился кто-то из преподавателей, и не делил их образ жизни. Честно сказать, я оказался не настолько старомодным, чтобы, став студентом, не поиграть во взрослые игры. На третьем курсе, к примеру, я уверился, что женюсь на девушке из параллельной группы. На мой взгляд, это был более чем решенный вопрос, но девушка, как выяснилось, думала иначе и неожиданно, без всяких объяснений, сменила меня на дипломатического отпрыска с журфака. От этого я не запил и не пустился в беспросветный преферанс, как сделал бы почти любой мой однокурсник (как минимум; про максимум я лучше промолчу). Я просто отошел от тех компаний, где нас привыкли видеть вместе, – то есть от всех компаний, кроме альпинистов. Той весной, о которой идет речь, я еще не знал, что делать со своей отчаянной свободой. Ждал лета и работал с утра до ночи. На кафедре в тот год сочли весьма удобным заткнуть мною все дыры в расписании, и я учил студентов чуть ли не по тридцать шесть часов в неделю.
Вторая глава этой истории началась самым банальным образом. Пашка призвал меня в каморку, где лежали присланные задачи, чтобы выдать мне первую порцию головоломок. Пожаловался, что работ прислали уйму. Махнул рукой на груды писем в картонных коробках. Я вежливо, но рассеянно порылся в той, что оказалась перед моим носом, вздрогнул и вытащил конверт с невероятным обратным адресом: «Иллирия. Лэнд. Санни Клемент».
– Ого! – сказал я, не скрывая интереса (а зачем бы я стал его скрывать?). – Не может быть!
– Что там? – спросил Пашка. В его голосе звучало томное отвращение ко всему.
– Да вот письмо от девочки… Помнишь, прошлой зимой катались ребята-фигуристы, которых засудили?
– Нет, не помню. Я не смотрю фигуристов. И что, фигуристка прислала задачу?
– Вот конверт.
– А, чушь какая-нибудь! Спортсменам некогда учиться математике.
– Послушай, Пашка, можно я взгляну?
– Да на здоровье! Забирай. И вот тебе еще в придачу. А девочка симпатичная?
– Вполне. И даже очень. И парень славный.
Пашка вздохнул:
– Тогда зачем ей математика? Не понимаю.
Я краем уха уже слышал, что у Пашки были неприятности на кафедре. Одна из групп, навьюченных на меня в этом семестре, по слухам, «съела» Пашку, который несколько раз сел в лужу перед молодыми и зубастыми коллегами. Я поболтал с ним, чтобы отвлечь от грустных мыслей, хотя меня так и тянуло вскрыть конверт и посмотреть задачу. Но я не вскрыл, унес его домой. И, таким образом, никто, кроме меня, не видел содержимое конверта. Студентам он не достался, Пашка его не вскрывал. Он, кстати, вообще забыл, что дал мне эту работу, и ничего не сказал, когда я не вернул ее с первой пачкой задач. Я разобрал вторую порцию и третью и все крутил в уме головоломку, которую прислала Санни.
Она опять нарушила все правила: в конверте лежал только листок с условием. Решение не прилагалось. Жюри имело право отклонить работу, но я не собирался этого делать. Не хотел, как та судейская бригада, признать, что я слабее этой девчонки и не могу соревноваться с ней на равных.
Хотя я был довольно близок к тому, чтобы признать поражение. Потом я часто думал, что произошло бы дальше. Вариант первый, успокоительный: я сдал бы листок Пашке, тот бы сказал, что, раз нет решения, так нечего и мучиться, и отложил бы лист к прочим забракованным работам, которые потом бы выбросили. Вариант второй, катастрофический: я мог бы подкинуть задачу кому-нибудь из старших гениев, и вот тогда… А впрочем, гений тоже мог бы отступиться. Проще всего было предположить, что у задачи нет решения, и все это ошибка или невежливая шутка. Мне кажется, что, в конце концов, я решил ее только потому, что видел Санни и Андре. То есть имел хотя бы намек на реальность, описанную в этом словно абстрактном построении.
Когда у меня сошлись концы с концами, я целую ночь до утра парил и ликовал и чувствовал себя хозяином Вселенной. Задачка оказалась вовсе не абстрактной. Она – как бы сказать? – показывала, что мир устроен (или может быть устроен) не совсем так, как мы привыкли думать; что в нем можно хозяйничать с пространством, временем, энергией куда свободней, чем обычно по силам людям. Целую ночь я обдумывал все последствия открытия, время от времени спрашивая себя, не сдвинулся ли я ненароком с ума в своей пустой старой квартире. Для математика это обычный профессиональный риск. Решение давало в руки не абсолютное всевластье, но все равно огромную свободу и чудесные возможности. Вот я и думал, что будет, если оно попадет в руки к недобрым людям. К утру я, по-видимому, вполне освоился с ролью властелина мира. По крайней мере, осознал, что власть – это ответственность. После бессонной ночи все казалось не совсем реальным. Мне пришло в голову, что надо бы выспаться, потом еще подумать, а потом уже действовать, но я не мог остановиться.
Взял листок, присланный Санни, собрал все свои черновики, где был хоть намек на эту задачу, и сжег их в ванной комнате в алюминиевом тазу, в котором мы раньше варили варенье.
Нашел в своем школьном архиве (там имелось кое-что интересное) одну задачку, которую сам сочинял когда-то для этого конкурса. Она мне очень нравилась, я долго с ней возился, но потом нашел в условии ошибку, перечеркнувшую все красоты. Я попытался вспомнить, показывал ли Пашке этот опус. Выходило, что нет, не показывал. Во-первых, я держал его в тайне и хотел всех поразить, а во-вторых, с Пашкой неинтересно обсуждать такие вещи.
Дальше я действовал, как записной шпион. Созвонился с приятелем-альпинистом, сотрудником маленького частного издательства. Договорился, что он позволит мне распечатать несколько листков на лазерном принтере (якобы для диссертации: я побоялся засветиться в университете). Набрал там текст своей задачи и решение (понятно, что школьная тетрадочка тоже сгорела в алюминиевом тазу) и распечатал в двух экземплярах. В одной из них сделал все положенные пометки и отнес его Пашке с четвертой порцией задач: «Вот посмотри, я у тебя брал… Тут, к сожалению, ошибка…»
Опять произошло чудесное стечение обстоятельств. У Пашки собрался народ, происходило кофепитие. Сам он, возможно, и не взглянул бы на мои труды, но кто-то из ребят перехватил бумажку, порадовал меня первой реакцией: «Ух ты!» – потом поогорчался. Итак, нашлись свидетели, которые могли бы подтвердить, что я вернул задачку Санни, и ничего особенного в ней не оказалось. Через пару дней я зашел в конкурсную каморку, когда в ней было пусто, выудил свой листок из груды отработанных бумаг, унес домой, а дома тоже уничтожил (мера, как оказалось, правильная).
Последнее и самое рискованное, что я сделал, – письмо в волшебную страну Иллирию. Я написал, тщательно подбирая английские обороты, что рассмотрел присланную на конкурс задачу и восхищен талантом юного коллеги, Но, к сожалению, в условие вкралась ошибка, что не дает возможности присудить за задачу призовое место. Поэтому я выражаю твердую надежду, что юный коллега и его наставники впредь будут внимательней и осторожней. Вложил в конверт листок с моей задачей (второй экземпляр), где ошибка была просто подчеркнута красным. Надписал тот невероятный адрес, который видел на конверте. Единственное, что я, может быть, сделал совсем неправильно, – дал обратный адрес конкурса, а не свой домашний. Конкурс не объяснялся с неудачниками, отвечал только победителям (а их всегда много), иначе разорился бы на переписке. Но сам листок с письмом я мужественно подписал полным именем – Иван Николаевич Константинов. Бросил конверт в почтовый ящик и стал с замиранием сердца ждать, во что же это выльется.
Разные варианты так и проносились в голове, особенно по утрам, когда я сокрушал тонкий весенний лед на лужах, спеша в университет. Не стану пересказывать. Все это уже описывали и показывали в каких-нибудь боевиках. Всерьез обдумывались две возможности: или же я сошел с ума, или за всей этой историей должен стоять какой-то взрослый человек, и с ним мне многое хотелось обсудить. Будь я на его месте, я бы разыскал Ивана Константинова и выяснил, чего от него ждать.
Кое-что я и сам предпринял. Потратив уйму времени и сил в библиотеке, я попытался выяснить, кто и где мог работать в этом направлении математики. Судя по публикациям, однако, такого направления и близко не оказалось («Если, конечно, оно не засекречено», – подумал я уныло).
Кроме того, я стал наводить справки об Иллирии. Задачка оказалась непростой – по-своему не хуже, чем задачка Санни. Я пришел к выводу, что эта страна все же существует (как ни странно) где-то в блаженном Средиземноморье. Это единственная информация, которую я счел достоверной. И то в глубине души продолжал в ней сомневаться. Нигде мне не попались широта и долгота, название столицы, население и государственный язык. Впрочем, форма правления указывалась – монархия, но тоже необычная. Трон делят две сестры (близнецы?). Ни на одной карте этого государства не было. Я принял для себя гипотезу, что это крохотное княжество живет туризмом и никого не раздражает. Кое-что удалось узнать про «Лэнд» – «школу украденных детей», как назвала это когда-то моя бабушка. Такая школа (интернат, пансион, детский дом) значилась кое в каких официальных рубриках. С одной стороны, это было королевское благотворительное заведение, с другой – международная программа под присмотром нескольких организаций. «Украденных детей» насчитывалось немного – чуть больше двадцати.
Ответ пришел в середине мая. На сей раз Пашка – или кто-нибудь до Пашки – его уже вскрыл и прочитал, хотя на конверте значились мои фамилия и инициалы: «Константинову И. Н.».
– Послушай, ты, «достопочтенный ученый и педагог», – сказал мне Пашка, – тебе, кажется, крупно повезло. Тебя благодарят и приглашают провести каникулы у моря.
– У какого моря? – спросил я тупо..
– Ты что, не знаешь, у какого моря находится страна Иллирия?
– Понятия не имею.
– И я не знаю, – сказал Пашка, – но, судя по всему, у Средиземного. А, нет, смотри-ка – Адриатика. Но это все равно.
В конверте лежал билет на самолет до Рима (могу зарегистрировать в любой удобный день в течение трех месяцев) и хитрая банковская карточка, которую не имело смысла красть, и описание дальнейшего маршрута: автобусом до городка на побережье Адриатики, а там меня каждый нечетный день будет ждать катер. Достаточно оформить итальянскую визу, Иллирия и так меня приветит. Формальности на месте.
Пашка подозрительно спросил:
– А как они узнали, что ты проверял их работу?
– Я им написал.
– Зачем? Она же не прошла?
Я не придумал ничего умного, чтобы соврать, и заявил:
– Девочка понравилась. Решил познакомиться.
– А-а, – сказал Пашка неуверенно (уж очень это не походило на меня), – поезжай, может, ты тоже ей понравишься.
В какую-то минуту я обрадовался этому письму, как исполнению всех желаний. Потом испугался – в первый раз, но основательно. И крепко пожалел, что влез в эту историю. «Адриатические волны, о Брента!..» – это хорошо. Но в то же время удивительно удобно, чтобы сгинуть без следа. А впрочем, отступать я все равно не собирался и кое-как придавил свой страх. Кредитная же карточка отравляла мне настроение до самого отъезда. Терпеть не могу, когда за меня кто-то платит. То есть такого никогда и не бывало, и я бы предпочел, чтобы не было и впредь. Хотя тот, кто хотел меня увидеть, оказался прав. Сам я не смог бы оплатить такое путешествие. Даже экипировка в летнюю поездку за границу стала проблемой.








