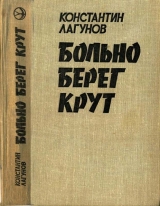
Текст книги "Больно берег крут"
Автор книги: Константин Лагунов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
Снова замкнулся роковой круг. Никакого просвета.
– Ничего, – трудно выдавил сквозь зубы. – Живы будем, не помрем…
Отодрал подошвы от снега и пошел – сперва медленно, нога за ногу, тяжело и бесцельно, потом неприметно разошелся и пошел вышагивать по-бакутински: размашисто и прицельно.
Снегопад оборвался разом, словно невидимый и всемогущий небесный помреж нажал кнопку и переменил декорацию, вместо непроглядного снежного хаоса поставил перед Бакутиным запорошенный снегом, сверкающий и буйный Турмаган: ни мусора, ни хлама, ни выбоин на дорогах, даже раскорячистые голые ветви редких берез и рябин, отороченные лебяжьим пухом, сплетались в причудливые, нарядные узоры, притягивали и ласкали взгляд, а хилые ели под искристыми белыми накидками стали величавыми и гордыми. Всемогущий таинственный помреж нажал еще одну кнопку, зажег красный прожектор солнца, ослепительно заискрился снег, заскакали по белым сугробам розовые блики. «Звук!» – скомандовал волшебный постановщик, и тут же зазвенели колокольчиками ребячьи голоса, загомонили птицы, задорно и бодро загукали автомобили, накрыла сверху город пронзительная вертолетная трескотня. Пораженный неожиданной и стремительной переменой, Бакутин остановился.
– Мать честная! До чего ж хорошо…
2
Потепление оказалось коротким и слабым, как выдох спящего ребенка, и вот уже ломкий синий морозец потеснил оттепель, одев Турмаган в дивный кружевной наряд. Пышный, сочный куржак обметал деревья, и те казались вылепленными из снега, нереально хрупкими: тронь… и рассыпется, дунь… и развалится. Даже металл – трубы, машины, провода – казался мягким и податливым, в затейливом куржаковом оперении. Толстенные стальные тросы превратились в пушистые ватные жгуты, лишь ради красоты протянутые к буровой вышке или к трубе котельной. И припудренные инеем трубы кажутся тонкими, ломкими, ненадежными. А тут белая дымка размыла контуры предметов, и те легко смещались, кривились и ломались под взглядом. И как звук распада окружающего, воспринимался звонкий волнующий хруст и скрип промороженного молодого снега.
Бакутин почитал за праздник такие редкие зимние дни, когда мороз не хлещет, не кусает, а лишь радует и бодрит, когда стужа не костенит тело, а молодит его, горячит, наполняя ненасытной жаждой движения и работы, самой грубой первобытной работы – топором, ломом, кувалдой. А еще в такой нарядный, искристый день хотелось петь во все горло, да не в одиночку, а припав плечом к плечу друга, хотелось быть добрым и мягким, дарить людям улыбки и сердечное тепло.
Никак не сиделось Бакутину в кабинете. Взгляд непроизвольно скользил за окно, сверкающая благодатная белизна за ним манила и волновала. И уже приятно думалось о предстоящей поездке на трассу строящегося нефтепровода, и, не желая отодвигать это приятное, Бакутин проворно оделся, вышел в приемную, кивком поманил водителя, сказав при этом секретарше:
– Я на трубу.
Здесь, на нефтяном Севере, бытовал свой жаргон, рожденный стремительным ритмом и широчайшим диапазоном производственных будней. Люди объяснялись предельно кратко, введя в оборот массу сокращений и условных обозначений. «Кинуть трубу» – означало «проложить нефтепровод». «Труба пошла» – значило, что болота промерзли, начали копать траншеи и укладывать сваренные в нитку трубы.
Вторая нитка нефтепровода на Омск едва отползла от Турмагана и остановилась в самом неподходящем месте перед Карактеевскими болотами, которые вперемежку с чахлыми колками и редкими худосочными гривками тянулись без малого на сотню километров, не всегда и не везде промерзая даже в лютые холода. В эту зиму болота промерзли, но строители почему-то топтались перед ними, изобретая все новые и новые «объективные» причины, а время шло, и уже не много оставалось до весенней ростепели, когда болота оживут и станут действительно непроходимыми. Если до той поры не одолеть Карактеевские топи, нефтепровода в этом году не будет, миллионы тонн турмаганской нефти останутся в земле. Генподрядчик, строивший нефтепровод, находился в Уфе, четыре субподрядчика – в Новосибирске, Омске, Казани и Москве, а их уполномочные представители ютились в крохотном, никому не ведомом Карактеево, не имея с миром ни постоянной почтовой, ни телеграфной, ни телефонной связи. Вот и скоординируй действия всех подразделений, обеспечь материалами, техникой, людьми…
Чем меньше оставалось зимних дней, тем сильней нервничал Бакутин: звонил, писал, рассылал телеграммы подрядчикам и вышестоящим, тормошил Черкасова, беспокоил обком, выступил со статьей в «Туровской правде», призывая «объединить усилия», «сконцентрировать», «мобилизовать», но трубостроители так и не ступили на проклятые болота. Тогда по предложению Бакутина решили на бюро горкома поговорить начистоту с руководителями всех подразделений, строящих нефтепровод, с помощью обкома принудили недоступных «королей» землеройщиков, сварщиков, изолировщиков и трубоукладчиков явиться в Турмаган на это бюро. Докладывать там надлежало Бакутину…
До махонькой лесной деревеньки Карактеево можно было доехать зимником, но тот был так разбит трубовозами и тягачами, что и за три часа вряд ли проедешь девяносто километров, тратить же целый день на дорогу – недопустимое излишество, и Бакутин решил лететь вертолетом. МИ-1 был заказан еще вчера и никуда не мог улететь без Бакутина, однако тот все равно спешил, поминутно взглядывал на часы, и, подгоняемый этим, шофер увеличивал и увеличивал скорость.
У самой вертолетной словно из сугроба вынырнул Ивась. Высокий, сутулый, с втянутой в плечи крупной головой, в пыжиковой пушистой шапке. Скинув проворно кожаную на меху перчатку, Ивась протянул руку.
– Здравствуйте, Гурий Константинович! Извините, что без предупреждения, так сказать, явочным порядком…
– Что стряслось? – перебил Бакутин.
– Пожалуйста, прихватите с собой в Карактеево. Надо к бюро выдать стоящий матерьяльчик. Работников у нас, сами знаете. Да еще такая тема. Приходится самому…
Бакутин недолюбливал этого сытого, флегматичного человека, но Ивась был редактор городской газеты, член бюро горкома.
– Пожалуйста, – безразлично выговорил Бакутин.
И больше ни слова и еще шире и скорее зашагал по тропе к призывно маячившему на белом снегу красному МИ-1, возле которого уже стоял вертолетчик. Ивась пошел след в след, его тяжелое сопенье раздражало, и Бакутин еще прибавил шагу, но оторваться от попутчика не смог. «Черт поднес, – все более распаляясь, думал Бакутин. – Всегда так. Только настроишься на добрую волну и… Хорошо хоть молчун. Либо дремлет, либо ногти скребет…» Неожиданно выплыла в памяти Клара Викториновна, какой увидел ее на свадьбе Наташи Фоминой. «Вот баба!.. Атаманша! Сама сгорит и другого спалит. И эта трухлявая сыроежка рядом. Парадокс…» Вспомнился Танин рассказ о том, как этот щелкопер увильнул от стычки с Ершовым. «Редактор. Журналист. Член бюро… Зачем рога налиму?..»
Ивась еле поспевал за Бакутиным. Несколько раз, соскользнув впопыхах с тропы, увязал в сугробе. Неудобные тяжелые сапоги на собачьем меху мешали быстрой ходьбе. «Куда его несет? – раздраженно думал Ивась. – И помрет на бегу. Два сердца дай, все равно запалится…»
Ивась не то чтобы не любил, а просто-напросто боялся летать, особенно на вертолетах. Не доверял этому «сундуку с винтом». И теперь, подойдя к МИ-1, Ивась подозрительно оглядел его, постукал согнутым пальцем по заиндевелой обшивке. Почуяв настроение нежданного пассажира, вертолетчик пнул колесо и сокрушенно причмокнул.
– Что случилось? – встревожился Ивась.
– Не разулся бы в полете, – многозначительно и в то же время совсем невнятно ответил вертолетчик. Поворотился к Бакутину. – Летим?
– Всегда готов. – Бакутин полез в вертолет…
«Что он хотел сказать? Вертолеты падают, горят, цепляются лопастью за деревья, но… разуться… Собачье косноязычие. Ах, дурак. На черта надо было… Мог бы по зимнику…» Убийственно тряская, долгая, изнурительная езда по зимнику в душном тесном «газике» или в танцующей кабине грузовика показалась ему сейчас желанной и сладостной. «Сиди, любуйся природой, беседуй с водителем, а тут…»
– Чего вы там? – Бакутин выглянул в дверку. – Может, передумали?
Мысленно ругнувшись, Ивась полез в вертолет.
Бакутин уселся рядом с вертолетчиком на переднем сиденье и сразу полез за сигаретами. «Хоть бы дал взлететь, – недовольно думал Ивась, следя сторожко за руками Бакутина, вылавливающими из помятой пачки сигарету. – Было бы себе приятно, остальное хоть на воздух взлети. Себялюб…»
Вертолетчик пощелкал рычажками на приборной доске, медленно закрутились лопасти, зарокотал двигатель, и вот неуклюжая краснобокая хвостатая машина, подняв белый вихрь, легко оторвалась от земли и некруто, но настырно полезла вверх. Ивась цепко вцепился руками в сиденье, внутренне сжался, сдерживая дыхание. «До чего все глупо и несовершенно. Хрустни сейчас какой-нибудь дурацкий крохотулька винтик, лопни трубочка-паутиночка или микроскопический проводок и… вдребезги… в пыль… Самые дерзкие, сверхгениальные планы и мечты… Пусть нет у меня таковых – все равно, любой человек – целая галактика со своим солнцем и звездами, неповторимая, единственная, где все до мелочей выверено, подогнано, отрегулировано. Миллионы лет трудилась природа над этим двуногим чудом, а тут из-за какого-то оборванного проводка…» Он явственно представил себе, как падает камнем эта неуклюжая, будто на невидимую нитку подвешенная железная погремушка. Негромкий удар, оглушительный гулкий взрыв, столб белого снега, смешанного с черной землей и кроваво-красным пламенем, которое сожрет его покалеченное тело… Противная липкая дрожь колыхнула округлый рыхлый живот… Вот такие же мысли и видения осаждают его обычно и в летящем самолете. Ивась не только ушами, но и локтями, подошвами ног, спиной слушает чутко и непрестанно дыхание и пульс работающих двигателей или турбин. Слушает до звона и ломоты в затылке, до покалывания в сердце. Разговаривает с соседом, а сам слушает, пьет чай и слушает, читает и слышит. И не дай бог уловить ему малейший сбой в ритме мотора, ощутить дрожь или крен самолета, приметить тревожное лицо суетливо метнувшейся в пилотскую кабину стюардессы. Миг – и его захлестнет страх. Оглушительный, неодолимый страх. Скует волю, стреножит мысли, свяжет язык. Затравленно оглядывая соседей, он станет казнить себя за то, что не поехал поездом или автомобилем, не поплыл на пароходе, в конце концов, не полетел другим самолетом, и тут же поклянется, что в случае благополучного приземления никогда больше не будет летать без самой крайней нужды. Его не утешало в такие минуты сознание, что он – не один, а на миру, как говорит пословица, и смерть красна. Попутчики неизменно оказывались серыми, заскорузлыми людишками, бесчувственными и ограниченными, с толстыми нервами и непробиваемой кожей. Их возможная гибель нимало не задевала Ивася, да и, по его убеждению, никого не могла задеть: такой посредственности хватает на планете. Зато со своей гибелью он не мог, не хотел примириться и даже бога вспоминал в таких случаях и шептал наспех сочиненную молитву, хотя и был непримиримым атеистом-циником. И сейчас мысль о собственной гибели взорвала его непробиваемое спокойствие. Он ясно видел пылающие на снегу обломки вертолета и себя в этом чудовищном костре. Стало тяжело и душно. Расстегнув верхнюю пуговицу мехового пальто, Ивась длинно выдохнул: «И ради чего? Из-за дурацкой статьи о строительстве нефтепровода? Появится она, не появится, построят нефтепровод в нынешнем, в будущем году, совсем не построят – мне не посластит, не погорчит… Осточертели заседания, передовицы, черкасовские нравоучения, сумасшедшие самоеды бакутины… Послать бы всех… Вырваться из этого хомута… Засесть за книжку…» В последнее время он все чаще упивался видением вольготного, вдохновенного жития творца-сочинителя. Ивась неколебимо верил, что, освободясь от служебных забот, целиком посвятив себя сочинительству, он создаст произведение о нефтяниках Турмагана. У него в памяти уйма чужих судеб – трагических и светлых, сломанных и возрожденных Турмаганом. «Нужны время и свобода. Чтоб никто не трогал, не командовал. Наблюдай, постигай, твори. Не получится роман о современниках, можно заняться фантастикой. Тема и сюжет есть. Только время. Свобода и независимость…» Он лелеял эту мечту, скрашивал жизнь придуманными картинами своего независимого бытия, отрешенного от суетных тревог и тягот. Только Рогову выдал Ивась затаенную мечту. И друг понял, оценил, благословил. Причем деловой, практичный Рогов тут же подвел под ивасевскую романтическую задумку реальный базис. «Книга о турмаганских нефтяниках – дело нужное, важное, государственное, – весомо и чеканно высказывался Рогов. – НПУ не обеднеет, если возьмет на содержание автора. Решай в горкоме. Остальное – не беспокойся. Зачислим в РИТЦ на инженерную должность, сотни три-четыре в месяц, и твори…» Ивась чуть не чмокнул Рогова в розовую щеку. Крепко пожал дружескую добрую руку, прочувственно выдохнул: «Спасибо!» Великолепную мысль подал Рогов. Не просто свобода, а в сочетании с материальной независимостью.
Чуть поостыв от восторга и умиленья, Ивась увидел на пути к мечте два порожка: Бакутин и Клара. Двужильный, двусердечный, неистовый Бакутин презирал прихлебателей и дармоедов, даже если на них императорская корона. Уломает ли его Рогов? А и уломает, Бакутин непременно возьмет вольного творца под контроль, задергает, завалит дополнительными нагрузками. Крамор вон целые дни малюет плакаты, стенды, стенгазеты, а профессиональный художник. Церемониться с непризнанным, только еще хотящим и неизвестно, могущим ли стать писателем Бакутин не станет, заставит работать. Получится, из огня в полымя… Таков первый крутой и горький порожек на пути к мечте. А другой…
С той ночи, когда Клара спасла Крамора (о ее уникальной операции были статьи и в «Советской России» и в «Комсомолке»), с той самой ночи между ними установилось молчаливое сосуществование. Тогда он проснулся от ее плача. Проворно вскочил, выглянул из спальни. Увидев худую, согнутую, вздрагивающую спину жены, как можно мягче и заинтересованней спросил:
– Умер?
Она перестала плакать, но не подняла головы. Решив, что угадал, Ивась подошел, положил ладонь на медные завитки, легонько и ласково их потрепал.
– Полно, – процедил зевая. – Слезами не воскресишь… Такие шизики сами свой век укорачивают…
Резким кивком головы Клара стряхнула руку мужа и встала так неожиданно и решительно, что Ивась попятился, разом вспомнив ночное происшествие и предчувствуя расплату за малодушие, или за осмотрительность, или черт знает за что, вернее всего за то, что не таков, каким хотела бы она видеть его.
– Извини, Клара. Знаю, нелегко врачу, когда погибают под его скальпелем. К тому же знакомый… Сядь, пожалуйста. Успокойся. Вчера был день нашей свадьбы. Выпьем…
Взял початую бутылку, проворно разлил вино по бокалам, поднял свой.
– Бывай.
– Бывай, – эхом прошептала она и, прокашлявшись, громче: – Хорошо, когда день рождения и смерти – один. Кто угадает, за что пьешь…
И залпом опорожнила бокал.
Он не стал расшифровывать ее слова, даже не задумался над ними: зачем дразнить судьбу. И чтобы жена тоже не договорила, снова налил оба бокала и тут же призывно приподнял свой, кивком приглашая следовать. Клара болезненно ойкнула, страдальчески покривила бледное, помятое бессонницей и переживаниями лицо и снова выпила одним духом. На негнущихся, будто окостеневших ногах неуклюже отмерила шесть (он сосчитал – шесть) широких, циркулеобразных шагов до своей кровати и, не раздеваясь, рухнула лицом в подушку. Наверное, надо было подойти, утешить, успокоить, приласкать, но во внутреннем механизме Ивася что-то заклинило, и тот омертвел, не сдвинуть, не шевельнуть. И за те несколько мгновений, пока он одолевал необъяснимую окаменелость, меж ними разверзлась земля, образовав глубочайшую расселину. «Все… Все… – с каким-то жутким, упоенным облегчением оглушенно подумал тогда Ивась, глядя на неподвижное тело жены. – На разных берегах… На разных…»
Да. На разных. И чем дальше уплывала в прошлое та роковая ночь, тем шире и глубже становился меж ними провал – не видимый другими и нарочито не замечаемый ими. Вот и сунься теперь со своей бредовой идеей превращения в свободного художника…
Нет, турмаганское чудо не состоялось. Жизнь воротилась на круги своя. И хотя над головой – другое небо, а вокруг – другие люди, сам-то он остался прежним. Не уплотнилась, не закалилась, не изострилась его сердцевина. Нет! «Что за стержень в Бакутине? Из горкома выпнули. Наградой обделили. Освистали и осмеяли. А он все тот же: зубы наголо, в глазах – штыки. Прет и ломит наперекор. До самого верху докричался о факелах. Медленно, пока еще на холостом, почти на холостом, но все-таки машина закрутилась. Пошла. И чем дальше, тем скорей. У нас трудно начать, еще труднее кончить. Теперь она пойдет. Дойдет. Даже без Бакутина. Даже по Бакутину. Окажется ли он у триумфальной арки среди тех, кого увенчают лаврами, почестями и наградами, возвеличат и прославят? Сомнительно. Вспашет и посеет – точно, а пожинать станут другие. И все-таки…»
И все-таки Ивась очень хотел бы стать Бакутиным. Чтоб говорить и думать и делать – что по душе. «А потом на сорок каком-нибудь витке сломать шею, вылететь на пенсион иль к праотцам. Рвать жилы, гробить нервы, надрываться, все откладывая на потом… Потом поживу для себя. Потом отдохну. А никакого потом. И получится, жизнь-то ухлопал ради того, чтоб выдоить из болот эти миллионы тонн черной, вонючей жидкости? Чтобы не горели эти дурацкие факела? Ну, нет! Нет! Н-е-ет!..»
Вертолет резко дернуло вниз. Ивась вцепился в железную раму сиденья, пугливо покосился на окно. «Снижается. Карактеево…» Перевел взгляд на Бакутина. Неловко уронив седую голову на плечо, тот спал с нераскуренной сигаретой во рту. «Лихач. Мороз не мороз – без шапки. Все – нипочем…»
И вдруг до слез, до ненависти, остро и люто позавидовал Бакутину.
3
Бакутин очнулся от толчка. Глянул в заиндевелое оконце. «Никак, прилетели. Хорошо дреманул…» Вдруг мысль отлепилась от окружающего и унеслась.
Здесь, на Севере, названия многих поселений кажутся русскому слуху необычными: Турмаган, Оган, Вуль-Ёган, Побегуйка, Синий мыс. Есть деревушки со сдвоенным и даже строенным наименованием, вроде Пилюгино-Аллочка-Поищи уздечку, и у каждого из этих трех имен своя история, легендарно-романтическая, которая и помнится-то ныне уже немногими стариками, но в которой непременно присутствуют и дух времени, и характер тех прапращуров, кои основали и окрестили так это таежное глухоманное село…
Когда-то давным-давно безвестный крепостной мужик Никодим Пилюгин бежал от барского гнева за Уральский Камень, в неведомую и дикую Сибирь. Бежал не один, сманив с собой двух братьев да дружка верного, словом, в одночасье увел у барина восемь крепких, мастеровых, мужичьих рук. И хоть снарядил барин погоню за беглыми и наказы грозные разослал во все концы, изловить Никодима не смог, и после долгих скитаний, обремененные уже женами и детишками, осели братья Пилюгины на крутом обском берегу, и на том пилюгинском корешке выросло большое, торговое и богатое село Пилюгино с двумя церквами, двумя кабаками и огромным, за бревенчатым заплотом под глухой крышей, неприступным, как крепость, постоялым двором Саввы Пилюгина – Никодимова внука. Не без корысти хлебосольствовал Савва, брага его сшибала с ног бородачей, кои кулаком могли коня опрокинуть. От той браги по утрам башка трещала, в глазах двоилось и шальные, ополоумевшие ямщики часами потерянно шарашились по двору, отыскивая свои хомуты, вожжи, а чаще всего уздечки. С того к селу Пилюгино приклеилась кличка «Поищи уздечку» и стало оно называться Пилюгино-Поищи уздечку и так называлось вплоть до тридцатых годов нашего века. А в начале тридцатых племянница Саввы, голосистая и дерзкая красавица Аллочка без памяти влюбилась в лихого красавца, капитана парохода «Ермак», целое лето плавала в его каюте, воротилась в село хоть и невенчанной, нерасписанной, но капитанской женой и стала ждать мужа на побывку и первенца. Но муж не появлялся и вестей не подавал, когда же весной Аллочка вышла на крутоярье встретить «Ермак», тот прошел мимо пристани, лишь гуднул, проходя, да мелькнуло в окне капитанской каюты дорогое Аллочке лицо. Не стерпела красавица обиды и навиду столпившихся на палубе пассажиров, на виду шушукающихся и перешептывающихся за спиной подружек кинулась с крутоярья в пенную, мутную, ледяную Обь. Погибла Аллочка, но в память о ней село приняло ее имя, поставив промеж двумя уже привычными, узаконенными. Так появилось Пилюгина-Аллочка-Поищи уздечку.
Только тронь любое названье, любое поверье, любую примету, и сразу выглянет из-за нее что-то давно позабытое, может, нелепое и смешное, но несомненно дорогое нам, как эхо, как отзвук прошлого, как пусть и тонюсенькая и очень непрочная, но живая и непрерывная связь с теми первыми русскими переселенцами, что истоптали несчетно пар лаптей по пути к сибирской вольной волюшке, где можно есть досыта, пить допьяна и никому не кланяться. В названьях рек и сел, трактов и урочищ, в преданиях, притчах и легендах, в игрищах, песнях и забавах – сокрыты крупицы духовной сути народа. Постичь их, оградить, передать потомкам…
Вот какие мысли занимали Бакутина, пока вертолет, сделав круг, медленно опускался подле деревеньки с непонятным именем Карактеево. До недавнего времени даже Бакутин не знал о существовании этой деревушки. Да и какая это деревушка? – полтора десятка домишек с краю непроходимого болота. Ни леса доброго рядом, ни реки. Что ж загнало сюда первых карактеевцев, удерживало их десятки лет в угрюмом, неприветливом, глухом месте? Что?.. Сейчас сверху Карактеево походило на осажденную малую крепость. Со всех сторон деревеньку обступили шеренги вагончиков-балков. Мазутно дымили трубы, пылали костры, суетились вездеходы, экскаваторы. «Сглотнули деревеньку», – подумал Бакутин, добывая наконец спички и прикуривая…
Кабинет и квартира начальника участка разместились в полубалке – на шести квадратных метрах, и Бакутин подивился изобретательности и сметке начальника, ухитрившегося втиснуть на эти шесть квадратов и койку, и стол, и широченную скамью-рундук, и электрокозел, да еще оставить пятачок, квадрата в два, для посетителей.
Он не вскочил навстречу вошедшим, молча пожал им руки и продолжал разговор с высоким парнем в замазученном полушубке.
– Слушай сюда, – начальник ткнул карандашом в лежавшую перед ним карту. – Вот этот косогор. И этот… узнаешь?
– У-мм, – неуверенно промычал парень.
Начальник накрыл карту чистым листом бумаги, быстро вычертил на нем схему нужного участка трассы, обозначил крестиком косогоры, кружочком – лесок.
– Теперь вспомнил? Ну, слушай сюда. Этот косогор срезать начисто. У этого стесать бок. Вот так. – Нарисовал рядом профиль косогора и показал, как именно надо стесать бок. – Понял?..
Когда бульдозерист ушел, начальник участка вдруг заговорил мечтательно и жарко:
– Эх! Мне бы сейчас пяток бульдозеров. А? Новых. Техника измотана, изношена. Половина на ходу. Я бы бульдозеры по зимнику пригнал. Не самоходом. Не. На КрАЗах… Слушай сюда. КрАЗ подымает двенадцать тонн, а бульдозер без оснастки весит одиннадцать четыреста. Уловил? Точно – бульдозеры на КрАЗы, да с ними трап, чтобы в случае чего бульдозер по нему сошел, вытащил застрявший КрАЗ и снова вскарабкался. А? Ловко ведь…
– Куда как ловко, – ободрил Бакутин. – Только я тебе бульдозеров не дам. Сам бы взял, да не дают. Апеллируй вот к всемогущей прессе, – кивнул на придремнувшего в тепле Ивася. – Сразу докинет твою слезу до господа бога, и будут тебе бульдозеры.
Смущенно и в то же время солидно кашлянув, Ивась вытащил из кармана блокнот и, понося в душе Бакутина, стал что-то записывать. Ободренный начальник сразу перенес прицел на Ивася и хотя неторопливо, немногословно, но ярко обрисовал положение на участке: нет контакта между подразделениями, катастрофически не хватает людей, нужна техника, недопустимые перебои с финансированием, нечем платить заработную плату землеройщикам…
– Если и дальше так будет, за зиму болото не одолеть.
Все это Бакутин не раз слышал и сам переживал подобное, может, только в иных масштабах. Знал он и то, что Ивась ничем не поможет строительству. «Ни атаковать, ни рисковать не будет… Неужели не видит, что за птица. Видать, невмоготу, если такому лаптю исповедуется…» Пока соображал, как бы отвлечь начальника участка от разглагольствований, выманить на трассу, вошел пожилой, помятый, видно, крепко зашибающий мужичонка и, не здороваясь, не говоря ни слова, протянул начальнику замусоленный тетрадный листок с заявлением. Начальник молча пробежал взглядом по корявым строчкам, поднял глаза на просителя.
– На каких экскаваторах приходилось работать?
Мужичонка бойко, как вызубренную шпаргалку, выговорил полдюжины марок отечественных и зарубежных экскаваторов.
– Для труб рыл траншеи?
– Дак мы это…
– У нас она знаешь какая? Прямая, как выстрел.
– Как выстрел, – поддакнул мужичонка и понимающе, довольно улыбнулся, отчего лицо его стало осмысленным и добрым.
– Давай документы. С утра на трассу.
Когда за новоиспеченным экскаваторщиком закрылась дверь, начальник участка проворно вскочил, крутнулся на крохотном пятачке, присел на край широченной скамьи-рундука и с тоскливым восхищением:
– Какие люди у нас. Какие люди! А? Нет им цены. Работают на любом морозе. Машины ремонтируют под открытым небом. Не всякий день по-людски обедают. То свету нет, то воду не подвезли в столовку. Ни кино, ни почты, ни библиотеки – ничегошеньки. И никаких жалоб…
«Оттого и нет самого элементарного, самого нужного, что никаких жалоб», – повисло на кончике языка Бакутина, но вместо этого он сказал:
– Пойдем на трассу, поглядим…
Начальник участка молча натянул стеганку и стал поверх нее надевать серый брезентовый плащ.
– Что-то ты больно легко, – сказал Бакутин, застегивая меховую куртку.
– Ни унтов, ни валенок не нашивал, – беспечно ответил начальник участка. – Кирзовые сапоги на шерстяной носок. Мне бегать надо. Редкий день километров двадцать не протопаешь, а в валенках да шубе куда?
Едва вышли на открытую равнину, наскочил холодный знобкий ветер, настырно полез под шапки, за воротник, задирал полы, леденил колени, и как ни петляли они по неудобной, пробитой в сугробах тропе, все равно ветер дул и дул только в лицо. Начальник шагал первым, легко и домовито, словно всю жизнь только и ходил по сугробам, навстречу обжигающе резкому ветру. И Бакутин не гнулся, не кланялся ветру, который лохматил и трепал длинные седые пряди на непокрытой голове, леденил шею, сек лицо. Ивась поначалу хотел как они – не кутаться, не гнуться, – но скоро озяб, опустил наушники шапки, завязав лямочки, поднял воротник длиннополого, неудобного и тяжелого пальто на меховой подкладке. Пудовые сапожищи то и дело соскальзывали с тропы, увязали в снегу, ногам в них было неудобно и жарко, а непродуваемое пальто теснило плечи, сковывало движения, и мохнатая шапка все время сползала на лоб. То и дело оступаясь, догоняя и что-нибудь поправляя, Ивась вспотел, но не согрелся. Было и душно, и знобко, и неудобно, и скользко. А когда вышли на трассу, где землеройщики, сварщики и трубоукладчики работали кто в полурасстегнутых полушубках, кто в обычных ватниках, а подле – ни будки для обогрева и перекура, ни даже крытого, заветренного уголка, Ивась застыдился, распустил лямки наушников, отогнул воротник и даже попытался что-то записывать в блокнот…
Строительство еле теплилось: не хватало техники землеройщикам, кончились трубы у сварщиков, вышла из строя единственная изолировочная машина. В любом подразделении недоставало половины рабочих.
Через пару часов краснолицые, хриплоголосые, сердитые начальники всех подразделений кучно сидели в том же полубалке, дымили сигаретами, глотали черный, как деготь, горячий и горький чай и поочередно выставляли напоказ свои болячки.
Ивась пристроился к столу, положил на уголок добротный тяжелый блокнот и поначалу добросовестно записывал все, о чем говорили начальники, но скоро утомился, высказывания показались однообразными, и вот уже вместо ручки неразлучная маникюрная пилочка, полуприкрыв глаза и расслабясь, Ивась принялся самозабвенно и тщательно полировать ногти. Иногда он заинтересованным взглядом скользил по лицам собравшихся, что-то записывал, отпивал два-три глотка остывшего чаю и опять упоенно скоблил и драил свои крупные, круглые, до матового блеска начищенные и отполированные ногти. А мысли… мысли Ивася были далеко отсюда… В мыслях он безмятежно и вольготно полулежал в своей комнате. Тепло. Тихо. Уютно. Ласковая, мягкая пижама. Удобное глубокое кресло. Чашечка дымящегося паром черного крепкого кофе. И… стопка исписанных страничек – рукопись романа о… Бог знает о чем. И может быть, не романа. Главное – свобода… полная независимость… любимый труд… творчество…
Из этого блаженного омута его вырвал громкий голос Бакутина. Тот стоял посреди ничтожно малого пятачка и, размахивая сжатым кулаком, поминутно отбрасывая сердито пряди со лба, говорил:
– Стоп. Стоп-стоп! Кончайте панихиду! Мы что, на поминках по нерожденному нефтепроводу? Обалдели? Я – не министр трубостроительства, даже не начальник вашего главка. Я – заказчик. Слышите? Заказчик! Мое дело денежки вовремя выплатить да проследить, чтоб качественно и в срок. А вы с мольбами, с просьбами. – И, разом вытравив из голоса иронические нотки, жестко, непререкаемо властно: – До ростепели Карактеевское болото надо пройти! Слышите? Иначе нефтепровода не будет. На хрена тогда сверлить нам скважины, обустраивать промыслы, рвать жилы и нервы, если некуда деть добытую нефть. Вбейте это себе в головы, – постучал кулаком себе по лбу. Ивасю показалось даже, что он услышал гулкие тяжелые удары. – Нет труб? Телеграфируйте в свой главк, в обком, посылайте толкачей, летите сами хоть к… но трубы должны быть. Помните, как мы готовили Турмаган к пробной эксплуатации? Ты же был тогда, Камчук. И ты, Солопов. И ты, Василь Сергеич. Чего вас учить? Надо! Понимаете? Надо. Не мне. Не вам. Стране. Стало быть, нефть эта… вот так, – изобразил затягивание петли на своей шее. Громко и длинно выдохнул. Чуть пообмяк голосом. – Завтра вылетаю в Туровск к Бокову. На бюро горкома стоит вопрос о нашем нефтепроводе. Что? Будем такими вот беспомощными и жалкими стоять перед бюро? Канючить? Вымаливать? Пускать слюни? Да… вы же мужики! Коммунисты! Командиры…








