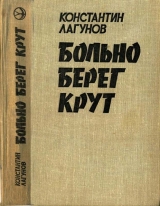
Текст книги "Больно берег крут"
Автор книги: Константин Лагунов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Крякнув умиротворенно, скинул дубленку, хлопнул себя по круглому мягкому колену.
– Ах, хорошо. Шибко хорошо! Рассказывай, как живешь. Чем подмогнуть надо.
Ничего обидного не сказал Гизятуллов, ни тоном, ни взглядом не зацепил, а в душе мастера ворохнулась вдруг неприязнь. С трудом подминая ее, Фомин как можно спокойней проговорил:
– Маета, не жизнь. Вторую неделю в ледяной скорлупе корчимся. Железо и то не терпит…
– Молодцы! Железо не терпит, люди дюжат. План тянут, да еще с заначкой, – маслено блестящие румяные щеки Гизятуллова взбугрились от довольной улыбки. – Почти на неделю раньше графика кончить скважину в такой холод, это…
– А-а! – покривился Фомин. – Завтра кончаем скважину и что? По такому морозу пока буровую на новую точку передвинут… – махнул сокрушенно. – Вся экономия псу под хвост… – И неожиданно горячо и взволнованно: – Был бы куст. Да буровую на рельсы. Дернул чуток, опять бури. Шестнадцать скважин, не сходя с места. А? Тогда стоит за минуты драться, беречь, выкраивать… А тут… – и опять безнадежно отмахнулся.
– Хороший ты мастер, Фомин. И умный. Не я первый говорю. На все сто, – с исповедально-жгучей откровенностью заговорил вдруг Гизятуллов, насторожив и встревожив собеседника. – Ни трезвости, ни мудрости, ни опыта – не надо занимать. Все есть…
– Спасибо, – трудно выговорил Фомин потому, что не мог больше молчать: нежданная похвала больно ущемила душу, вспомнилась дважды упорхнувшая Золотая Звезда, и едкая обида подкатила ежом к горлу, и, чтобы не задохнуться, как-то разрядить обиду, повторил: – Спасибо… на добром слове.
Никак не отреагировав на это «спасибо», даже не глянув на мастера, Гизятуллов продолжал прежним тоном:
– Всем взял, да не все взял. Так ведь? Молчишь? Сказать нечего? Я за тебя скажу. Знаешь, на чем ты спотыкаешься?..
Резко поворотился, и они оказались лицом к лицу, глаза в глаза. «Поучать вздумал, пророк? – проступило во взгляде Фомина. – Кабы самому сопли не подтерли». – «Жидковато замешен». – «Будь ты всемеро выше, все равно сдачи дам». – «Не пашут, не сеют. Пеняй на себя», – пригрозил взгляд Гизятуллова и отступил, отошел в сторону, и, уже глядя куда-то поверх головы мастера, Гизятуллов договорил:
– Выдержки тебе, Вавилыч, не хватает. Нетерпелив шибко. Своенравен. Кавалерией бы тебе в девятнадцатом. Чтоб на скаку и сплеча. Сейчас кавалерия – в кино. В жизни – машина. ЭВМ, компьютеры, роботы. Голова не поспевает. Рассчитай, прицелься, потом – пали…
– Ошибся ты, Рафкат Шакирьяныч, – с подспудным, но приметным намеком, плохо прикрытым наружным сочувствием, заговорил Фомин и сразу зацепил Гизятуллова, круглое лицо налилось краснотой, повлажнело от поту. – И я за прицел. И за расчет. Не на том расходимся. Целим в разное – вот на чем. В разные стороны гребем, в одну сторону плывем – оттого ни с места. – Передохнул. Отбросил задиристость и по-деловому: – Ни металл, ни машины, ни станки к здешним условиям непригодны. Не с холоду рушатся, так в болоте тонут. А мы – бури. И ни гугу. Отчего бы это? А оттого, что на этих самых трудностях легко и удобно скидочки вымаливать, надбавочки накручивать, мостить дорожку к бронзовому бюсту. И пуще всего боимся, как бы трудностей-то этих не поубавилось: на чем тогда героизму держаться…
Чуял Гизятуллов в мастере и непокорность, и настырность, наслышан был о его прежней судьбе, но такого наскока не ожидал. И все-таки не смутился, не расстроился начальник управления услышанным, напротив, обрадовался: некстати, без нужды раскрылся мастер до самого донышка. «Однако философ. По лицу и осанке – работяга, а куда целит! Мог бы врезать с подветренной и неожиданно. Давай-давай…»
Жарче разгорелась улыбка на гизятулловском лице, расплылась так, что уши зацепила. Только спрятанные в прищуре глаза не улыбались, короткими вспышками посверкивала в них ярость. Приметив это, Фомин осекся: «Чего это я? Зачем? Ишь, как закипел Шакирьяныч. По больному угодил… А-а! Пусть знает. Не только дыры сверлить умеем…» Гизятуллов смахнул испарину со лба, длинно выдохнул: «Фу-у-ух!» – и совсем спрятал глаза за почти сомкнувшимися длинными ресницами. Улыбка сползла с лица, оно стало хитровато-несмешливым: «Дам-ка я тебе по носу для начала, чтоб не шибко задирался».
– Перелицовывать тебя, Вавилыч, поздновато. Распороть можно, а сшить… Но как старший по должности хочу дать тебе добрый совет. Знаешь какой?
– Не мастак чужие мысли угадывать.
– Зачем угадывать? Что думаю – скажу. Откровенность за откровенность. – Короткой паузой отсек вступление и деловито, глубокомысленно: – Все мы разные. Иной и собой не владеет, другой государством правит, третий – миром ворочает. Отчего так? Везет – не везет? Нет. Всякому – свой предел и потолок. Твой круг – вот этот бугорок, где стоит буровая. Будь ты какого хочешь таланта и ума, все равно за черту круга можешь только засматривать. Думать и решать станут те, чей бугорок повыше, а круг пошире. Но и у них – свой предел, своя грань, за нее им тоже лучше и не засматривать…
– Дудки! – резко, зло и азартно выкрикнул Фомин, слегка пристукнув по столу. – Шиш с маслом! Эту старорежимную байку держи в сейфе. Царю – царево, богу – богово, а мужику – сей да паши, да голову чеши, как бы одной сошкой прокормить семерых с ложкой. Коли так пойдем, и до вашего благородия дойдем. Твой круг. Мой круг. Ишь ты! А Советская власть – это чей круг? А революция?
– Ха-ха-ха!..
Раскатисто и громко, с неприкрытым, подчеркнутым превосходством и издевкой захохотал Гизятуллов. Видел, как передернулся, побагровел мастер, и оттого засмеялся еще громче и язвительней, прямо зашелся, и заливался до тех пор, пока не задохнулся. Смахнул с переносицы очки, стер пот и слезы со щек.
– Уморил, Вавилыч. Честное слово. Не зря тебя пионеры приглашают. Пламенный трибун… Не злись. Без подковырки говорю. Завидую, если хочешь. А нервы береги. – И снова короткой паузой перебил свой монолог: – Слева – вздох души, справа – голос разума. – Революция, конечно, дело всенародное. Она не кончилась. И Советская власть – наша, общая. Кто спорит? Только в политику ты зря полез: речь шла о производстве… И я – коммунист. Был помбуром, и бурильщиком, и мастером. Так что корешок у нас один – пролетарский…
Оскорбленный Фомин молчал.
– Новое и старое, худое и доброе – на одном корне растут. Ни на слух, ни на нюх не отличить порой. Только на зуб. Крепкие надо зубы…
И опять Фомин отмолчался.
– Береги здоровье, Вавилыч: не наживешь, не купишь, остальное – приложится. Спасибо за чай…
Фомин молчал. Молча пожал руку начальнику. Молча проводил его до машины…
Вспомнив теперь эту встречу на промороженной буровой, Фомин расстроился. «Черт возьми. Куда-нибудь да вляпаюсь». Вгляделся в Гизятуллова, не приметил ничего недоброго. «Чего же тянет с семивахтовкой? Ждет, чтоб поклонились? Не дождется. Напишу Бокову, поглядим тогда, чей круг шире».
Тут вошел в кабинет Шорин.
– Вот хорошо. Как всегда – вовремя и к месту, – обрадовался Гизятуллов.
– Что случилось? – спросил Шорин.
И по тому, как он спросил, как вошел, как ему обрадовался Гизятуллов, Фомин понял: появление здесь Шорина не случайно, его-то и ждал Гизятуллов, затягивая разговор.
– Садись, Зот Кириллыч. Принес должок?
– У меня их навалом. Какой ждешь? – откликнулся Шорин не то снисходительно, не то покровительственно, не то недовольно. Видно было, став Героем, он еще не выработал желаемого тона.
Гизятуллов понимающе хмыкнул и прежним, солнечным голосом:
– Обещал слово свое сказать о семивахтовке.
«Чего это он? – забеспокоился Фомин. – Не руками ли Шорина хочет мне путь перекрыть? Или лбами нас, мастера с мастером…»
Узкое, сухощавое, небольшое лицо Шорина застыло в напряженной гримасе, глаза отлепились от собеседника, нацелясь в белесую муть за окном. «Мыслитель, – насмешливо подумал о нем Гизятуллов. – Сгребет – не выпустит, пока не освежует. – В узенькую щелочку прищуренных глаз искоса глянул на застывшего Шорина, перевел взгляд на чуточку смущенного и встревоженного Фомина. – Вот тебе и „чей круг?“. И сила, и сметка, и ум… а будешь в пристяжке…»
«Чего-то темнят, – все больше тревожился Фомин. – В прятки играют…» Стало муторно на душе, заплескался в груди колючий холодок неприязни, остудил взгляд, побелил щеки, отяжелил кулаки.
«Хитер башкирин, алеха-бляха, – размышлял Шорин. – Опять моими кулаками отбиться хочет. Спарила судьба. Подотрем сопли первооткрывателю…» И, поворотясь лицом к Гизятуллову, Шорин нарочито замедленно, с напускной раздумчивостью сказал:
– Семивахтовка – штука добрая, алеха-бляха! Есть, конечно, зазоринки в ей. Так не обхватана, не обкатана…
– Вот и обкатывайте, – вставил Гизятуллов и встал. – Две лучших буровых бригады. Отчего не потягаться. Фомин свои сто тысяч заявил, теперь ты заявляй свой потолок.
Как видно, Шорин ждал подобного предложения, да и весь этот разговор был ему не в диковинку, потому, нимало не раздумывая, Зот Кириллович торжественно и громко сказал:
– Сто пять тыщ, алеха-бляха!
– По рукам, мастера? – приподнято и молодцевато вопросил Гизятуллов.
– По рукам, – ответил Фомин. – Сто семь тысяч наша ставка.
– Сто десять, – встряхивая руку Фомина, возгласил Шорин.
– Решено. На ста десяти и остановимся.
Тут словно из-под полу вынырнули парторг и профсоюзный лидер управления, за ними еще какие-то люди. Сверкая очками, красногубой улыбкой, влажными от пота пухлыми раскрасневшимися щеками, Гизятуллов громко и торжественно возвестил о начале соревнования двух стотысячников. И вот уже на столе текст обязательств обеих бригад. Пока Шорин и Фомин подписывали, бог весть откуда свалившийся фотограф успел дважды щелкнуть аппаратом, запечатлев для потомства исторический миг.
Наутро эта фотография красовалась на первой полосе «Турмаганского рабочего». Потом ее напечатала областная газета. И зазвенела на всю страну молва о доселе немыслимом, невероятном соревновании турмаганских буровиков за 110 000 метров проходки на одну буровую бригаду в год.
А у Фомина круто и надолго подскочило кровяное давление. Какая-то неосознанная, неизъяснимая тревога прилепилась к нему и царапала, покусывала, пощипывала – неотвязно и больно. Что-то произошло недоброе, нехорошее, но что? – Фомин не мог ответить и всеми силами отгонял тревогу, глушил ее работой, успокаивал, убеждал себя, что все по уму, все как следует. «Я – запел, Зот – подхватил. На пару спористей и веселей. Теперь обойти новоиспеченного Героя, чтоб не шибко нос задирал». Фомин почти не сомневался в том, что обойдет, обставит соперника в этом состязании. На карту было поставлено все: доброе имя, честь, верность жизненных позиций. Не метры нужны были Фомину теперь, не премии, даже не Золотая Звезда, а победа. Только победа могла доказать всем и вся правоту, праведность и обязательность жизненной линии Фомина. Вот какую непомерно, недопустимо высокую нравственную ставку кинул старый мастер на кон. Понимал, что перебрал, но отступать не стал и оттого еще больше переживал за исход поединка и, не щадя себя, ставил на ноги новое дело: комплектовал дополнительные вахты, следил за отсыпкой второго куста, проверял монтаж второй буровой.
Только Даниле Жоху и то вскользь поведал однажды мастер свои сомнения.
– Химичит Гизятуллов – это точно, – сказал, поразмыслив, Данила Жох. – Шорин у него теперь за палочку-выручалочку… Может, мне воротиться в твою бригаду, на старое место?
– И не думай, – сразу отказался Фомин от зятевой поддержки. – Я еще в нестроевые не записался. Поживем – поглядим. Когда так-то вот, с препятствиями, да встречь ветру, победа-то куда лакомей…
3
Есть неизбывная прелесть, и блаженное отдохновенье, и подлинное очарование в неожиданных, потому особенно желанных дружеских встречах. Столкнутся давние друзья где-нибудь на улице, в магазине, в автобусе, пожмут руки, перекинутся несколькими фразами, а потом один скажет: «Айда ко мне. Дома – никого. Посидим. Потолкуем. В кои-то веки…» – «Идет», – без раздумий соглашается другой. Не сговариваясь, они заходят в магазин, покупают бутылку, наскоро накрывают на стол в кухне, подсаживаются рядышком, разливают по стопкам огненную влагу. «Бывай», – скажет один, поднимая свою посудину. «Со свиданьицем», – ответит друг. Чокнутся, выпьют. И такой желанной, умиротворяющей и жаркой покажется эта рюмка русской горькой, таким вкусным будет черствый хлеб с квашеной капустой, холодной отварной картошкой, с завалящей луковицей, и даже просто так, без всякой приправы, посыпанной солью… Еще по одной выпьют друзья и задымят сигаретами.
Порозовеют лица, обмякнут взгляды и голоса. И затеплится меж ними исповедально-откровенный разговор – из души в душу, из сердца в сердце, – без недомолвок и иносказаний, прямой и острый как кинжал. Что наболело, что накипело, что тревожило – все выложат друг перед другом, в четыре руки ощупают, в четыре глаза оглядят, на зуб и на вкус попробуют, а потом вынесут окончательный, не подлежащий обжалованию приговор. То ли горький, то ли сладкий, но непременно справедливый.
И снова выпьют, и опять закурят. Включат плитку под чайником, нашарят что-нибудь съедобное, и все это само собой, никак не мешая разговору. Сперва обсудят самое неотложное и важное, потом обговорят, что полегче, понезначительней, а после начнут припоминать, что было когда-то с ними, посыпят шутками. И тут один скажет: «Давай-ка нашу». – «Давай», – выдохнет другой. Подопрет щеку ладонью, прикроет глаза да и запоет. Как запоет! Из самой потаенной душевной глуби вывернет песню. Тут же другой прилепит к ней свой голос, и поведут они песню вдвоем, как ведут любимую – бережно и нежно. Протяжная, грустная, тревожная русская песня околдует, спеленает разум, распушит чувства, распахнет душу…
Так именно сошлись в этот день Бакутин с Фоминым. Забрели к мастеру. Хозяин выставил на стол тарелку с солеными груздями, положил рядом несколько вяленых чебачков, нарезал хлеба и… пошла душа в рай…
– Как хоть ты? – спросил Фомин, вертя в руке пустой стаканчик.
– Нурия родила дочь… – ответил Бакутин.
– Поздравляю.
– Спасибо.
– Что теперь?
– Кабы знал…
– Где она?
– Рядом. – Бакутин громко вздохнул, прижег сигарету. – Что ни день – ближе…
– Ася…
– Казню себя за малодушие. Надо бы сразу все канаты…
– Сгорел бы без следа. И дыму не было.
– Лучше разом пыхнуть, чем на медленном огне корчиться.
– Так, конечно, – согласился Фомин. – Тут бы тебя Румарчук под корень. И этот, сумасшедший Сабитов, мог такое наворочать…
– Все бы нам на соломку падать. Без подстраховок и гарантий пос… не сходим.
– А ведь и лбом о стенку – ни себе, ни людям… Опять за факела принялся?
– Последняя возможность. – Бакутин разлил водку по стаканчикам. Подержал свой в руке, будто взвешивая. – Боков говорил, в проект директив новой пятилетки включили и ГРЭС на попутном, и проектные работы по химкомплексу, и первый газоперерабатывающий завод…
– Вишь как! – обрадовался Фомин. – И один в поле воин, если он – воин.
– Поживем – увидим… если доживем. Пока эти проекты обратятся в планы, а те с бумаг перекочуют на стройплощадки – ого! Тогда мы сожженный на ветру газ и в десяток миллиардов кубов не уложим. И может все такой дорогой ценой сделанное оказаться мизерным. «Дорого яичко к Христову дню».
– Не пойму, с чего мы такие? Одной рукой тянем, другой не пускаем. Осенью в Москву на всесоюзный слет нефтяников летели с Румарчуком. Рядышком. Подбросил ему вопросик насчет попутного газа…
– Ну?
– Говорит, много шуму из ничего. В других-де отраслях похлеще издержки и убытки. Даже цифры стал называть…
– Ну? – нетерпеливо подстегнул опять Бакутин.
– Румарчук, конечно, не единая спица в этой колеснице. Ныне многие не хотят дополнительными заботами век укорачивать. Вот в чем корешок-то. Нам его не выдернуть.
– А тащить надо, – заключил после небольшой паузы Фомин. – Надо!..
Глава тринадцатая
1
Неожиданно с юга повеяло теплом, и сразу воздух отмяк, побелел и начался снегопад, да не обычный – колючий и хлесткий, с ветерком, а – ленивый, мягкий, по-декоративному яркий и красивый, неправдоподобно красивый. Будто неземные, неведомые белые бабочки, медленно и невесомо парили пухлые узорные снежинки, садились на оконные стекла и заборы, густо липли к ветвям деревьев и проводам, и, осыпанный снегом, город стал необыкновенно белым, непорочным и чистым, предметы расплылись, утратив обычную жесткость и четкость граней, а вместе с тем весомость и громоздкость.
Такой ласковый, обильный и теплый снегопад таил в себе необъяснимую притягательную силу, манил, и завлекал, и удерживал человека в белых колдовских тенетах, суля страдающему – облегчение, одинокому – встречу, бездомному – приют. Счастливых, здоровых и сильных притягивали в снегопаде хаос и беспривязность страстей. Стерты границы, смещено время, перепутаны дороги и тропы. Не манит под крышу, не тянет к огню, хочется пробираться сквозь белый морок, топтать и мять податливую безголосую россыпь. А еще в такую бредовую заметь хочется всем – и слабым, и сильным – ждущих глаз, зовущих губ, доверчивой руки. И верится, что где-то совсем рядом тебя ждут, ищут… и найдут…
Очарованные люди слепо и бесцельно брели и брели сквозь бесконечную белую завесу, шало улыбались, ликуя взглядами, либо молча и сладко грустили. И многим из них тогда казалось далекое – близким, недосягаемое – доступным, несбыточное – возможным.
Неожиданно накрытый белой частой мережой снегопада, Бакутин сразу забыл, зачем и куда шел, закружил, запетлял по улочкам, повинуясь бог знает какой силе, которая вертела и двигала им и вела, вела к еще неясной, но определенной цели. Нет, не бессмысленно крутила его неведомая сила. Сперва он лишь почуял это, потом осознал. Осознал и поверил. Неколебимо поверил в непременную встречу с Нурией. Вот здесь. Сейчас. В податливой, но неразрывной белой паутине. Предчувствие это обрушилось на Бакутина вместе с белым потоком, облепило, опутало, покорило. Разум не воспротивился стихийно зародившемуся предчувствию, а освятил его, укрепил, превратя в убеждение. Нурия была где-то здесь, близко, тоже искала, спешила. Вот-вот, еще шаг, еще поворот, и они столкнутся и… Что будет тогда? – Бакутин не знал. Не задумывался. Не загадывал. Все равно. Только бы сойтись, взяться за руки, укрыться в сумасшедшем прелестном вихре.
Тот день, когда появилась его статья в «Правде», стал для Бакутина днем воскресения, второго рождения или… В названье ли дело?
Воистину «дорого яичко к Христову дню». Все изложенное в статье Бакутин высказывал не однажды, но только теперь, когда народ верстал проект новой пятилетки, «прожекты турмаганского выскочки» не только обрели притягательную силу, но и стали неотразимыми. Первым всенародно признал это Румарчук. С трибуны Пленума ЦК Боков поддержал бакутинские предложения. По поручению Центрального Комитета планирующие органы приступили к изыскательским работам и составлению проектов газоперерабатывающего завода, химкомплекса и ГРЭС на попутном газе. Бакутинские друзья-единомышленники ликовали. Даже Лисицын, выдвинув из глазниц жерла зрачков и вскинув привычно оттопыренный указательный палец правой руки, высказался необычно горячо: «Рад за тебя, Константиныч. Теперь ты опять… Теперь тебя… Рад!» Черт знает, был ли он на самом деле рад, – Бакутин не подумал, звонко припечатал свою ладонь к протянутой лисицынской ладони, тряхнул руку главного инженера так, что у того голова качнулась и что-то, не то насмешка, не то изумление, сверкнуло в глазах, но те тут же откатились в недосягаемую глубь бойниц. Бакутин сделал вид, что не приметил этого взблеска: он был великодушен, как все победители. Недавняя горечь, боль, обида – все разом перегорело в прах. Он снова был крылат, опять – в атаке. Пусть с опозданием, очень дорогим опозданием, но все-таки его идея проросла. Треснула гранитная скорлупа отчужденности и недоброжелательства, и пускай не сегодня, не завтра, даже не через год, но все-таки погаснут газовые факела Турмагана… Теперь-то уж наверняка погаснут… И Бакутин делал все от него зависящее, чтоб это случилось как можно скорей, иначе наметившийся перелом не состоится и никакого крутого, решительного и резкого, никакого революционного поворота – не будет!.. А время мчало на предельных скоростях, отодвигало, сглаживало, тупило, и вот уже окружающие, будто сговорясь, все реже вспоминали о попутном газе, зато подсовывали и подсовывали неотложные дела, самое малое из которых хоть на время, но непременно отвлекало от борьбы за главное. Бакутин негодовал на мелочность и суетность бытия, насиловал воображение и фантазию, изобретая нечто такое, что работало бы на эту идею, поддерживало, подымало, крепило проклюнувшийся росток. Но что он мог сделать? Как повлиять на Госплан, министерства, НИИ, которые только и могли превратить идею в схемы, проекты, планы, сметы? Бессилие раздражало, бесило, и нет-нет да вдруг наплывало снова противное, с таким трудом преодоленное чувство отчужденности собственного «я» от всего связанного с этими треклятыми, негасимыми, неумолимыми факелами. Все чаще, все сильнее становились забытые было приступы унылого безразличия, а порой и отчаянья, и первопричиной этих приступов было не только временное, похожее на отступление затишье в «газовой баталии», но и все туже, все болезненней стягивающийся узелок, захлестнувший его, Нурию, Асю, а вместе с ними Тимура, маленькую Надю и… Надо было рубить проклятый узел. Немедленно. Но по кому сечь? Да и как бы ни рубанул – все равно секанет по себе и… вон из седла. И все прахом. И своим же каблуком на только что проклюнувшийся зеленый росток… С того и борзел, метался затравленным волком. А время неслось, туже и жестче затягивая узел-петлю… День ото дня острей и болезненней становилось неослабевающее нервное перенапряжение. Жизнь ухватила за шиворот и волокла наперекор желанию и воле. Он трепыхался, дергался, скулил, а она встряхивала, тискала и тыкала, тыкала мордой в собственное… Иногда хотелось сделать что-то до безобразного нелепое и дикое, лишь бы приостановить, попридержать, затормозить бег времени, передохнуть, оглядеться, увидеть берега, а главное – разрубить наконец незримый узел. Но, едва сосредоточив мысль на этом, Бакутин тут же убеждался, что никакая выходка не остановит время. Тогда с новой силой накатывало отчаяние обреченного: хоть башкой о стену, лишь бы конец… И когда вплотную приблизился к роковой черте, полыхнула вдруг зарница надежды: правительство приняло решение о строительстве ГРЭС на попутном газе. Сразу вспыхнула жестокая перепалка: где строить?.. в какие сроки?.. какой мощности?.. Бакутин с ходу врубился в сечу, лез на рожон, задирался, рисковал. Добились: ГРЭС – в Турмагане, три очереди, два миллиона киловатт, построить к концу пятилетки. Перевел было дух – начались изыскательские работы по сооружению химкомплекса для переработки попутного газа. И снова потасовка: где?.. кто строит?.. сроки?.. А тут Внешторг завел вдруг переговоры с Англией о закупке первой газлифтной установки для закачки попутного газа в пласт, и опять… почему одну установку?.. Не лучше ли на это золото купить оборудование для газоперерабатывающего завода, немедленно начав строительство?.. Столкнулись разные мнения: авторитетные, выверенные чужим опытом и расчетами подкрепленные… Бакутин писал, выступал, перепроверял расчеты, рассылал телеграммы. Он доказывал, убеждал, просил, требовал. На все это уходила уйма сил. Достигнутые результаты сразу становились мизерными в сравнении с тем, что предстояло еще достичь. И снова перенапряжение ума, размашистый труд и нескончаемый поединок. А на горле проклятая удавка. Двоилась, дробилась, крошилась жизнь. Кружилась сумасшедшей юлой. Вжиг… Вжиг… Вжиг…
Авария в котельной…
По швам размороженные трубы.
Взрывались батареи парового отопления.
Выходили из строя дома.
Паника выгнала на улицы женщин с малышами на руках. Минуты решали судьбу нефтяного Турмагана.
Выстояли.
Одолели.
Отдышались и…
Лопнул магистральный нефтепровод Турмаган – Омск. Диспетчер зевнул, поздно обнаружили место порыва.
Снова аврал.
Режимы, допуски, графики – к черту!
Три дня простоя – тысячи тонн недоданной нефти.
Наверстывай. Насилуй задыхающийся, изнемогающий товарный парк…
Центральный товарный парк волочился прилипшей к борту миной. Маломощный, недостроенный, плохо оснащенный, он еле поспевал обезводить, обессолить и перекачать добываемую нефть. С каждым днем ее становилось все больше, а мощности парка не менялись. Оттого загазованность на его территории всегда превышала норму. Надо было давно реконструировать недостроенный парк: удвоить количество сепараторов, увеличить мощность концевой трапной установки, оснастить современным оборудованием, новейшей противопожарной техникой… Дважды уже долетал оттуда тревожный сигнал бедствия. Чего еще ждать? Сколько ждать? Зачем? Не раз Бакутин грозил остановить промысел, если срочно не достроят парк. Клялся, что и тонны прибавки не даст, пока не оснастят, не оборудуют… Поначалу сравнение покоробило Бакутина, но, поразмыслив, он принял его: и верно, спрут – ненасытный и хищный, затаившийся в недоступной взгляду земной глубине. Здоровье, покой и аппетит этого железного чудовища оберегают несколько десятков операторов. Что значит пятьдесят – шестьдесят человек на полторы тысячи квадратных километров промысла? Мелькнет – и нет… Неприметное, неброское, нешумное бакутинское хозяйство, но все, кто вокруг него, десятки тысяч рабочих, инженеров, ученых, тысячи управляемых ими машин – все работают на промысел, на Бакутина, на потребу подземного спрута, на тот самый, еще недавно недосягаемый, а ныне несомненный и неоспоримый, рубеж нефтедобычи. Чтобы подняться на эту девятизначную высоту, надо было «кинуть трубу» на запад, скажем, в Альметьевск, и еще одну на восток, вдвое расширить и переоснастить товарный парк, автоматизировать управление промыслом и сделать еще многое, причем сделать немедленно, безотлагательно, продравшись сквозь лабиринт ведомственных, планово-проектных, организационных и иных преград. Тут уж не до «любит – не любит». «Лег – встал, лег – встал, лег – встал – новый год. Лег – встал, лег – встал, лег – встал – новый год», – выразил однажды Лисицын суть их жизни. Верно выразил. Вот эти две силы – промысел и начавшееся наступление на факела – и двигали Бакутина, вертели и крутили им, и от этого бешеного вращения слегка слабела петля треугольника: Нурия – Бакутин – Ася. В круговороте неотложных дел глохли душевная боль и тоска, отступали в потаенные, малодоступные уголки души и рассудка и там зрели, выжидая подходящий момент для того, чтобы заявить о себе – требовательно и властно. Бакутин носил в себе эту до поры затаившуюся боль, как носят в сердце прижившийся осколок, который обычно напоминает о себе лишь в непогоду да при нервных и физических перегрузках.
Иногда среди ночи будто от толчка или окрика Бакутин просыпался с совершенно ясным сознанием и глухой тоской на сердце. До недавнего времени Бакутин полагал, что тоска – придумка романистов. Теперь он так не думал. «Все – суета. Никчемная. Пустая. Сгорают силы. Уходят годы. Слабеют желания. Еще чуть-чуть и… „жизнь моя, иль ты приснилась мне?..“. Пусть. Какая разница: пятьдесят, шестьдесят, семьдесят? Был и нет. И не будет…» Срастались челюсти в чугунной неподвижности. В гипсовую маску превращалось лицо. Ничего не видели глаза. Не слышали уши. И если бы в этот миг вонзить в тело иглу, он не почувствовал бы боли. Мертвым каменным обрубком становился Бакутин, и жизнь вытекала из него, как жидкость из треснувшего сосуда. «Что это я? – вяло и отрешенно думал Бакутин. – Раскис? Надо собраться с силами. Встряхнуться… Ах, да зачем?..» Лежал с открытыми глазами, растворяясь в темноте, слившись с ней. Так продолжалось до тех пор, пока не подкрадывались мысли о Нурие. Бакутин не анализировал своих отношений с Нурией, не исследовал собственных чувств, не копался в душе, не вопрошал, а с болезненным упоением оживлял в памяти детали той новогодней ночи. Упоенно и самозабвенно дополнял картины пережитого все новыми и новыми деталями. Он засыпал спокойным, легким сном и чуть свет срывался с мыслью непременно отыскать след того вертолетчика и по нему найти Нурию. Но едва переступал порог конторы, как на него волчьей стаей кидались заботы, наваливались дела, отвлекали, подминали, скручивали, и снова – вжиг… вжиг… вжиг – крутилась сумасшедшая юла…
…Снег валил и валил, все крупней становились хлопья, все гуще сыпались. Метался в их окружении Бакутин: то голос слышал, то видел тень. Столкнулся с девушкой.
– Ой! Простите!
Бережно поддержал незнакомку, уступил дорогу, и девушка растворилась в белом мареве.
– Дурак! – обругал он себя.
И впрямь – дурак.
Приросли ноги к пушистой накипи, и вот уже Бакутин превратился в снеговика с человеческими глазами. Унылая пустота разом угнездилась в теле, обескровила, остудила его, заморозила разум, и то, что миг назад волновало и тревожило, вдруг отдалилось и сгинуло. Стоять бы так вот и стоять невидимым, зыбкой снеговой завесой отгороженным от мира и мирских забот. Там, за колышущимся белым балдахином, разноголосо громыхала жизнь, звенели трубы, хлюпали насосы, постреливали огненными очередями сварочные аппараты, рычали, выли, лязгали тягачи и автомашины. Там гремели баталии, полыхали споры, набухали и лопались конфликты. Где-то там был Румарчук. Готовился к потасовке Гизятуллов. Зорко поглядывал из бойниц непробиваемый Лисицын. Подпирал и поддерживал Черкасов. Подставлял плечо Фомин… Там была жизнь – неумолимая и прекрасная, не верящая ни слезам, ни словам. Там были Ася с Тимуром и Нурия с Надей и сыном. Жестокий, мертвый узел! С какой стороны ни секани, по кому ни цель, угодишь в себя. Только приоткройся, сразу полезут в душу: «Бросил семью… Прижил ребенка… Морально разложился… Оттого и на производстве комом да юзом…», «Отбил у прекрасного мастера жену, развалил рабочую семью, потешился, прижил ребенка и бросил… До работы ли ему?..» Хоть с левой, хоть с правой – все равно неправый. И всякий может и смеет хлестнуть, карябнуть по больному, а ты – молчи, стой и не мурзись, соглашайся, кланяйся, засматривай в глаза, и… все равно вышибут. Второй раз Румарчук не промахнется. И Черкасову не защитить. И Боков отвернулся. «Черт с ними! Уйду. По собственному. Уеду…»
Эта дикая мысль ошарашила. Бакутин оглушенно потряс головой, смахнул снег с лица.
– Обалдел.
Только-только затеплилась надежда, тронулся лед, надо все силы… а он: «Любит – не любит…» Куда как лихо! И Турмаган, и промысел, и управление – побоку. Милую в охапку и в кусты, «любить и быть любимым». Да за такое – мордой о стенку. Что скажут те ремонтники, и министерский гость, и Фомин с Черкасовым, и… все, кто верил ему…








