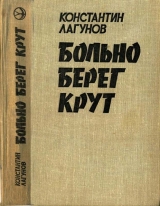
Текст книги "Больно берег крут"
Автор книги: Константин Лагунов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
– Остап Крамор.
– Ну и что?
– Позволите ли закурить? – словно не замечая насмешки, с прежним достоинством спросил Крамор.
– На здоровье.
– Тогда одолжите папироску.
– Какую марку куришь?
– Подарочные.
– Пойдем в дом.
Только до веранды дошел Крамор и там подождал, пока Бакутин вынес папиросы.
– Соблаговолите сразу две, одну в резерв.
– Забирай все.
– Покорно благодарю.
Закурили. Крамор хватал папиросный дым торопливыми жадными затяжками и, блаженно расслабясь, молчал.
– Кто таков? Зачем пожаловал? – грубовато, но миролюбиво осведомился Бакутин.
– Видите ли, сколь ни прискорбно сие признание, но… Формально говоря, я – бич… бывший интеллигентный человек. Такова скорлупа, так сказать…
– А ядро? – нетерпеливо перебил Бакутин.
– Художник-профессионал. Гражданин СССР. Паспорт и трудовая книжка, и даже свидетельство о браке – все в ажуре…
– С биографией ясно. Зачем сюда?
– Каждый человек – океан. Стихия. Архипелаги. Островки. Подводные течения… Неуправляемые – вот суть. Когда накатит и откуда – бог весть. Ждешь штиль, реванет ураганище. Ураган в себе – страшней любого вселенского катаклизма. Даже от всемирного потопа кому-то удалось спастись, а от себя никто не ушел. Человек всю жизнь бежит по замкнутой. К исходной. К изначальной. То есть к нулю. От нуля к нулю. И чем дальше от него, тем ближе к нему. И чем быстрее от него, тем опять же быстрее к нему. Так и все человечество. По замкнутому. Об этом в Библии так сказано: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем…»
– Понятно. Библейский проповедник нам ни к чему, а художник – нужен. Шагай в отдел кадров, я сейчас позвоню. Найдешь Рогова, моего заместителя по быту, устроит с жильем. А это – возвратная ссуда до первой получки.
Вынул из кармана двадцатипятирублевую бумажку, протянул Крамору. Тот деньги взял степенно и в карман их положил неторопливо, и лишь после этого растроганно бормотнул: «Благодарю покорно… Благодарю», а его темные, глубоко посаженные глаза влажно блеснули.
– Давно не обедал? – спросил Бакутин.
– Вы хотите спросить, давно ли не ел… – кадык его дрогнул.
– В животе пусто – в голове негусто. Пойдем, пожуем. Не смущайся: дома – никого.
– Чертовски хочется отказаться. Знай наших. А брюхо вцепилось в глотку и не дает пикнуть. Позвольте, я пообчищусь немножко, стряхну дорожную пыль.
– Валяй, – махнул рукой Бакутин и ушел в дом.
По тому, как Крамор держал ложку, как бесшумно глотал суп, как орудовал вилкой и ножом, Бакутин понял – гость сказал о себе правду.
– Чай будем на загладку или кофе? – спросил хозяин.
– Продлим волшебный сон – выпьем кофе.
Он пил маленькими глотками, смакуя напиток. Потом, спросив разрешения, закурил и лениво и долго сосал папиросу, нимало не смущаясь пристального изучающего бакутинского взгляда.
– Мама шутила, что я с кисточкой родился. Сколько помню себя – все рисую. И все не то. Открытки. Рекламные плакаты. Даже бутылочные этикетки… Ради денег. Жена – актриса. Красивая. Хищная! На мои рубли пригрела шлепогуба-желторотика. Это был первый пинок. Я стерпел. Смолчал. Честное слово. Из-за дочки. С завязанными глазами нарисую ее… Всю. В любой позе. От золотого завитка на макушке до мизинчика на ноге… Молчание – не всегда золото. Невыплеснутая обида перекипает в горечь, отравляет кровь. Тогда вокруг и в тебе – мрак. И ты – в петле. И она все туже. Туже. До предела. До немой черноты. Не вынес я, рванул чеку, и вот он – взрыв… Она мольберт, кисти, краски – под ноги и дверь передо мной настежь… Я – готов. Я – пожалуйста. Мне эта каторга давно нутро выела, но дочка? И тут жена прямо в сердце, навылет: «Не ты ее отец!» Слышите? Прямо и навылет… А с простреленным сердцем как?..
Ушел Крамор. Не бесследно ушел. Что-то унес с собой, что-то оставил. Оставил больше, чем унес. И, расплываясь, встало перед глазами Бакутина худощавое остроносое лицо с непомерно огромной, словно приклеенной бородой, и глуховатый, нестерпимо болезненный голос вновь спросил: «А с простреленным сердцем как?» И тут же, отраженное от стен, загрохотало последнее слово: «Как?! Как?! Как с простреленным сердцем?..»
Качнулись и пали стены. Глухая тайга кругом. Рассветный птичий перезвон. Тревожная и страстная трубная перекличка лося и лосихи.
Лось был велик и прекрасен живой, бунтующей, яростной красотой. Он только что выиграл поединок с соперником и летел к той, ради которой бился насмерть.
Зверь мчался прямо на них, запрокинув рога, раздув ноздри, выкатив переполненные яростью и страстью глаза. Грешно было стрелять в эту гордую, могучую, беззащитно открытую грудь. Гурий опустил ружье. Но напарник выстрелил. В упор. Из нарезного. Пулей. Лось только дрогнул, но не прервал, не замедлил бега. Торпедой влетел в узкий просвет меж двух сосен, сшиб с головы рога и бежал, бежал, бежал. Когда же обескровленное, обессиленное тело качнулось вдруг резко и тонкие ноги подломились, Бакутину показалось, что лось оторвался от замшелой земли и взмыл, раздвигая грудью верхушки сосен, забирая все круче, поднимаясь все выше… В застывших навеки глазах великана Бакутин разглядел не смертную тоску, а восторг полета… Пуля пробила ему сердце навылет, и с простреленным сердцем он пронесся еще добрых полторы сотни метров.
– И с простреленным сердцем можно… Слышишь, художник? И с простреленным можно…
Кулак врезался в столешницу так, что тарелки, чашки и блюдца подпрыгнули, кувырком скатился на пол стакан, прозрачные гнутые осколки его, мягко подскакивая, жалобно и тонко звенели…
Глава вторая
1
Как ни ждали, как ни торопили это открытие – оно совершилось неожиданно, камнем с неба пало на головы и тех, кто искал в Сибири нефть, и тех, кто должен был ее добывать. За десятилетие отчаянного лихого геологического поиска не было сделано ничего для освоения нащупанных в таежных болотах нефтяных месторождений. Те, кто планировал и кто обязан был эти планы выполнять, к остолбленному геологами сибирскому нефтяному исполину подходили как к медвежьей берлоге: и пустая не радовала, и с начинкой не веселила, не хотелось лишний раз рисковать да перенапрягаться. Оттого салютный клич «Есть сибирская нефть!» вместе с радостью посеял во многие сердца тревогу. Ее прятали за трезвым расчетом, разумной осторожностью и необходимостью предвидения. На растерянно замешкавшихся плановиков снизу давили местные партийные органы и нащупавшие нефть геологи, а сверху – директивные цифры нефтедобычи, невыполнимые без сибирской нефти. Тогда и сшибли пробку с кремневой подземной бутыли, в которой миллионы лет корчился нефтяной исполин.
Тогда и начался тот самый невиданно дерзкий, полуфантастический поединок с болотами, тайгой и стужей, который окрестили «чудом XX века» и о котором вскоре загомонил весь мир…
Но голова у всех одна, и всегда отрадней видеть снесенную голову соседа, нежели топор над своей. И кое-кто лишь тем только и занимался, что оберегал собственную голову. А в это время нефтяной младенец, хрипя и кряхтя от натуги, вылезал и вылезал из подземного плена…
Надо было немедленно, всеми силами готовить посадочную первому десанту нефтяников в Турмагане, но вместо этого туда выбросили сам десант. У недоношенного и хилого Турмаганского нефтепромыслового управления не было ничего для промышленной добычи нефти, зато в кармане начальника НПУ, коммуниста Бакутина, лежал всеми инстанциями утвержденный план, где кривая добычи ракетой устремилась ввысь и, начав с миллиона тонн в 1965-м, через десять лет должна была достигнуть фантастического рубежа – сто миллионов! А где было взять нужные для такого взлета рабочие руки? Куда поселить владельцев этих рук? На чем завезти миллионы тонн механизмов, металла, труб, бетона? – это и многое иное, такое же важное и безотлагательное, в том плане замалчивалось.
Ни крыши, ни воды, ни тепла, ни света, ни хлеба у бакутинского десанта не было. Лишь яростное, неодолимое желание во что бы то ни стало зацепиться на болотистом обском берегу, в том самом месте, где в великую сибирскую реку впадает крохотная таежная речонка с непонятным колдовским названием Турмаган. «Главное – зацепиться. Начать, дать живую нефть, а там…» – сказали на прощание Бакутину в министерстве, не договорив, что же будет «а там»… после того как удастся прилепиться к краешку вчерне оконтуренного, недоразведанного Турмаганского месторождения в две тысячи квадратных километров, тысяча девятьсот семьдесят из которых – воистину проклятые богом и людьми болота, болота, болота…
Главный город доселе безвестной, хоть и гигантской по размерам Туровской области, с населением по человеку на квадратный километр, вдруг превратился в центр самой большой и самой перспективной в стране нефтяной провинции. Почти каждый день рождались в Туровске проектные и научно-исследовательские институты, тресты, конторы, управления, объединения и даже главки. Сюда отовсюду спешили спецы всех званий и рангов. Со всех концов великого Советского государства шли нескончаемые потоки грузов. По швам трещали склады и пакгаузы, гостиницы стали похожи на эвакогоспитали, а пристань, вокзал и аэропорт – на эвакопункты сорок первого.
Областной Туровск шестьдесят пятого не имел ни одного современного, красивого, удобного здания. Только в центре, вокруг единственного обихоженного пятачка, выстроились хоть и старомодные, зато добротные здания обкома партии, облисполкома, геологоуправления и пединститута, а в любую сторону от этого пятачка сразу начинались допотопные улочки с неровными шеренгами разномастных домов, покосившихся, вросших в землю, лишь кое-где раздвинутых аляповатыми, неустойчивыми на вид крупнопанельными пятиэтажками. Убожество давно переживших свой век строений дополнялось хлипкими, танцующими под ногами дощатыми тротуарчиками и немощеными дорогами. Весной и осенью кривые, узкие улицы тонули в первобытной грязи, летом их окутывала едкая, горячая пыль, а зимой по окна заваливало снегом, который скоро чернел от копоти множества труб. Правда, на восточной окраине города ускоренными темпами строились собственные четырехэтажные «Черемушки», но строились почему-то без ливневой канализации, с узенькими улочками и тропками-тротуарчиками.
В противоположном от «Черемушек» конце города приютился туровский аэродромик. Там, прямо на грунт, садились вертолеты, небольшие устаревшие поршневые ЛИ-2, ИЛ-14 и АН-2. Эти безотказные воздушные работяги связывали областной центр с бескрайним, необжитым Севером, где в колючем таежном разливе либо в замшелой бездорожной тундре затерялись крохотные поселки геологических экспедиций, леспромхозов, рыболовецких и оленеводческих артелей.
В приплюснутом, похожем на барак, одноэтажном деревянном доме сгрудились все аэродромные службы и зал ожидания для пассажиров. Зимой в том зале и в валенках замерзали ноги, а сейчас загустела духота – прокуренная, пропахшая пивом, рыбой и потом. Пассажиров в зале почти не было: они расположились в небольшом скверике – на скамьях, на чемоданах и прямо на земле. Курили, жевали, судачили, кто насухо, а кто и с бутылкой. Малыши, быстро сдружась, гонялись друг за другом, пинали мяч, висли на металлической ограде летного поля.
На обшарпанном фанерном чемодане примостились, держась за руки, двое: могучий парень с широченными покатыми плечами и тонкая круглощекая девушка с яркими синими глазами. Достаточно было раз глянуть на эту пару, чтоб безошибочно определить – влюбленные. Она сперва дремала, припав головой к его взбугрившейся груди, потом свернулась клубком на его коленях, и парень, обняв девушку, тихонько покачивал, будто баюкал, нашептывая ей что-то при этом в самое ухо.
Низко пролетел ЛИ-2. Сделав плавный разворот, пошел на посадку. Из динамика над крыльцом полоснул металлический дребезжащий женский голос:
– Прибыл самолет рейсом двадцать девятым из Турмагана.
– Наш. Слышишь, Таня?
Она не шелохнулась, притворяясь спящей. Влюбленно улыбаясь, парень потерся лбом о ее щеку. Легонько зажал ноздри маленького курносого носа. Дрогнули будто соломенные ресницы, чуть разошлись, приоткрыв ярко-синие глаза.
– Наш прилетел, Танюшка.
– Угу. – Ресницы опять сомкнулись.
– Сейчас посадка.
– Угу.
Мимо скученно протопали прилетевшие двадцать девятым рейсом. Последней, приотстав от толпы, шла молодая женщина с мальчиком за руку. Красивое лицо женщины было бледно и пасмурно, пожалуй, даже печально. Закусив нижнюю губу, она рассеянно и отрешенно смотрела перед собой, и казалось, вот-вот расплачется. Вдруг на лице женщины мелькнуло изумление, она резко остановилась.
– Пойдем, ма, – мальчик дернул ее за руку.
Не глянув на сына, неестественно жесткой походкой женщина подступила к влюбленным.
– Таня!
Девушку будто сдуло с колен парня.
– Ася! Милая! – Звонко, со сладким причмоком поцеловала женщину в губы. – Как ты? Откуда?..
Увидела мальчика, метнулась к нему.
– Тимурик! И ты… Да откуда?..
Наконец Таня заметила брезгливую холодность бледного лица, поймала язвительный взгляд и растерянно смолкла. Вплотную подступив к сестре, сухим, подрагивающим от негодования голосом Ася потребовала:
– Почему ты здесь и… и… в объятиях этого…
– Это мой муж. Чего ты уставилась?
Парень шагнул к Асе, протянул руку.
– Иван Василенко.
– Ни-че-го не понимаю! – болезненно поморщилась Ася.
– Конечно же… Ты ведь не знала, – обрадованно заспешила Таня. – Все просто. И понятно… Садись вот на чемодан. Не смущайся. Выдержит. Проверенный. И ты, Тимурчик, садись. Вот так… Ваня – мой старый друг. Еще когда в восьмом учились… Ты в Омск переехала, он в армии служил. Потому не знакомы. Теперь демобилизовался, сразу комсомольскую путевку в Турмаган. Строить нефтяную столицу Сибири…
– И ты?.. С ним?..
– Говорю же – муж. Муж и жена – одна сатана… Мы еще в письмах решили: поженимся – сразу в необжитые края. Новую жизнь на новом месте и с ничего. Понимаешь?
– А институт? – Ася прижала ладони к зарумянившимся щекам.
– Перевелась на заочное.
– Господи! И девятнадцати еще нет. Первый курс не кончила… Как это папа с мамой…
– Да никак. Уперлись – ни в какую. Будто без диплома ты не человек. Мы потихоньку зарегистрировались. Показала паспорт с отметкой – и за чемодан. С мамой истерика. «Неотложку» вызывали. Потом сама уложила чемодан и закатила прощальный банкет.
– Неужели не могла написать, посоветоваться, просто известить, – попеняла старшая.
– Люблю делать сюрпризы.
– Кем же станет работать твой суженый? – и прилипла к Ивану испытующим взглядом.
– Не пропадем, – ответил тот с откровенным вызовом. – В армии механиком-водителем был. Хоть на бульдозер, хоть на самосвал.
– На са-мо-свал? – обалдело переспросила Ася, привстав.
– А что? – наступающе, вопросом на вопрос ответил Иван. – По-вашему, на самосвалах второсортные…
– Что ты! – качнулась к нему Таня. – Ася совсем не про то… не о том… Я же рассказывала…
Парень расслабился, Таня повернулась к сестре.
– Куда вы с Тимуриком?
– К маме… Климат там… Погостит, погреется на солнышке…
Уловив фальшь в голосе, приметив ускользающий взгляд, Таня мигом заволновалась. Схватила Асю за руки, прильнула к ней.
– Асенька! Голубушка! Что случилось? – И, разом переменив тон, сердито: – Ушла от Гурия? Бросила?.. Мама как в воду глядела: «Ася не для кочевой жизни…» – И уже с откровенной злой издевкой: – Проспектов там нет. Да? Бассейн не выстроен? Ресторан не открыт? Кондиционера недоставало в особнячке? А ты без этого… без этого… Ух ты-ы!..
Таня атаковала неожиданно и так проломно, что Ася смешалась и, возможно, стала бы оправдываться, если б не презрительная ухмылка Ивана. Она покоробила Асю, и та прикрикнула:
– Глупая девчонка! Чего ты понимаешь в жизни? Поначиталась, вот и кружит голову. Погоди! Поживешь в балке на сухарях с консервами, покормишь комариков…
– Ты-то в балке не бедовала. Сухарики не грызла. Вон какая примадонна… А Гурия предала…
– Не смей!
– Хлыст! Ваня! Дай ей хлыст!.. Это же самое простое. Ни убеждать, ни доказывать. Не согласен? Получи! Вот тебе! Вот тебе! – Таня подкрепляла слова выразительным жестом, словно и в самом деле секла кого-то. – Как просто! Легко и просто! Так ты и с Гурием. И уверена в спину… В спину!.. И еще… И еще смеет…
– Позвольте, мадам, – неприязненно прогудел Иван.
Выхватил из-за Асиной спины чемодан, обнял Таню, и, не попрощавшись, даже не оглянувшись, они ушли.
С толпой они вытекли на летное поле и пропали в зеленом чреве самолета. Сабельно сверкнули на солнце винты. Сперва неуверенно, прерывисто, потом громко и непрестанно зарокотали моторы. Самолет стронулся, ускоряя ход, запылил к взлетной. На миг замерев у стартовой черты, машина реванула во всю мочь тысячесильных двигателей, оттолкнулась от земли и устремилась ввысь, в манящую голубизну, туда, откуда несколько часов назад бежала Ася…
2
Пропал с глаз самолет, и струнный гул его уже не долетал, а она все смотрела – неотрывно и напряженно в то место, где миг назад маячила крестообразная точка, и тянулась, тянулась ему вслед – рукой, взглядом, слухом, всем телом, лишь кончиками пальцев связанными с землей.
– Ма… Ма… Да мы же… – Тимур дергал ее за рукав, за полу пальто. – Ну и оставайся, я улечу назад, к папе!
В утоньшенном обидой голосе явственно проступила Гуриева интонация, и в серо-голубых глазах вспыхнули так хорошо знакомые огоньки. От этого голоса и взгляда стало нестерпимо больно, и Ася зарыдала.
Сын не утешал. Поворотился спиной, уперся немигающим взглядом в распахнутый простор ярко зеленеющего летного поля и молчал…
В купе, кроме них, пассажиров не было. Едва она застелила постели, Тимур тут же улегся на свою и сразу заснул. А она подсела к занавешенному поздними сумерками окну, скользила взглядом по одиноким домикам, деревьям, столбам, но ничего не видела. И не слышала ничего: ни гудков, ни колесного перестука, а на вопрос проводницы «Не надо ль чайку?» – не откликнулась.
Ее душила обида. Неуемная, когтистая обида вцепилась и не отпускала, и не слабела даже, напротив, все жестче, все больней стискивала горло и сердце, выжимая обжигающе горькие слезы.
Господи! Да разве виновата она в том, что не может, именно не может жить в этом утонувшем в болоте таежном Клондайке?.. Сколько боролась с собой. Только бы прижиться, смириться, стерпеться. Шлепала по грязюке в резиновых вездеходах. То сама простывала, то Тимура от простуды выхаживала. Научилась варить суп даже из рыбных консервов. Научилась держать топор, орудовать молотком, и метла с лопатой не выпадали из рук… Это далось нелегко…
Гурий вскакивал в шесть утра, что-то торопливо жевал и пропадал до поздней ночи. Если иногда и заглядывал днем, то лишь на миг. Равнодушно и спешно поест, перекинется несколькими фразами – и побежал. А она-то колдовала над кастрюлями, изобретала фантастические соусы и подливы, рылась в кулинарных справочниках… Ему было все равно. Лишь бы погорячей, да поострей, да погуще.
От всегда куда-то опаздывающего, разгоряченного и загнанного Гурия пыхало жаром, как от перегретой машины. И в мыслях, и на языке у него одно и то же: бетон, насосные, буровые и еще бог знает что, но только не она с Тимуром. Нет, он любил. Может быть, сильней, чем прежде, только сил на любовь почти не оставалось. Не только за столом, но и в постели он мог заговорить вдруг о каких-то емкостях или сепараторах, о железках, кирпичах, цементе. Сперва она старалась разделить его заботы, вникала в суть бесконечных несоответствии, несогласованностей, конфликтов, но скоро все это наскучило и Гурий стал от нее отдаляться.
А что она могла поделать с собой, если ей в самом деле скучна была вся эта производственная мишура: сметы, схемы, планы, текучесть, специализация, прибыль. И еще многое, бесконечно многое другое, чем жил Гурий вот уже третий год, что если еще и не стало, то наверняка станет скоро главным смыслом и содержанием всей его жизни, и тогда… Тогда – конец. Всему. Чем жила доселе. О чем мечтала. К чему стремилась… Тогда все перечеркнуть крест-накрест. Лучше стереть. И на чистом месте начать создавать жизнь заново. И в той новой жизни ведущей осью должны стать все те же кирпичи, трубы, плиты, планы.
«А я еду, а я еду за туманом…». «Романтика трудовых будней…», «Героика нефтяной целины…», «Самопроверка на перегрузку и напряжение…» и прочие, и прочие тому подобные разглагольствования, лозунги и призывы сочиняются для экзальтированных девиц вроде Тани. Да сочиняются писаками, которые живут не в бараках и землянках…
Суженый Тани, похоже, из другого теста. Этого водителя самосвала, как и многих подобных ему, влечет в Турмаган всемогущий Рубль. Он будет самосвалить и день и ночь, в мороз и в духоту, пока не набьет карман так, чтоб и на завтра, и на послезавтра хватило.
Не для того Ася прожила тридцать один год, прочла сотни книг, овладела тремя иностранными языками, завоевала Гурия, родила и выпестовала Тимура, чтоб ограничить свою жизнь Турмаганом.
А через десять лет ей будет сорок один. Сорок лет – бабий век. И бесследно, безвкусно, бестолково распылить здесь эти оставшиеся десять лет, самых прекрасных, когда еще хочешь и можешь взять от жизни все, чем та притягательна и желанна? Да это же… Это самоубийство. Никакие тысячи, десятки тысяч накопленных за это десятилетие рублей не возместят потом и малой доли того, что тут потеряно.
Счастье женщины – не только в труде. Не только в борьбе. Ася повидала на своем веку немало подобных «счастливиц». В шесть утра – подъем, в полночь – отбой. Спозаранку у плиты, марш-бросок в ясли, бег трусцой на завод или в контору. Долгожданное воскресенье на стирку и генуборку. И так изо дня в день. Из месяца в месяц. Из года в год. Как заводная. А муж ворчит на отсутствие общих интересов, на любовную безответность и холодность и все чаще удирает из дому… Спаси, сохрани и помилуй от такого счастья эмансипированной женщины.
Женщина должна украшать, облагораживать, любить и быть любимой. Да, и работать, конечно. Но в меру. Без перегрузок…
Обнародуй эти мысли – ханжи завопят: «Мещанка!»
Пусть.
Не для них живу.
Не от трудностей бегу. От мелочного, пагубного прозябанья.
И Гурия от того же спасать надо. И немедленно. Его одержимость хороша, пока в нем силушки невпроворот, а поиссякнут силы – что тогда? На мели. На пустом месте. Здесь чтят и поощряют двужильных, работающих на износ. А износился – с богом на пенсию, забыт и вычеркнут из поминальника. Когда он поймет это – будет непоправимо поздно…
Она спокойно выслушала сообщение Гурия о том, что его посылают в Сибирь, в какой-то неведомый Турмаган, чтобы наладить пробную эксплуатацию недавно открытого нефтяного месторождения. Ася спросила только: «Надолго ли?» – «Долго без тебя не протяну». Так и вышло: забомбил телеграммами, засыпал письмами – приезжай! Приехала. Глянула. Решила любой ценой вытащить его из Турмагана.
Нет, не особняк ей был нужен, а Гурий. Думала, махнет рукой на Турмаган и переберется хотя бы в Туровск, в только что созданный нефтяной главк. Не рай, конечно, и Туровск, но все-таки областной центр. Нефть его живо расшевелит. Расстроится. Окрылится. И вузы, и театры, и проспекты – все появится. С Гуриевыми способностями да с распечатанным Турмаганом за спиной место в Туровске всегда сыщется…
Вот какую ставку поставила она.
И проиграла.
Такого не случалось с ней прежде. Никогда не случалось.
«Лепи характер. Сама себе будь камертоном, – не раз наставлял отец. – Только сильных и независимых уважают, хлипких – презирают и бьют».
Она лепила свой характер. Радовалась, когда удавалось переломить себя, подчинить чувства разуму. С годами все чаще осмеливалась она засматривать наперед, предугадывать, предупреждать, поворачивать по-своему. В конце концов, научилась так управлять собой, что осмеливалась программировать будущее на добрый десяток лет. И ни разу в большом не ошибалась, верно предугадала и в какой институт поступит, и когда замуж выйдет, и когда сына родит. Уверовала, что рулит собственной судьбой, как опытный водитель автомашиной. Но вот ударил встречный вихрь с Севера, и оказалось, что ничем и никем она не руководит, и не правит собственной судьбой, и бессильна не то что на десятилетие, а и на десять-то дней вперед заглянуть…
Как же не углядела, не угадала она в Гурии бациллы одержимости. В этом бредовом Турмагане все – не дыбом, так кубарем, даже у нее порой замирало сердце от неизъяснимого ощущения взлета. Дивно ли, что за годы турмаганской жизни одержимость проникла в кровь и мозг Гурия. Он перестал быть управляем и… оттого стал еще желанней.
Уже решив стать женой Гурия, она не чувствовала себя влюбленной. Просто он обещал стать таким мужем, какого ей хотелось. И лишь теперь, годы спустя, поняла: и тогда, и сейчас – любит. Вот бы и кинуться с кручи об руку с любимым… Ах, больно берег крут…
И сразу колесный перестук, скрип рессор, сопенье вентилятора – все дорожные звуки обрели мелодичность, неприметно сложились в мелодию, и в ушах зазвучала песня:
Ходят кони над рекою,
Ищут кони водопою,
К речке не идут:
Больно берег крут…
«Как же коням быть? Кони хочут пить…» – выговаривали колеса, увозя Асю все дальше от турмаганской грязи и комарья, от замотанных, исступленных людей, от грохота и рева сотен моторов. Но с каждым оставленным за спиной километром все тяжелей становилось на душе женщины. Все острей и необоримей делалось чувство неуверенности, неудовлетворенности собой. А вдруг и на сей раз она проиграет?..
– Глупости, – попыталась приободрить она себя. – Блажь.
Только в песне «ни ложбиночки пологой, ни тропиночки убогой», в жизни всегда можно найти выход из любого положения. Ну, не выход, так лазейку, малую щелочку… Даже если стена ледяная и непробиваемая – не обязательно лбом в нее, можно и вокруг…
И тут же, подмяв недавние сомнения, мысль понеслась дальше.
«Гурий любит. Ради меня и сына пойдет на все».
А в душе тут же ворохнулась крохотная ледяная змейка сомнения. А ну как поперек? Через колено и пополам?
Вот и прыгнул конь буланый
С этой кручи окаянной.
Ах, синяя река
Больно глубока…
Может, не скоро и не так остро почувствовала бы она шаткость собственной позиции, если б не эта неожиданная встреча с Таней, которую отец давно прозвал бунтаркой. Своими суждениями – прямыми и неотразимыми как выстрел, Таня еще девчонкой не раз повергала родителей в отчаянье. Воровство она называла воровством, подхалимство – подхалимством, взяточничество – взяточничеством. Однажды она спросила.
– Скажи, папа, ты платишь за то, что мы на твоей машине ездим по грибы и по ягоды?
– С какой стати?
– Но кто-то же должен платить. За бензин. И шоферу за выходные.
– Государство, конечно, – вклинилась в разговор мать.
– Значит, мы воруем у государства…
Разглядывая подарки отцу к юбилею, Таня раздумчиво сказала:
– Интересно, с какой стоимости подарок во взятку превращается…
Потому-то, верно, и согласились родители на этот скоропалительный, нелепый Танин брак с водителем самосвала…
Как неожиданно и метко ударила она сегодня: «Так ты и с Гурием! И уверена – в спину!» Негодяйка! А ведь сестра. Единственная. Родная… И хоть разумом Ася изо всех сил противилась этому, но сердцем признала пронзительную правоту бунтарки: в спину ударила Гурия!.. Ради чего? Зачем? Что впереди?..
И совсем неожиданно Ася вдруг позавидовала сейчас бунтарке Тане с ее водителем самосвала…
3
С нутряной натугой рокотали моторы, увлекая крылатую машину все дальше от Туровска, все ближе к загадочному желанному Северу. В тысячу тысяч раз быстрей самолета неслась Танина мысль и за каких-нибудь полчаса побывала и в Омске, и в Туровске, и в неведомом Турмагане…
Они устроились в хвосте салона, на последних креслах. Зажав папиросу в кулачище и равнодушно кося глазом на круглое оконце, Иван курил, а Таня притворилась спящей, неприметно из-под ресниц взглядывала на мужа.
– Хватит подсматривать в замочную скважину, – Иван наклонился к жене.
– Как же мы теперь, Ваня?
– Все так же.
– Разве можно к Гурию Константиновичу после этого… Прикинуться, будто не знаем…
– А чего ты знаешь?
– Ай, да не притворяйся глупеньким.
– Может, я в самом деле того… – постучал себя по лбу согнутым пальцем. – Видела, как твоя сестрица…
– Поссориться хочешь?
Тут, отделенный от Тани проходом, кудлатый парень в клетчатой рубахе с яркой косынкой на шее вдруг подался к ней корпусом и дурашливо просипел:
– Ах, какие мы царапучие, прямо рысь, ха-ха-ха…
Таня обожгла нахала взглядом, демонстративно повернулась спиной.
– Видал, Жорик? – громко, насколько позволял сиплый голос, обратился кудлатый к сидящему рядом. – А? Ничего? Сразу понятно – образованная. Ноготки выкрашены, зубки вычищены, так и просится на закуску.
– Эй, ты! – грозно прикрикнул Иван. – Заткни фонтан. Без зубов останешься!
– Вай-вай! Страшно! Жорик, я боюсь. Нет, взаправду, мине дрожь шибает. Давай выйдем на повороте, – дурашливо засипел кудлатый.
Послышался смех. Иван поменялся с женой местами. Теперь он мог дотянуться до кудлатого.
– Жора, ты видишь? Этот агрессор изготовился к прыжку. Ой, бр-ра-таны! Нет ли у кого запасного бельишка? Зови сюда бортпроводницу!
Обрадованные возможностью развлечься, пассажиры хохотали, подкидывая колючие словечки. Поощренный всеобщим вниманием, Жора тоже вступил в розыгрыш.
– Энто ты, Вадь, его спужался?
– Угу, – наигранно дрожащим голосом ответствовал кудлатый. – А ты сам глянь. Жж-ж-жуть! Мама! Убери мине отсюда, он мине съест!
Надо бы хлесткой шуткой осадить, но Иван поглупел от ярости, тискал на коленях кулачищи и молчал.
– Жора! Прикрой мине с тылу, – не унимался кудлатый, отменно подражая детскому лепету. – Счас он зачнет с мине омлету делать. Не хочу в омлет. Не хочу! Не хочу. Ма-а-ма!
– Милай! Ково разблажился! Ково рабазлался? – старушечьим тягучим голосом пропела Таня. Горшочек-от под сиденьем. Нашарь ручкой и садись.
Дружный хохот покрыл Танины слова. Кудлатый побагровел и с ходу, не раздумывая, прогнусавил:
– А у мине бумажки нетука…
– Языком, милай, языком, – отрезала Таня, вызвав шквал смеха.
До конца пути кудлатый и Жора больше не задирались. А в Турмагане на выходе с летного поля неожиданно подлетели к приотставшей от мужа Тане. Кудлатый схватил ее за рукав, рванул к себе и тут же выдернул из кармана другую руку с зажатым в ней лезвием безопасной бритвы. Иван перехватил руку кудлатого, сшиб его с ног. Еще миг, и Жора лежал рядом. Хулиганы кинулись наутек. Отбежав, кудлатый повернулся, грозя кулаком, надорванно крикнул:
– Мы еще встретимся, сука! Я т-тебя попишу!..
И сгинули оба в густом ельнике, опоясавшем временный турмаганский аэродром.
Глава третья
1
Нет, неправда, что можно от какой-то точки начать жизнь сначала, отсекая напрочь прожитое. Можно сменить жену, переменить веру, из добренького стать злым, а из подлеца святошей, но все, через что прошел по пути к этому, навсегда останется в тебе, всюду будет с тобой и в самый неподходящий миг кольнет прямо в сердце. Все можно начинать по десять раз, ломать и снова строить, только не собственную жизнь, ибо та начинается без спросу и обрывается без предупреждения. Может, и есть неведомая сила, управляющая судьбами людскими, отмеряющая долготу каждой жизни, так та сила неподвластна человеку. Потому и нет ничего страшней раскаяния. И видишь, и понимаешь, и чувствуешь, а переиначить – не можешь. Вперед пятками не ходят…








