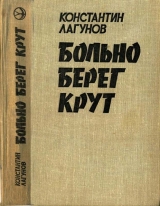
Текст книги "Больно берег крут"
Автор книги: Константин Лагунов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Опять потерялся Черкасов в догадках: куда метит? Осердился, потянулся за сигаретами. Приметив это, Рогов еще горестней стал оплакивать «беззащитных и безропотных» торговцев: и нечутки все с ними, и грубы.
«Ну, милый, я сыт твоими разглагольствованиями», – рассердился Черкасов и в лоб:
– Чем могу быть полезен, Владлен Максимович?
– Я к вам по делу… – наконец-то вышел Рогов на финишную прямую и сразу выстрелил в цель, – бывшего заведующего гастрономом Ершова…
– Которого посадили за…
– Да. Того самого.
Озадаченный Черкасов задымил сигаретой. Ершова давно исключили из партии, сняли с работы, отдали под суд. Никто не вступился за него тогда, полгода назад, и вдруг…
– Слушаю вас.
– Следствие закончено. Назначен суд. В обвинительном заключении – ничего сногсшибательного. Небольшая пересортица. Чего-то лишку, чего-то не хватает. Обычное явление в торговом деле…
– Так-таки и обычное?
– Во всяком случае вполне допустимое и объяснимое. На новом месте, с нуля поднять такой магазинище… Без накладок не обойтись. За это нужно наказывать, можно снять, понизить, но не в тюрьму же. Все осложняет история с этой девочкой. Старый дурак! Воспылал, возжелал и… пожалуйста: шантаж, использование служебного положения, принуждение…
«Какого черта лезете вы в это дело?» – вертелось на языке Черкасова, но он спросил:
– Чего вы хотите от меня?
– Говорят, вы дали указание сделать именно это главным пунктом обвинения. Вы же распорядились судить показательным судом, применив самую строгую меру…
– Я не указчик суду. Однако не скрою, просил об этом, – Черкасов поднялся, подсел к письменному столу и принялся убирать с него бумаги, рассовывая их по ящикам и папкам.
Верно поняв этот жест, Рогов обиделся на секретаря так сильно, что не смог скрыть обиды и та отчетливо прозвучала в голосе:
– Стало быть, вы… можете и… снять свою просьбу. Полагаю, никто не станет настаивать, чтобы…
– Нет. Не могу. Совесть не позволяет и партийный долг. И мне непонятно, с чего это вы взялись вдруг хлопотать о Ершове?
«А уж это тебя не касается», – неприязненно подумал Рогов и сказал первое, что пришло на ум:
– Мы с ним дальние родственники… По жене.
«Врешь», – мелькнуло в глазах Черкасова.
– Весьма сожалею, но… – он передернул плечами.
– Не ожидал. Я думал, вы поймете…
Рогов встал. Обида сделала его еще более прямым и подтянутым и голос отвердила, отяжелила. По всему чувствовалось: на языке Рогова повисли какие-то очень тяжелые, неотразимо пробойные и в то же время крайне рискованные слова, он и подталкивал и удерживал их, и в то же время понимал, что без этих слов ничего не добьется. «Что у него за пазухой? – гадал секретарь горкома. – Замахнулся, а ударить боится». – «Не понимает иль притворяется? – засматривая в секретарские глаза, соображал Рогов. – Неужели женушка ни гугу? Из-под земли добывал. С доставкой на дом. На выбор – фасон и расцветка. С нее надо было начинать. Подобрала бы ключик. Дурак!..»
Сглотнул теснящиеся на языке взрывчатые, убойные слова, отвел взгляд и смиренно:
– Это моя личная просьба, Владимир Владимирович. И хотя оснований у меня для особого внимания… – выделил интонацией «личная», «оснований» и «особого», – никаких, все-таки прошу…
– Напрасно, – неприязненно и жестко сказал Черкасов и потянулся к телефону.
– Ну что ж… Извините за беспокойство.
В глазах, в голосе, в наклоне головы, в стиснутых кулаках – обида, гнев.
– Ничего, – глядя прямо в глаза Рогову, с вызовом, напористо выговорил Черкасов. – Бывает. До свидания…
«Что он не сказал? Изготовился, но не посмел. Намекал, подчеркивал. Стой-стой. А если… Мать честная!..»
Обмер, простреленный догадкой. Зачастила, застучала в висках потревоженная кровь.
Торопливо запер сейф и ящики стола, накинул пальто, подхватил папку и бегом из кабинета.
2
Он не хотел при детях начинать этот разговор, изо всех сил старался казаться веселым и довольным, но жена сразу почуяла недоброе, настороженно приглядывалась, прислушивалась, несколько раз словно бы мимоходом спросила: «Устал?», «Как на работе?», «Что-нибудь случилось?..» – «Как всегда», «Все в порядке», «С чего ты взяла», – отвечал беспечно. И только когда укладывались спать, он вроде бы мимоходом, буднично и безразлично спросил:
– Ты когда-нибудь обращалась к Рогову с просьбами?..
– С какими просьбами? – и принялась тщательно разминать и взбивать подушки.
Черкасов видел спину и затылок жены, шевелящиеся лопатки, взлетающие локти, и в этой чуть согнутой, будто надломленной спине, и в этих острых, суетно взлетающих локтях было что-то откровенно виноватое, беззащитное и такое трогательное, что у него от сострадания перехватило дух. Можно было не выспрашивать больше, но он все-таки спросил:
– Что-нибудь он доставал тебе? Припомни, пожалуйста.
– Н-нет… Хотя… Понимаешь… Несколько раз перед праздниками он звонил и предлагал продукты… За деньги, конечно. Ну я…
– Понятно. А из барахла?
– М-м… Да собственно… Кроме моей шубы… так… по мелочам. Сапоги вот… Плащ тебе… Норковую шапку под шубу…
– Понятно. – Тяжело подошел к кровати. Сел на нее. Снял очки. И сразу расплылось лицо жены, и он уже не видел ее виноватых глаз и вздрагивающих губ. – Понятно.
– Что случилось, Володя? – подсела рядом, слегка коснулась его руки.
– Ничего не случилось, Люся. Запомни, пожалуйста, ни с какой подобной просьбой к Рогову больше…
– Господи. Да я и не лезла. Сам звонил. Сам предлагал. «Не надо ли, Людмила Сергеевна?», «Не хотите ли, Людмила Сергеевна?» Что же все-таки произошло?
Как можно короче изложив сегодняшний разговор с Роговым, заключил:
– Гляжу, тужится мужик, мнется и корежится, а выговорить не смеет. Бьет пристрельными. Рядом. Рядом. Но цель не трогает. Понял, видно, что не знал я об этом, иль посчитал за крупного хама…
– Прости, Володя, – тихо выговорила Людмила Сергеевна и заплакала.
– Ну вот еще. Этого не хватало. Утри слезы и успокойся, пожалуйста, – вскочил проворно, вытащил из брючного кармана носовой платок, подал жене.
– Ты же знаешь, я никогда, ничем, чтобы как-то…
– Знаю-знаю. Только люди-то разные, Люся. Такие, как Рогов, без выгоды и расчету добродетель не расточают, не благоденствуют… Хватит об этом. Выпей валерьяновочки и спать…
А попробуй-ка засни после всего случившегося. В голове – несусветная путаница мыслей: тут и мудрые, глубокие, рожденные долгими раздумьями, и скороспелые, непутевые, и чужие, подслушанные, вычитанные. Выбери-ка из такого хаоса верные да нужные, растяни в логически неразрывную цепочку, чтоб та привела к единственно возможному, неоспоримому выводу. «Не тяжек долг, расплата тяжела» – кто это сказал? Какая разница? Не будь он первым секретарем городского комитета партии… «Первый секретарь разве не человек? Есть, пить, одеваться – ему не надо? Да и что за проступок совершила жена? Минуя магазин, купила несколько килограммов апельсинов, бутылку доброго вина иль какую-то тряпку? Купила ведь. Не взяла. Чего ж тогда чистоплюйствовать? Себе и ей нервы трепать?.. Да ты что, спятил? Для многих здесь – вся партия в тебе. Конечно, нелепо в простом смертном мужике видеть партию. Но – факт. Какого же… Закинула судьба на гребень – держись! Или уйди, уступи более достойному… Секретари тоже не из гранита вытесаны. И в жилах – кровь. Любят и ненавидят, страдают и радуются, едят и спят, и целуют женщин. Как все. Как все!.. Стой! Остановись! Опомнись!..»
Память вдруг – в который раз! – распахнула перед ним высокую черную дверь в одном из зданий Московского Кремля. И он пошел из комнаты в комнату, не веря собственным глазам. Мыслимо ли? Самый великий человек века, пророк и вождь революции, глава необъятной всесильной России и… жестяная кружка с вмятиной на боку, запаянный алюминиевый чайник, поношенное, потертое покрывало, заштопанное пальто. А рядом – отделанные малахитом, яшмой и мрамором покои, обитые гобеленами спальни, крытая атласом мебель, золотая, серебряная, хрустальная, фарфоровая посуда. «Почему же он не взял? Наверняка предлагали, советовали, от чистого сердца завалили б драгоценной рухлядью. А пшенный суп из воблы, чай с сахарином, рабочий паек?.. Голодный обморок наркомпрода Цюрупы… Нельзя тем аршином современность? Все изменилось?.. Но принципы, устои, критерии – те же. Те же! Революционные. Большевистские. Ленинские…»
Глава восьмая
1
Чем меньше до свадьбы оставалось времени, тем стремительней и неприметней летело оно, и, подхваченный его непрестанно убыстряющимся потоком, все неистовей и неутомимей становился Данила Жох. Отстояв вахту, он срывался и летел в Турмаган. Едва отмывшись от глинистого раствора и наскоро перекусив, опрометью кидался на свидание с Наташей. Глубокой ночью уходил от любимой, а на свету снова летел на буровую, и смеялся, и ерничал с рабочими, и всюду поспевал: подменял бурильщика у тормоза, спешил на сорокаметровую высь к замешкавшемуся верховому, вовремя подмечал неполадки в противовыбросном устройстве, аккуратно вписывал в вахтовый журнал показатели приборов. И опять – в рокочущий вертолет, короткий, сладкий миг свиданья, обратный перелет и восемь, а то и десять часов неугомонного, напряженного, лихого труда. «Поаккуратней, Данила. Запалишься», – остерегал своего помощника Фомин. Парень в ответ только скалился. Порой на него как бы нисходило прозренье, и, опомнясь, он сам дивился своей выносливости и везучести: все получалось, ладилось, спорилось, будто мир поворотился вдруг к нему солнечной стороной да так и остался стоять.
Только теперь, на виду желанной, заветной черты, нутром постиг Данила Жох невыразимую словом, неохватную рассудком живую суть любви. Он давно любил – исступленно и яростно, – страдал и желал, мучился и стремился, отчаивался и ликовал. Не раз силился, но так и не смог разобраться в себе, путался, злился, неистовствовал. Порой он вроде бы остывал настолько, что думал о Наташе спокойно, судил ее и себя беспристрастно, решительно, трезво, отчего мир сразу выцветал, блекнул, становясь однотонным и скучным. Но стоило увидеть, услышать Наташу, как от рассудочной уравновешенности ничего не оставалось, он вспыхивал ярче, жарче прежнего и готов был грудью о стенку, головой в пропасть за ее коротенькое «да». Иногда это «да» он прямо-таки видел на ее спелых губах и, сдерживая дыхание, напрягался весь, готовый подхватить любимую на руки, закружить, зацеловать. Но в самый крайний, останный миг она умолкала, отдалялась, и взбешенный Данила убегал прочь…

И вдруг… Именно вдруг. Неожиданно. В неподходящий момент, в нелепой обстановке, сам того не желая, он сказал деловито и буднично:
– Послушай, Наташа, не пора ли тебе стать моей женой?
Виновато глянул в ее глаза и обмер, боясь поверить.
– Давно пора, Данила, – покаянно прошептала девушка.
И вспыхнула, прикрыла ресницами загоревшиеся глаза, слегка склонила голову.
– Наташа, – еле внятно выговорил он пересохшими губами, взял ее руку, легонько смял в ладонях. – Наташа…
– Да-да… – выдохнула она чуть слышно.
Кто из них первым шагнул, первым обнял, первым… Опомнились, когда задохнулись, отстранились на миг, глотнули воздуху и опять прикипели друг к другу.
– Погоди. Ой… Постой же. Раздавишь, – бормотала она, а сама прижималась к нему, подставляла губы…
И вот назначена свадьба…
Два мастеровых, работных рода, плотницкий – Жоховых и землепроходческий – Фоминых, две могутные рабочие струи сливались воедино, чтобы сберечь, приумножить то, что вынесли они из глубины веков: мастерство, сноровку, доброту…
Ах, Русь! О доброте твоей давно по свету бродят были с небылицами в обнимку. Ты милуешь лежачего врага, прощаешь раскаявшегося злодея, делишься с другом не только кровом и хлебом, но и кровью, и жизнью. А сколько народов доброте твоей обязаны жизнью и процветанием. Тебя величают матерью и почитают как мать не только русские.
Жестче, стремительней, неумолимей становится время, и, пришпоренные им, люди делаются злее, вероломней, грубей, а ты не меняешься, и о тебя, как о гранитную твердь, по-прежнему разбивается вдребезги все недоброе, пакостное и лживое. Как и встарь, ты платишь добром за зло, спасая тем весь мир от катастрофы…
Мало кто в Турмагане не знал бурового мастера Фомина, не счесть друзей-приятелей и у Жоховых. Вот и пришлось накрывать свадебные столы в фойе «Юбилейного», куда задолго до назначенного часа потянулись нарядные люди, и каждого поклоном встречала у порога помолодевшая, румяная и счастливая Марина Ермиловна.
После той стихийной исповеди Марина Ермиловна больше ни разу не заговаривала с дочерью о Даниле, но чуяла, что нежданным признанием своим затронула девичью душу и там что-то сдвинулось, сместилось, покатило к желанному исходу. И когда однажды Наташа и Данила вдруг предстали перед ней чуточку смущенные, растерянные, хмельные и ликующие от счастья, Марина Ермиловна и слова им вымолвить не дала, обняла обоих, прижалась лицом к разгоряченным сияющим лицам: «Будьте счастливы, дети», – и заплакала…
Чем ближе к назначенному часу, тем гуще поток гостей. Иные шли всем семейством, вместе с малышами, для которых Наташины подружки оборудовали в спортзале игровую комнату. Здесь и пристали к Тимуру Бакутину две рослые девчонки и едва не отняли у него голубой самокат-двухколесник. Когда в жестокой неравной схватке Тимур победил, налетчицы стали расхваливать мальчишку, и тот заважничал, загордился.
– Я такой же смелый, как папа.
– Если ты смелый, иди и спроси у папы: кто такая Нурия Сабитова? – неожиданно предложила одна из подружек.
– Только громко спроси. Чтоб все слышали, – подхватила другая.
Тимур учуял подвох.
– Какая Нурия?
– Это тебе папа скажет, – легко нашлась с ответом старшая.
– Ну? – нетерпеливо притопнула подружка и подтолкнула Тимура. – Беги.
– Потом спрошу, – уперся, насупясь, мальчик.
– Потом – суп с котом. Спроси сейчас. Трусишь?
– Иди сама и спроси, – пробубнил Тимур.
И хотел укатить на своем двухколеснике. Но девчонки заступили путь, запрыгали вокруг, крича:
– Трусишка-зайчишка!
– Трус-карапуз!
Кинулся Тимур на обидчиц, расквасил нос одной, повалил другую и такой учинил переполох, что примчался кем-то извещенный Бакутин.
– В чем дело? – негромко, но строго спросил он сына.
Мальчишка надулся, понурил голову и смолчал.
– Играйте, играйте, ребята, – сказал Бакутин обступившим их ребятам и, взяв Тимура за руку, отвел в угол.
– За что ты накинулся на девочек? – спросил строго, с угрозой. – Тоже мужчина!
Молчание сына, его косые исподлобья взгляды озадачили, расстроили Бакутина.
– Ладно. Не хочешь – не надо. Я с тобой по-мужски, а ты…
Тимур всхлипнул. Поднял голову и, глядя отцу в глаза, тихо, с запинкой выговорил:
– Они хотели, чтоб я спросил тебя, кто такая Нурия Сабитова.
Бакутина окатило жаром. Первым желанием было – шлепнуть сына по щеке, прикрикнув: «Замолчи!» Еле перемог. «Сволочи. Детей-то зачем впутывают?» Глянул на сына и понял: надо объяснять. Немедленно. Иначе западет в маленькую душу недобрая искра – разгорится, надымит, отравит. Улыбнулся и спокойно:
– Нурия Сабитова – очень хорошая, красивая и добрая женщина. У нее есть сын, чуть помладше тебя. И я не понимаю, с чего вдруг ты полез в драку…
– Не знаю.
Он сказал правду. Он и в самом деле не знал, лишь чувствовал, что предложенный девчонками вопрос каким-то образом обидит отца, и, защищая его, кинулся на обидчиц с кулаками.
Бакутин, поняв это, погладил сына по голове, ободряюще хлопнул по плечу.
– Беги играй, сынок…
Проводил мальчика взглядом, постоял, успокаиваясь, и медленно прошел в фойе, где гости уже рассаживались за столы.
Это свадебное застолье неожиданно объединило очень далеких друг от друга людей. Были тут и Остап Крамор вместе с «мехтроицей», и Таня Василенко с Дашей и Люсей, и Шорин с Анфисой, и Гизятулловы, и даже Ивась с Кларой.
Турмаганское житье, как видно, шло Ивасю впрок: он приметно раздобрел, румяные круглые щеки глянцевито поблескивали, глаза туманила дремотная пелена. На свадьбу его пригласил Данила, пригласил мимоходом, от избытка счастья. Ивась терпеть не мог шумных, многолюдных пирушек и, автоматически поблагодарив Жоха, тут же позабыл о приглашении. Но вечером, глянув на чем-то расстроенную, взвинченную жену, черт знает почему ляпнул:
– Данила Жох приглашал на свадьбу.
Клара как-то разом перестроилась, повеселела и тут же решила:
– Сходим, поглядим на чужое счастье.
– Эка невидаль, – чтобы не зацепить ее, как можно беспечней проговорил Ивась.
И все-таки зацепил. Клара мигом встопорщилась, взгляд, голос, локти, плечи, колени – все у нее заострилось, нацелилось угрожающе на Ивася, и каждым словом, сказанным медленно, в разрядку, с нажимом, она пронзала его, как шпагой:
– Хочу… погреться… у чужого… огня.
– Свой уже отгорел? – задетый за живое, не смолчал Ивась.
– Похоже, – без улыбки ответила она. – Один дым. Ни тепла. Ни света.
Что-то недоброе у нее на душе. Царапнешь ненароком, и ахнет разрывным, бронебойным самого крупного калибра. Встревоженный Ивась поостерегся пикироваться дальше, с напускной веселой беспечностью поспешно попятился:
– О чем речь! Я за связь с жизнью. Пойдем.
Но когда сели за стол и через одного человека от него оказался Остап Крамор, Ивась забеспокоился: от хмельного художника можно было ожидать всего. Приметив, что вместо вина Крамор пьет минеральную воду и сок, Ивась не успокоился, напротив, расстроился еще сильней: трезвый, одолевший себя, Крамор был куда опасней прежнего. «Эх, черт. Надо бы сразу пересесть. Подлезет с разговором о Ершове, а тут Клара». И ерзал на стуле, как на горячем поду, старательно отводя обеспокоенный взгляд, который какая-то неведомая сила притягивала и притягивала к художнику. Вдруг Крамор встал, подошел, склонился и негромко:
– Не беспокойтесь, пожалуйста, Александр Сергеевич. Развлекайтесь. Веселитесь. Вы не забыли? Вас тревожит? Это хорошо. Значит, не все потеряно. А чтобы не смущать, я пересяду. Извините великодушно…
И ушел, уселся по другую сторону стола, далеко от Ивася.
– Что он сказал? – полюбопытствовала Клара.
– Этот юродивый? А-а! Бросил пить, вот и невмоготу, мечется…
– Такой шаг не всякому по силам. Дай бог ему побороть себя.
«Ты вот не поборол и не поборешь», – почудилось Ивасю в голосе, во взгляде жены, и он, разом озлясь, с нарастающей неприязнью выговорил:
– Все бы нам бороться да побеждать. Не с трудностями, так с природой, не с природой, так с самим собой. Борцы и стоики…
– Молчи! – приказала Клара. – Молчи, – тише и глуше повторила она.
Ивась встревоженно зыркнул по сторонам, облегченно откинулся на спинку стула: никто не смотрел на них, никто не подслушивал. Гости ели, пили, смеялись, спорили, и этот разноголосый гул веселья все нарастал.
Поначалу, пока не сели за столы, многие чувствовали себя немножко стесненно, жались к стенам, раскланивались – сдержанно, разговаривали – негромко, смеялись – вполсилы. Но вот на невысокий помост поднялись оркестранты, вышли вперед два трубача, и вдруг, подмяв все звуки, полоснул трубный сигнал: внимание, слушай все! И тут же в мгновенно наступившую тишину высокий, раскаленный волнением девичий голос прокричал:
– Хозяева просят дорогих гостей к столу!
Расселись быстро: каждый, присмотрев местечко, заранее неприметно придвинулся к нему.
Оркестр заиграл величаво волнующий свадебный марш Мендельсона. Показались молодые и медленно пошли к высоким креслам, поставленным в голове застолья.
Даже здесь, в окружении празднично разнаряженных гостей, Наташа выделялась яркой русской красотой, в которой упругая, спелая полнота сочеталась с изяществом форм и неподдельной легкостью движений. Если бы вдруг обесцветить, обессмыслить ее лик, погасить глубинный жаркий блеск глаз, сдуть трепетную нежную улыбку с губ, а потом сфотографировать или бесстрастно описать, – никто не назвал бы это широколобое, чуть курносое, большеротое лицо красивым. Но теперь оно было прекрасно. Скрытые длинным платьем ноги девушки были не видны, отчего казалось, будто она не шла, а величественно и гордо плыла, положив руку в белой перчатке на локоть жениха, слегка наклонив к нему голову.
– Ах, хороша пара! – с болезненным восторгом выдохнул Бакутин.
Метнув на мужа короткий, пронзительный взгляд, Ася тут же опустила густо покрасневшее лицо: она уловила в голосе и в глазах Бакутина тоску по той, незабытой, неразлюбленной, непокинутой Нурие. Закусив верхнюю губу и еле сдерживая слезы, Ася сделала вид, что старательно стряхивает что-то со своего плеча… Нет. Нет и нет! Все прошлое не в прошлом, не по ту сторону. Не отгорело. Не отболело. Стояла и стоит между ними проклятая азиатка, соблазнительница. Ася ни разу не видела своей соперницы, не расспрашивала о ней, но в сознании давно сложился удивительно яркий, четкий образ искусительницы. Только ее виноватила Ася, считала первопричиной всех бед, и люто ненавидела, желала несчастья. Иногда, проснувшись среди ночи, Ася вдруг чувствовала: Гурий не спит. Она напрягалась до крайнего болезненного предела и невероятным усилием воли проникала в мысли и в душу замершего Гурия и видела там Нурию. И сразу наплывал ядовитый морок, подминал, душил, злые слезы закипали в глазах, а к горлу подступал глухой надрывный вой. Напружинив горячее молодое тело, прогнувшись, запрокинув голову, она судорожно стискивала зубы, а вой все нарастал, растекался по телу, распирал грудь, топорщил соски, клокотал и бухал в черепе, и, чтобы не задохнуться, она сталкивала с кровати омертвелое тело и неровными сбивчивыми шагами уходила на кухню. Опустошенная, раздавленная, полуживая садилась, подобрав под стул ноги, и с болезненным нетерпением ждала, но, едва заслышав его шаги, размыкалась, размагничивалась до последней клеточки и, припав к теплой бугристой груди мужа, поливала ее слезами. Он уносил ее в свою постель, растроганно и виновато успокаивал, целовал и нежил, и, вспыхнув, она неистово отдавалась ему и долго потом бесплотно парила в сладостной пустоте, блаженствуя и ликуя. Он снова был с ней, в ней. Она слышала, как бешено молотит его разбунтовавшееся сердце, и видела сладкие сны наяву…
Бакутин выхватил из вазы букет цветов, кинул под ноги молодым. И все стали проделывать тоже, крича что-то ликующее, а оркестр гремел – самозабвенно и яро – мендельсоновский марш. Потом рассыпчатым залпом пальнули полсотни среброголовых бутылок, ударили пенные струи в звонкие бока бокалов и все стихло, десятки нетерпеливых, счастливых глаз остановились на Бакутине. Тот был торжественен и благопристоен: добротный костюм, яркий галстук, белый тугой воротничок. Седые длинные волосы аккуратно расчесаны. Призывно подняв свой бокал, Бакутин глуховато выговорил:
– Дорогие Наташа и Данила… Милые…
Голос дрогнул, сорвался. Подавляя волнение, Бакутин кашлянул. Заговорил еще глуше, тише, медленней:
– Что бы сейчас я ни сказал, все равно это будет повторением. Вы ступаете вслед нам, как мы ступали вослед отцам своим, а те дедам. Извечен круг, которым суждено пройти всем и каждому. И у каждого на том жизненном круге есть вот такой брачный узелок. Вяжет он в одну – две судьбы, две жизни. Пусть будет ваш узелок крепким, но не жестким, долговечным, но желанным. Пусть он прорастет поскорей молодыми зелеными побегами и те сплетутся в такие же узлы и еще раз прорастут, а ваш союз будет все также желанен и радостен…
Перевел дух, столкнулся взглядом с Кларой Ивановой и вздрогнул. У нее пламенели завитки рыжих волос, полыхали худощавые щеки, неистовое пламя буйствовало в глазах. Подумал: «Эта рыжая не одного охмурила». Она у свадебного стола, как у окопного бруствера. Сейчас он прикажет ей: «Вперед!», и, опережая других, она кинется навстречу победе, а может быть, гибели. Не отводя взгляда от ее горящих глаз, вспыхнув ответно, Бакутин возвысил голос:
– Вы не птенцы, пришпиленные к маминым подолам. Знаете, что настоящая жизнь – не уклон, а подъем, на котором не столько побед, сколько поражений. И вечный бой. И вечная борьба. Вот и – вперед! Вместе!.. Горько!
– Горько!! – во всю мочь закричала Клара Викториновна, словно то был не застольный свадебный клич, а лихое штурмовое русское «ура!».
В ней в самом деле неуемно горела какая-то дикая смесь страсти и неудовлетворенности. Это пламя согревало ее и двигало – стремительно и резко, ворочало мыслями и языком, изостряло и накаляло взгляд. Оно зажглось в ней давно, очень давно, наверное еще тогда, когда длинноногим, голенастым журавленком затосковала вдруг невесть по кому и по чему, набрасывалась на мальчишек и, затаясь, подолгу прислушивалась к себе, угадывая зарождение чего-то неведомого, желанного и непристойного. Давным-давно разгорелось неумолимое пламя и то замирало чуть, то вспыхивало с новой силой, но так вот ослепительно и всесильно пыхнуло только сейчас, и, опаленная им, женщина с восторженным ужасом поняла, что недавнему, с таким невероятным трудом слепленному, миру и благополучию – конец, всему, что было доселе, – конец. Опять опрокинулось небо, перевернулась земля, мир закувыркался, и она наконец-то получила то, чего ей так недоставало в турмаганской жизни и что не имело словесной формулы, ибо не умещалось ни в одном из известных ей понятий. Она осматривала больных, оперировала, проводила летучки и планерки, тащила на себе громоздкое и неудобное больничное хозяйство, занималась депутатскими делами и еще многое делала за двенадцатичасовой рабочий день, психовала, уставала, ругалась, и все-таки этого было мало, и еще оставались силы, выданные ей природой для любви, и те силы копились, перекипая в горючую, взрывчатую смесь, которая тут вот, сейчас, вроде бы ни с того ни с сего – ахнула и подняла в воздух хрупкое, хлипкое, трудное равновесие. То ли от голоса бакутинского или от его взгляда, а может, от этого сумасшедшего трубного мендельсоновского марша – бог знает отчего произошел этот взрыв. Да и надо ли знать? Надо ли? Кому? Зачем? Главное – ахнуло! Заполыхало, Теперь… Глянула на мужа, Тот лениво, маленькими глоточками потягивал шампанское. Скучный, унылый, безразличный ко всему. Все тот же. Прежний. На тех же рельсах. С той же скоростью. Опять, как в Туровске, сбилась вокруг него компания преферансистов, каждое воскресенье он уходил с утра и возвращался вечером страшно довольный. Когда это началось? Не важно. Важно одно: турмаганский эксперимент не удался. Ружье не выстрелило. Сумасшедшая, шалая турмаганская жизнь не прошила его, не вошла в него, а обтекла, замочила, но не захлестнула. Это она вдруг поняла тоже только сейчас, здесь, озаренная вспышкой неистового душевного взрыва. Нашла глазами бакутинские глаза, подмигнула, подняла бокал. Тот кивнул ответно, и оба выпили. «Шаровая молния в юбке», – восхищенно подумал Бакутин, тыльной стороной ладони стирая влагу с губ.
Лишь какое-то время ему удавалось поддерживать маломальский порядок за столом, дирижировать веселой, разноплеменной и всевозрастной компанией, потом застолье раскололось на группы и группочки, у каждой появился свой вожак, завязался свой разговор, вспыхнула своя песня, и пошло-поехало, да чем дальше, тем неуправляемей и буйней. Иногда начатую малым кружком песню подхватывали все, дребезжали стекла под могучим напором многоголосого сплава, умолкали спорщики, вскидывали головы неумеренные питоки, и каждый старался прилепить свой голос к неукротимой, всесильной, хватающей за душу песне.
Даже Ивась нет-нет да и принимался подпевать общему хору. Негромко, без слов, но все-таки подпевал: «Турум-пум-пу-ум… пум-пум-туру-ум». Забывшись, выхватывал маникюрную пилочку и, привычно спрятав руки под стол, автоматически шлифовал и полировал ногти. Беспокойство, вызванное неожиданным соседством Крамора, давно улеглось, шампанское подогрело кровь, чуть-чуть замутило голову. Приятное, мягкое, дремотное тепло заполнило Ивася до краев, и он блаженствовал и уже не сожалел, что вместо воскресного преферанса пришел сюда, повинуясь Кларе. Сегодня она какая-то ненормальная. Что зацепило ее? Брызжет искрами. Глянул на жену мельком, исподлобья. «Как поет! Будто ей за это платят… Шизики. Ничего не умеют в меру. Мало биты. Бакутин схлопотал по загривку – присмирел было, вытряхнул одержимость. Не насовсем. Опять занесет, не надо быть пророком – занесет! Двужильные ортодоксы. И бьют, и мнут, и ломают, а все неймется… Юродивого Крамора вон куда кинуло. Потешается боржомчиком. Сорвется. Потужится, попыжится и снова булькнет…»
– Что он тебе сказал?
Совсем рядом широко раскрытый, блестящий Кларин глаз, закушенная нижняя губа. По раскрасневшемуся лицу бродят недобрые тени.
– Кто?
– Художник.
– Откуда ты его знаешь?
– Что он тебе сказал?
– М-м… Я же говорил. Ничего особенного…
– Ну-ну… Этот сом, хрященосый и кадыкастый, Шорин, что ли?
– Надо знать своих героев.
– Своих я знаю…
Зот Кириллович Шорин охотно пил и пел со всеми вместе. И смеялся громко, раскатисто и чокался так, что стаканы трещали, и на шутку отвечал шуткой, но жена Анфиса сразу приметила, что муж сегодня на взводе, ищет и хочет схватки с кем-то, – помилуй бог, если с начальством! – и думала, как бы отвлечь, помешать, увести отсюда до тех пор, пока вино не сбило оковы с языка, а путы с рук. «Ох, не приведи и помилуй», – вздыхала женщина, сторожко наблюдая каждый жест, ловя каждый взгляд мужа. А тот все чаще пил и, кажется, не пьянел, только глазом косил огнево и люто, будто заарканенный дикий жеребец, да крупные влажные зубы скалил, запрокидывая небольшую голову, словно неведомая сила гнула ее к столу, при этом он как-то странно не то подкашливал, не то покрякивал и все накалялся и накалялся, приближая неотвратимый роковой таран. Анфиса пробовала заговаривать с мужем, тащила танцевать, громко и подолгу смеялась над его несмешными шутками и несколько раз заговаривала о неотложных домашних делах, о том, что утром ему в Туровск на областной слет ударников коммунистического труда, но Шорин только отмахивался: «Отстань!» – и подливал себе в рюмку. Проследив взгляд мужа, Анфиса наконец угадала, с кем надумал схватиться Зот. «Где ему Фомин дорожку перешел?» Рядом с Фоминым сидел Бакутин. «Этот не смолчит, не отойдет. Ой, господи!»
В самый разгар пира, когда веселье стало всеобщим и вовсе неуправляемым и каждый делал, что его душеньке угодно: пел, пил, танцевал или изливал душу соседу, Шорин вдруг поднялся рывком, секунду-другую постоял, обретая нужную твердость и стойкость, и, подхватив свою рюмку, прицельно двинулся к Фомину, который что-то говорил на ухо Бакутину, обняв того за плечи. Лохматый, красный Бакутин согласно кивал, поддакивал. Он давно уже был без галстука, воротник рубахи расстегнут, пиджак болтался на спинке стула.








