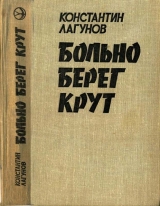
Текст книги "Больно берег крут"
Автор книги: Константин Лагунов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
К концу снегопада начало круто холодать, когда же наконец снег перестал сыпаться, вытвердел такой ядреный, звонкий и бодрый мороз, что все живое задвигалось с удвоенной быстротой. А холод все наддавал да наддавал, пока не докатил до минус пятидесяти четырех градусов – что даже здесь, на запятках у Севера, не часто бывает.
От холода небо стало высоким, бледно-синим и прозрачным. Металл подернулся пугающей синевой. А постоянно окуриваемые паром рабочая площадка, трап и мостки буровой покрылись наледью, и отовсюду свисали пудовые сосульки.
По шутливому определению Данилы Жоха, в бригаде ввели боеготовность номер один. С морозом какие шутки? Смотри в оба, слушай в оба, всегда будь на взводе: зеванул – и авария. То раствор замерзнет, то инструмент прихватит, то паропровод перехлестнет. Знай пошевеливайся. А стоит замереть ротору и лебедке постоять недвижимо чуть-чуть на таком собачьем холоде, и пиши пропало, не отогреть потом, не оживить.
Вот и крутились все, будто наскипидаренные. Кочегар держал давление пара на пределе. Дизелисты не спускали глаз с двигателей. Помбуры запарились, скалывая и отпаривая кипятком лед с рабочей платформы и с трапа.
Одно радовало всех – мастер повеселел. Отлепилась хворь от него, и теперь он наверстывал слопанное недугом время. В ватнике и стеганых брюках, в высоких кирзовых сапогах, обутых на меховые чулки, Фомин как будто и не чувствовал стужи. Верхняя пуговка куртки, как всегда, расстегнута, слабо накрученный шарф висел на шее хомутом. И ходил мастер неторопко, и движения были ровные, экономно прицельные.
Пока метелило, буровая была отрезана от базы и одной вахте пришлось подряд три смены работать. Подменяя друг друга, Фомин и Данила Жох двадцать четыре часа простояли у тормоза. Едва снегопад стал стихать, над буровой завис МИ-4.
– Два дня отгул вам за сверхурочные, – сказал Фомин улетающим рабочим. – Отсыпайтесь до пятницы.
– Мы что, пенсионеры, трое суток отсыпаться? – возмутился Егор Бабиков. – Если так…
– Так не так – перетакивать не будем, – нетерпеливо перебил Фомин. – Люди должны отдыхать.
– Шоринцы в этом году сорок тысяч метров проходки хотят выжать, – не унимался Егор. – Это же рекорд! Чем мы хуже? У нас тоже тридцать три намотано. И целый месяц впереди. Поднажать всем гамузом и…
– Рекорды не хребтом, мастерством брать надо. Ловкостью да сноровкой. А ежли мы по три смены вкалывать будем, то пусть хоть вдвое больше других набурим, какая тут победа?
– Кому какое дело, сколько мы вкалываем? – вмешался Данила Жох. – Дадим, к примеру, сорок тысяч метров. На наших грунтах да глубинах – это уж точно всесоюзный рекорд. И слава тут, и премии, и прочие блага да почести. Чем больше, тем лучше. Нам и государству…
– Ты что, Данила! Придуриваешься иль спятил?
Понял Данила Жох, что мастер осердился, и поспешил попятиться, да еще так, чтоб не оставить в душе мастера ни соринки сомнения:
– Я-то шучу, Вавилыч. А есть промеж нас, для кого такая позиция – настоящее кредо…
Сморщился Фомин, как от кислого.
– Понахватался словечек, трясешь ими к месту и не к месту.
– Надо эрудицию повышать, Вавилыч, – не замешкался с ответом Данила. – Больше знаешь – меньше непонятного.
– Одного грамотея на бригаду – за глаза, – без обиды и подначки сказал Фомин. – Только думаю, не от большого ума к чужим словам тянешься. Иль беден наш язык? И нет в нем такого слова, чтоб это кредо по-русски выразить?
В другой раз Данила, может, и поспорил бы с мастером, но сейчас отступил, сказал примирительно:
– Есть, конечно. Кредо – значит программа, линия поведения… Недавно мы на эту тему с Шориным диспут изобразили. Он и выложил про процентики, не пахнут, мол. Я – в штыковую. Зот подзавелся, такую красную линию своего мировоззрения начертил – ого! Получилось примерно так: всяк не дурак к себе гребет, да не у каждого неприметно получается… Самое обидное – прав он во многом.
– В чем же? – затревожился Фомин.
– В том хотя бы, что многих держим здесь рублем. Только нефть дай, а остальное приложится – вот на какой оси все вертится. Уже сто миллионов в прицеле держим, а кругом…
Махнул рукой и умолк Данила. В широкий лоб врезались извилины морщин. Меж бровями набрякла приметная складка. И глаза сабельно посверкивают… Горяч Данила. Прям и остр, как кинжал. За то, пожалуй, и отличает его от прочих мастер. За то и чтит. И хоть не балует ласковым словом, но прислушивается, советуется, поддерживает. А сейчас не поддержал. И не потому, что не прав был Данила, а потому, что не любил Фомин за чужие спины хорониться, во всяком просчете первым себя виноватил.
– Ты не горячись. Икромет не устраивай, – с отрезвляюще грубоватой прямотой заговорил Фомин. – Скажи лучше, что мы сами-то сделали, чтоб не так было? А? Знаю, не везде наши руки дотянутся. Но в бурении-то мы хоть чего-нибудь да стоим, чего-нибудь да можем. Можем или нет?
– Н-ну, – Данила передернул плечами.
– Затеяли с кустами, с наклонным. Ладно ведь все. По уму и шибко важно. Кукарекнули промеж собой, на косой взгляд Гизятуллова накололись – лапотки сушить…
– Не хотел я тебе до времени говорить, Вавилыч. Был я у редактора «Турмаганского рабочего». Сговорились тиснуть там открытое письмо насчет кустов и наклонного. Чтоб под десятое ребро и Гизятуллова, и кто за ним…
– Чего ж молчал? – насупился Фомин.
– Редактор обещал нагрянуть в бригаду, хотел, чтоб сам ты ему высказал.
– Авторитет мне делаешь?
– Он давно сделан, дай бог всякому. Твоя придумка, вот и хотел, чтоб из первых рук…
– Что-то не спешит твой редактор, – пробубнил Фомин, остывая.
– Черт его знает. Может, и он живет по-шорински…
– Чего ты все на Шорина наскакиваешь? Дорогу, что ль, тебе перешел?
– Не мне, а нам! И не перешел, заступил! Еще как! – замахал руками Данила. – Он бригаду зажал премиями да работой. По двенадцать, по четырнадцать часов вкалывают без передыху. Один выходной кинет в месяц, и все – молчок, потому что заработка выше – ни у кого, премий больше – тоже. У него буровик – шестьсот рублей в месяц, как минимум. Не всякий профессор столько-то… – Перевел дух и уже мягче: – Рубль, конечно, погоняла испытанный, да нам любой погоняла ни к чему. И переплюнуть Шорина по проходке – это, если хочешь, политическая задача.
На курносом, как будто слегка приплюснутом, красном от мороза и волнения лице Фомина совершенно отчетливо проступило: «Вон оно что! Ловко подвел». А на словах это мастер выразил так:
– Зорок ты, Данила. И чуток. По-рабочему. Не миновать нам с Шориным – это ты точно. Только его умом да искусством обойти надо. Чтоб ни переработок у нас, ни аврала, ритмично и спокойно, а показатели – выше. Вот тогда ты и политически наверху. Согласен? Ну, лети, вертолет ждет. Загляни к нашим, скажи, где-нибудь к вечеру буду дома.
– Сделаю! – заверил Данила, обрадованный тем, что есть повод заглянуть к Наташе Фоминой.
2
Сколько помнит себя Наташа Фомина, всегда они жили в геологических поселках, не в вагончике-балке, так в бараке либо в маленьком самодельном домике. Несмотря на редкостную аккуратность и хозяйственность матери, их семейное гнездо всегда имело приметы временности, скрытой готовности к перелету. Вот откроется дверь, войдет отец и, еще не сняв шапки, скажет ласково: «Ну, Мариша, в путь», – и сразу, вроде сами собой, оживут, задвигаются вещи и предметы, сгрудятся в кучи, полезут в мешки и ящики, и отцу останется только перевязать, заколотить, погрузить и… полетели, поплыли, поехали – бог весть в какую еще глушь, и там снова с вагончика, а бывало, и с палатки, и даже с землянки.
Свои поселки геологи всегда лепили на берегу рек, подле доброго леса, и детство и юность Наташины прошли на природе. Отец на курорты не ездил, а, облюбовав в приречной глухомани уголок поживописней, ставил там палатку, забирал жену с дочерью, и они целые дни рыбачили, собирали ягоды, грибы, били кедровые шишки, солили, мариновали, вялили, варили, заготовляя впрок, на долгую, суровую зиму.
Еще мокроносой девчушкой Наташа могла на верткой лодчонке перемахнуть по-ненастному зауросившую реку, без солнца и звезд определить в лесу нужное направление, умела закинуть перемет и поставить самолов, управлялась в одиночку с мережой и мордой, по-охотничьи метко и расчетливо стреляла из ружья.
Ее называли папиной дочкой за то, что сызмальства держалась ближе к отцу, чем к матери, хотя и любила ту и почитала. Только в школе Наташа появлялась в платье, а на улице щеголяла в самодельных шароварах, парусиновой куртке и легких сапожках. «Ой, отец, – не раз упрекала Фомина жена, – сделаешь ты из нее мужика, а ить ей и невестой и женой быть…»
Не омужичилась Наташа, не огрубела от близости природы, едва переступила пятнадцать, а парни уж зароились вокруг, одаривая вниманием. Она вроде бы никогда не спешила и всюду поспевала. Не проходило без нее ни концерта самодеятельного, ни состязания спортивного, ни туристского похода. «Что сзаду, что спереду – чистый парень, – с притворным сердцем не раз выговаривала мать по-мальчишечьи одетой дочери. – Хоть бы волосы не обрезала». – «Мамочка! Обещаю тебе к двадцати отрастить вот такие косищи, чтоб было за что суженому держаться». Шутливое обещание Наташа выполнила. Вырастила, выхолила пышные волосы, только в косы их заплетала редко, все больше ходила с распущенными.
Еще подростком Наташа стала сочинять стихи. Те были какими-то неземными, оттого прилипчивыми и волнующими.
Отец хотел, чтобы Наташа выучилась на инженера, мать – на врача, а она поступила на филологический факультет Туровского педагогического института. И в тот же год стихи Натальи Фоминой стали появляться в областной комсомольской газете, зазвучали по радио и телевидению. Несколько стихотворений опубликовали «Юность», «Смена», областной альманах «Сибирские просторы». Но профессиональным поэтом она не стала и счастливо избежала влияния литературной богемы. Она сразу и навсегда отказалась участвовать во всевозможных поэтических вечерах, Неделях и Днях поэзии, никогда не читала своих стихов со сцены.
Угловатая, стремительная девчонка за четыре институтских года превратилась в цветущую девушку, до кончиков пальцев налитую хмельными соками. Они бродили, перекипая в ней, постоянно подогревая, волнуя, радуя.
В Турмагане было две средних школы. Одна – в новеньком четырехэтажном здании с мастерскими и спортзалом. Другая, в которой и работала Наташа, размещалась в шести зданиях и занималась в три смены. При распределении нагрузок и составлении расписания в первую очередь учитывались желания пожилых, семейных учительниц, потому и вышло так, что Наташин рабочий день начинался в восемь утра, а заканчивался в восемь вечера, зато в середине дня получалось неудобное четырехчасовое «окно». Да и классное руководство ей поручили в самом недисциплинированном, с недоброй славой десятом «Б». Потом комитет комсомола уговорил Наташу руководить школьным литобъединением, партком утвердил ее агитатором, товарищи по профкому закрепили за ней культурно-бытовой сектор. Стоило прочесть на школьном вечере доклад о творчестве Сергея Есенина, как тут же ее сделали нештатным лектором горкома партии. На комсомольской конференции молодую учительницу избрали членом горкома. «Кто везет, на того и валят», – так отреагировал на эту весть отец.
К немалому удивлению подруг, Наташа не только не отнекивалась от сыпавшихся нагрузок, но принимала их с непоказным доброжелательством и еще благодарила за доверие. Она никогда не сетовала на занятость, не бегала запыхавшись, растрепанная и всклокоченная. Рядом с ней – всегда нарядной, светлой, довольной – непременно потухали раздражительность и взвинченность и минуту назад наскакивающие друг на друга люди начинали разговаривать спокойней, добрели их взгляды и голоса. «Рядом с ней неловко громогласить да руками размахивать», – смущенно признался как-то школьный физрук. И с ним согласились: это была правда.
Новорожденный нефтяной город Турмаган был не только молодежным (средний возраст – 23 года), но и холостяцким: одна девушка на трех парней. Молодую красивую учительницу сразу приметили, и Наташа вечером ни разу не пришла из школы без провожатого. Одни ухаживали за ней робко, с очевидной безнадежностью и глубоко упрятанной надеждой, другие, что называется, сразу «шли на таран», требуя немедленной взаимности… Первым она позволяла провожать, терпела их соседство в клубе, охотно разговаривала, даже принимала цветы, конфеты. Вторых, говоря молодежным языком, отшивала так же категорично, как те объяснялись. И только отношения с Данилой Жохом оставались неясными…
Когда-то они учились вместе, в одном классе. Вместо ревущего, сверкающего, дымящего Турмагана тогда здесь был крохотный поселок нефтеразведчиков, в котором по соседству жили буровой мастер Ефим Фомин и отец Данилы – плотник Варлаам Жохов.
Тринадцатилетний Данилка влюбился в вертлявую, всегда окруженную мальчишками Наташу. И до того острым было это нежданно подсекшее подростка чувство, что тот не раз плакал от обиды и ревности и чего только не вытворял, чтоб другим и себе доказать неприязнь к Наташе: придумывал ей обидные прозвища, задирался, сажал в портфель лягушек.
Наташа не только не спускала задире, но и сама наскакивала. Не зацепив, не могла двух шагов пройти, минуту рядом молча просидеть.
На новогоднем маскараде пятнадцатилетний Данила Жох, спрятав пылающее лицо за маской мушкетера, еле вымолвил спекшимися губами те самые три слова. Ошеломленная Наташа отпрянула, пробормотав что-то мало вразумительное. Но вот они снова очутились вместе, и снова Данила, как в бреду, выговорил те же слова.
С тех пор он не задирался, молчал в ее присутствии, а если оказывался между ними третий – злился и не мог скрыть этого. Она смеялась и подтрунивала, больно царапая самолюбие Данилы. Тот вспыхивал, но терпел. Иногда убегал, несколько дней сторонился Наташи, и – странное дело – без него девушке делалось неуютно и одиноко, и она сама скарауливала подростка, первой подходила, заговаривала, но только тот вспыхивал и готов был открыто и громко повторить те самые прекрасные слова, как Наташа начинала дерзить и кривляться…
– Я убью тебя, – сказал он однажды.
– Из духового пистолета? – и засмеялась.
– Уйду из школы…
– Дураков не пашут, не сеют…
– Эх ты… – замялся, подыскивая слово. – Снежная королева, – голос дрогнул. Данила вроде бы всхлипнул надорванно. – Льдинка! – Обида брала верх над другими чувствами, злоба прорезалась во взгляде, покривила лицо. – Ледышка!..
– Успокойтесь, гномик. Вам вредно волноваться. Ненароком шейку вывихнете иль ножка подломится…
– Ну, ладно… Ладно… Ты еще… Я тебе… – и убежал.
В школе его больше не видели. Парнишка прилепился к бригаде Фомина и, едва минуло шестнадцать, стал помбуром. Наташи избегал. Случайно столкнувшись, они старались не замечать друг друга.
В поселке все знали: Данила безнадежно и безответно влюблен, из-за того бросил школу, рабочим стал. Однако никто малого не исповедовал, в душу к нему не ломился, с советами не навязывался. Только бывшая классная наставница, встретив раз Данилу, сказала буднично и скороговоркой:
– В дела твои не лезу. Ни советовать, ни подсказывать не берусь… Школу зря бросил. За такую девушку надо драться. Малограмотный рыцарь в наше время – какой соперник?..
Смолчал Данила, а осенью поступил в восьмой класс вечерней школы. Кончил восьмилетку – сразу в заочный техникум. Еще необмытый диплом вместе с заявлением принес минувшим летом в приемную комиссию заочного отделения Туровского индустриального института.
За эти годы в отношениях Данилы с Наташей произошла разительная перемена. Когда на первые летние студенческие каникулы она приехала в Турмаган, молодые люди встретились как старые друзья. Вроде и не было промеж ними ни объяснений, ни размолвки. Вместе бродили по тайге, вместе в кино и на танцы, переговорили и переспорили обо всем на свете, ни разу не обмолвясь о прошлом: что было – быльем поросло.
Иногда Наташа ловила на себе тот взгляд, так волновавший и тревожащий ее, и замирала в ожидании. Но Данила спешно отводил глаза и заговаривал бог весть о чем. Оттого ей еще нестерпимей хотелось услышать те слова, хотелось, чтоб обнял, поцеловал…
И однажды это случилось. Неожиданно. На берегу Оби. Данила вдруг обнял, притиснул к груди, больно и сладко поцеловал в губы. Закружилась голова, и, чтоб не упасть, она обхватила парня за шею. Если б в тот миг шепнул он те слова… а он:
– Любишь?
И потревожил, насторожил, спугнул.
– Пусти, – еще нетвердо выговорила она.
Тут бы только шепнуть жарко и потерянно какую-нибудь разбанальную бессмыслицу, лишь бы было в ней то словечко волшебное, дохнуть сердечным теплом, а Данила с самодовольной ухмылкой.
– Упадешь ведь.
И вдребезги очарованье.
И сразу обида выстудила душу.
И Наташа уже не попросила, а приказала:
– Пусти сейчас же!
Он крепче прижал, ищуще потянулся улыбающимся ртом. Сердито сверкнув глазами, Наташа вскинула локти, отвернула лицо.
Наверняка смог бы тогда Данила сломить ее, силой взять то, чего хотел. Но он любил. Потому перемог соблазн. Разжал сцепленные за ее спиной железные пальцы. Отстранился. Трудно и натужно перевел дух.
Молча поворотилась Наташа спиной к парню и – бегом в поселок. Больше до конца каникул их не видели вместе.
Когда, полгода спустя, на несколько зимних дней Наташа вновь появилась в Турмагане, Данила тут же примчался, позвал в кино, но был встречен с таким ненаигранным безразличием, что растерялся и жестоко попенял себя за то, что не посмел тогда на берегу. Она, видно, угадала его мысли, устало улыбнулась, сказала не то сожалея, не то осуждая:
– Ничего не повторимо в жизни. Ни-че-го. В кино я не хочу. Никуда не хочу. Приехала отоспаться…
– Завтра у меня выходной, махнем на лыжах, – словно не замечая ее настроения, с наигранной веселой беспечностью предложил он.
– Хороши лыжи, когда хороши ноги, хороши ноги, когда хорошо сердце, хорошо сердце, когда в нем любовь, – молитвенно-монотонной скороговоркой выговорила она. Улыбнулась нехотя, сонливо сощурилась. – Отложим до лета. Доживем, наверное…
Дожили. Воротилась насовсем.
Глянул тогда Данила на спелое, ликующее тело в легкой кожуре ситцевого платьица и обалдел от мысли, что может уступить, потерять ее навсегда… С той самой встречи на именинах мастера и треснула, раскололась пополам жизнь Данилы Жоха. Одна его половинка торчала на буровой, всюду поспевала, за всем следила, на лету ловила и слово и взгляд мастера, а другая тенью кралась по пятам Наташи, сторожко следя за каждым шагом, жестом, словом и взглядом девушки, и то замирала от ревнивой обиды, то клокотала от невыплеснутой страсти. Тогда Данила становился запрограммированным роботом, который все исполнял своевременно и точно, но без смысла. Опомнясь, парень в сотый раз говорил себе: «Надо решать. Ставить точку. Время не на меня работает, это факт». А удастся ли решить так, как хотелось, поставить точку там, где нужно? – сомневался, оттого казнил себя и презирал.
3
– Наталья Ефимовна, опять вас буровик под окном караулит, – с восторженным испугом шепнула пионервожатая.
Проворно засунув в портфель тетради, Наташа торопливо оделась и вышла. Несмотря на дикий мороз, Данила был в ботинках и уши у шапки не спущены, только воротник дубленки торчком.
– С ума сошел: пятьдесят три, а он в ботиночках…
– Осточертели унты да бахилы. Думал, по случаю холодов у вас «окошечко»…
– С первого по восьмой, а старшеклассники учатся. Чего прибежал?
– Служебный долг. Мастер поручал известить домочадцев о возможном прибытии в собственные апартаменты во второй половине сего дня.
– Фу, как выспренно и длинно. Голова закружилась.
– Поддержать?
– О столбик обопрусь. Надежней.
– Велико удовольствие со столбом обниматься.
– Зато никаких неожиданностей.
– Что за жизнь без неожиданностей?
– Отложим дискуссию до потепления.
Натянула поглубже длинноухую лисью шапку, подняла воротник пальто и заскользила легко по тропе, пробитой в сугробах.
Слушала, как пронзительно скрипит позади снег под ботинками, еле справляясь с растущим желанием повернуться, кинуться на шею. Как он тогда ей обрадуется.
Стиснет. Зацелует. На таком морозе губы, наверное, тоже холодные.
Скрип за спиной стал отдаляться. Наташа встревоженно глянула через плечо. Зажав в пригоршнях горящую спичку, Данила прикуривал. Дым крошился будто тончайшие стеклянные нити. Беззвучный их распад непонятно отчего вдруг больно зацепил Наташу. «Все в жизни так – ни следа, ни звука. Ни осмотреться, ни помыслить – недосуг. Лишь глядя вслед, постигаем суть… Чего жду? Не безразличен. И любит. Сколько лет, а не остыл. Чего ж еще? Двадцать три. Пора. Зажмуриться, вдохнуть поглубже и…»
– Оттирай щеки! – озорно крикнул встречный парень.
На всякий случай легонько потерла щеки. Бегом влетела по ступеням, толкнула дверь.
– Привел вам беглянку, Марина Ермиловна, – сказал Данила выглянувшей в прихожую хозяйке.
– Раздевайся. Напою чаем со смородинным вареньем.
– Что чай, когда душа…
– Настойки просит, – договорила Наташа, смеясь.
– Можно и настойки, – с готовностью подхватила Марина Ермиловна.
– Спасибо. Побегу домой. Тоже редкий гость. Еще в редакцию заскочить надо.
– Рука к перу, перо к бумаге? – зацепила Наташа.
– Без меня графоманов навалом. С редактором рандеву. Есть такой там Иванов.
– Есть, – подтвердила Наташа. – Унылая личность. Лоб – Сократа, лик – Купидона, а по сути… говорящая медуза.
– Вот так характеристика. Ха-ха-ха! Откуда такая осведомленность?
– Комсомольцы литобъединение при газете сколотили. И меня втравили. Пришлось установить контакт с местными журналистами и лично с товарищем редактором. Тебе он зачем?
– Слышала, наверно, от отца о кустовом да наклонном бурении?
– Слышала, – передразнила Наташа. – Да он и во сне кусты видит. Если б не стал поперек Гизятуллов…
– Именно! Вот мы и решили перескочить его с помощью «Турмаганского рабочего». Был я у Иванова. Загорелся, пообещал тиснуть открытое письмо бригады с редакционными комментариями. Мы черновичок коллегиально заготовили, ждем-пождем – нет Иванова, а время не терпит. Самый подходящий момент уплывает. Сейчас только и строить кусты. Хотел тот черновичок в собственные руки. Но если твоя аттестация…
– Может, и не права я, – поспешно попятилась Наташа. – Каждый человек – загадка.
– Значит, пойду разгадывать Иванова. Вечером загляну.
– Непременно, Данилушка, – пропела Марина Ермиловна в спину уходящему Даниле. А когда дверь затворилась, сказала дочери: – Чего парня за нос, ровно несмышленыша, водишь? Лет шесть, поди, веревочка промеж вами вьется, а все конца не видать. Пошто так-то? Люб ведь…
– Ах, мама. Сама не пойму. Иной раз люб вроде. Помани, кажется, скажи только – все кину, побегу. А станет к черте подступать, заговорит и…
– Шибко много значенья словам нынче. Только тут вовсе они ни к чему. Разве есть слова, чтоб любовь высказать?.. – Умолкла. Перевела взгляд на окно, затянутое ледком узорчатым, и отрешенно, как в бреду: – Бывало, по шагам Ефима отличала. Заслышу, захолонет все во мне. Голова кругом, а сердце вот-вот выскочит. За руку возьмет – ровно кипятком меня. Жар нестерпимый, а дрожу. Господи! Какие тут слова? Зачем? Со свиданья до утра не засну. Воздуху, простору мало. Теснит в груди, ровно обручем перехватило. И сладко-то. И жутко. И все бы летела, летела, да все бы вверх, да чтоб шибче…
Нежданное откровение матери изумленная Наташа слушала, полуоткрыв рот и по-иному – просветленно и вдохновенно – озирала мир, и себя, и мать, которая вдруг неузнаваемо помолодела: исчезли мешки под глазами, пропала отечность век, зарумянились, поядренели щеки, губы стали спелыми, а глаза, вспыхнув, заструили волнующий свет.
Никогда прежде мать не заикалась о своей любви. Порой Наташе казалось, что никакой любви мать не ведала, замуж вышла, как выходили в ту пору тысячи других – не по принуждению, так по совету старших либо просто потому, что приспело время рожать детей…
А мать, прижав левую ладонь к все еще крепкой, высокой груди и слегка запрокинув голову, говорила и говорила, словно бы в забытьи:
– Не загадывали, не рассчитывали, что да как будет. Только бы вместе… Отец мой как узнал – куда там! «За прощелыгу, бездомника…» Убегла я. В окошко вымахнула и… Пока через огород семенила, думала, сердце на куски со страху. А как пала на руки ему, поднял он, поцеловал, и я хоть на крест… Ни разу не спытала, любит ли. И сам – ни клятв, ни обещаний… К чему слова? Нету таких слов. Не придумали… – Опомнилась. Густо покраснела. – Да что это я? Никак, тронулась. Такое тут тебе…
– Мамочка, – порывисто обняла мать, прижалась к ней. – Милая. Спасибо. Спасибо, родная, – и крепко расцеловала смущенную Марину Ермиловну.
Глава тринадцатая
1
Мертвой хваткой мороз стиснул Турмаган: ни шелохнуться, ни вздохнуть. Непроницаемый белый морок плотно окутал землю, размыв, сместил грани предметов. В клубах нерастворенного отработанного газа медленно, словно на ощупь, двигались по бетонке автомобили, предостерегающе тревожно гукая. К ночи туман густел, чернел и земля сливалась с небом. Свет уличных фонарей беспомощно расплывался во мраке желтыми кляксами, те жалобно мерцали, придавая ночному городу фантастический вид. Это впечатление усиливалось от тишины, настолько плотной и непроницаемой, что казалось, протяни руку и коснешься ее шершавой чугунной твердости, крикни – и та расколется.
Иногда с севера наскакивал жгучий ветер, но и он увязал в морозном белом мареве, как осетр в неводе, и, обессилев, стихал.
Сторукий, стоногий, стоглазый когтистый холод нахально засматривал и лез в любую щелочку, самую малую трещинку, крохотную дырочку в окне, стене, одежде.
Замерз картофель в непригодном к таким холодам, наспех построенном овощехранилище.
Лопнул водопровод и вывел из строя недавно построенную баню – единственную на пятнадцать тысяч человек.
На красной черте дрожали стрелки манометров в котельных, а в продуваемых щитовых и брусчатых, привезенных сюда за тысячи верст, сборных домах замерзала вода, в неутепленных подъездах то и дело взрывались размороженные батареи.
Густела от холода нефть во временных трубопроводах, кинутых наспех поверх болот. Стоило оператору проморгать падение давления в трубе, и готова пробка, и нефтепровод по швам: катастрофа!
Каждую ночь в больницу привозили обмороженных. Клара Викториновна сутками не показывалась дома. Под «скорую медицинскую помощь» оборудовали несколько вездеходов.
Маломощная аварийная служба сбивалась с ног. Черкасову, Бакутину, Рогову и иным, хоть как-то причастным к организации быта, бесцеремонно звонили в любой час ночи, требуя, прося, угрожая.
Не по разу в ночь выла пожарная сирена. Спасаясь от лютой стужи, турмаганцы мастерили мощные электрические «козлы», устанавливали самодельные электрокамины и печи, от которых сгорел не один балок. Пока пожарные машины пробивались по бездорожью к пылающему вагончику, от него оставался лишь металлический скелет. Едва отстояли от огня единственную пекарню, и три дня Турмаган жил без хлеба на макаронах и крупе. В больнице и детсаде пекли блины, оладьи, лепешки. Подобрали и поели почти весь неприкосновенный запас сухарей.
Спеленутые холодом, замерли краны, задрав стылые металлические хоботы в белую мглу и как будто беззвучно воя. Отпугивающе посверкивая заиндевелым металлом, костенели тракторы, бульдозеры, тягачи. Непригодные к подобным холодам, омертвели тысячи механизмов и машин. Строители, дорожники, трубоукладчики, буровики, монтажники «тянули» двигатели на себе, заставляя машины крутиться хоть в четверть силы. Иначе – затяжной простой и еле посильные планы и графики – кувырком, а самое благоприятное для обустройства время – мимо…
– И все из-за того, что кто-то там не хочет ни мозгами, ни руками шевелить…
Так сформулировал свое отношение к происходящему Бакутин, глядя прямо в глаза начальнику главка Румарчуку, нежданно нагрянувшему в Турмаган. Румарчук, похоже, и сам был не рад тому, что угодил сюда в кризисные дни. Попав под леденящий душу пятидесятичетырехградусный мороз, он хоть и легко, а все-таки дважды обморозил щеки, волей-неволей вынужден был вмешиваться в ликвидацию аварийных ситуаций и до того вымотался и взвинтился, что, когда Бакутин со злым, неприкрытым вызовом высказался о тех, кто «мозгами не хочет шевелить и шлет в Заполярье дома, машины, технику в среднеевропейском исполнении», Румарчук сорвался.
– Мастера мы разносить да прожектерствовать, – жестким, неприязненным голосом чеканно выговорил он, рубанув воздух сухой, узкой ладонью. – Новая техника не вдруг рождается. Нужен еще и специальный металл…
Сразу уловив, куда нацелен гнев начальника, Бакутин все же не попятился.
– Сюда мы не вдруг свалились. Геологи почти пятнадцать лет топтали здешние болота. Было время приглядеться и примериться. Да и Приобье – не единственный уголок. Чем лучше по климату Норильск? А Магадан? Якутия? Полстраны за Уралом…
Этот зеленый выскочка бесцеремонно подставлял ножку начальнику главка. Такого Румарчук снести не мог и походя прищемил язык задире:
– Не на то энергию тратите, товарищ Бакутин. Вместо обустройства месторождения – критиканство, нелепые наскоки, какие-то утопические прожекты сочиняете…
Перепалка эта вспыхнула в вертолете. Румарчук со свитой и Бакутиным возвращались из Карактеево, где сооружалась первая перекачивающая станция аврально строящегося нефтепровода Турмаган – Иртышск.
Вертолет летел низко над трассой строящегося трубопровода. Вопреки всем инструкциям, допускам и нормативам, трассовики работали. Пробиться через оцепившие Турмаган болота можно было только зимой, и строители дня не хотели да и не могли терять из-за холодов.
Румарчука злило то, что трассовики работали в сложнейших условиях, а он – начальник главка – вместо того чтоб пресечь подобное, делал вид, будто ничего особенного не происходит. Угадав это, Бакутин не развеял мрачное настроение начальника, а взял да и ткнул тому прямо в больное:
– Сюда бы тех, кого вы так старательно оберегаете от критики… – и кивком головы показал на оконце.
А там, внизу, под плывущей тенью вертолета копошились неуклюжие маленькие люди, горели бивачные костры, темными кубиками прилипли к снегу одинокие вагончики с черными гривами дыма.
Ершистость Бакутина прямо-таки бесила усталого, промерзшего Румарчука. Его царапнуло по самолюбию и то, что Бакутин, не ожидая замешкавшегося начальника главка, первым вошел в вертолет и тут же по-хозяйски развалился в нем, скинув малахай с давно не стриженной, не обихоженной седой головы, закинув нога на ногу, и покровительственно-развязный тон, каким Бакутин стал пояснять происходящее под вертолетом. Ну, а последняя фраза Бакутина показалась оскорбительной, хлестнула по нервам начальника главка, и тот взбеленился.








