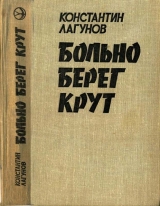
Текст книги "Больно берег крут"
Автор книги: Константин Лагунов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
– Пожалуйста, успокойтесь. Никуда я не суюсь, а все, что касается Тани…
– Да кто вы, наконец? – истерично выкрикнула Ася.
– Позвольте еще раз представиться. Остап Крамор. Художник. Имею честь называться другом этого дома. И не будь вы Таниной сестрой, я бы не преминул воспользоваться своими правами. Понимаете? Простите великодушно, но то, что вы делаете – жестоко. Жестоко и подло! Бить поверженного, да еще в спину? Не лучше ль подать руку. Поднять. Поддержать. Потом… Нет! И потом не надо. Не надо!.. Какой удар нанесла Танюше судьба. Но девочка устояла. Слышите? Выстояла! Знаете почему? Потому, что рядом добрые люди. Подперли. Оградили. Она воскреснет. Клянусь вам! Будет счастлива. Земным человеческим счастьем. Потому, что достойна. Потому, что любит ближнего и сеет добро…
– Прямо соборная проповедь. Уж не расстрига ль вы? – едко спросила Ася, нервически хохотнув. – Вот что, товарищ проповедник. Благодарю за драгоценные мысли и добрые пожелания. А теперь дайте возможность нам поговорить. – Отвернулась и ожесточенно забормотала: – Не только в чужие квартиры, в чужие души ломятся…
– Неужели вас, жену Бакутина, ничему не научила жизнь? – искренне подивился Крамор.
– При чем здесь жена Бакутина? – взвилась Ася. – Чему должна научить меня жизнь?
– Не хочу обижать вас.
– Ах! Какое великодушие! – Ася вскочила. – Он не хочет обижать. Он промолчит. Вы что? – и впрямь считаете себя пророком? Ха-ха-ха! Сотрясаете воздух пустопорожней болтовней и ждете благодарности? Поклонения?..
– Прощайте. – Крамор натянул было малахай, но, перехватив беззащитно умоляющий Танин взгляд, снова снял шапку. – Нет. Не уйду. Не глядите на меня так. Давайте попьем чайку, остынем, потом побеседуем…
– Ты что молчишь? – Ася поворотилась к сестре. – Хочешь, чтобы ушла я? Да? Этот бородатый бродяга тебе дороже единственной сестры? Ну что ж, пеняй…
– Остановитесь! – предостерегающе вскинул руку Крамор. – Прежде чем уйти, подумайте, как вернуться. Вы сюда зачем пришли? Что принесли? Сострадание? Любовь? Или невыплеснутую обиду и горечь. На себя. На мужа. На непокорную фортуну…
В самую больную, самую уязвимую точку Асиной души угодил Крамор, и, ослепленная обидой и болью, Ася взбеленилась. Сжав кулаки, она пошла на художника, выкрикивая:
– Юродивый! Кликуша! Я тебе не Танечка – пупсик-несмышленыш. До моей души не дотянешься: коротки иезуитские руки. Все вы тут… Ни законов, ни моралей. От алиментов, поди, сюда нырнул. Пачкун! Присмотрел девочку. Зелена, надломлена, беззащитна. На любовь не надеешься, жалостью повалить хочешь. Угадала? А? Угадала ведь, сукин сын. Блудня бородатая!..
– Уходи! – закричала Таня, слепо шаря вокруг рукой… – Сейчас же! И чтобы ты… Чтобы больше…
Тут и Крамор угрожающе шевельнулся. Асе показалось, что в руке у бородача сверкнуло что-то. Разом вспомнилось все, слышанное об убийстве Ивана. Страх подтолкнул, вышвырнул за порог…
2
Можно понять парней, которые, прознав о трех одиноких красивых девушках, под разными предлогами и без предлогов зачастили в самодельный домик на отшибе, бесцеремонно предлагая покровительство, дружбу, любовь. Жаждущие взаимности осаждали троицу и на работе. Набивались в провожатые, зазывали в кино и на танцы. Несговорчивость девчонок не отпугивала поклонников. Люсе, Даше и Тане не раз приходилось занимать круговую оборону, отбивая наскоки истосковавшихся в холостячестве парней.
Таня была старшей в девчоночьем треугольнике, она и придумала ему названье – девком, что означало девчоночья коммуна. Они и впрямь жили по канонам коммуны: все общее, все за одного. Сообща решали, кому что купить либо сшить, что стряпать на обед иль на ужин, по очереди блюли образцовый порядок в домике. Переписка с внешним миром была открытой, душевных тайн друг от друга не водилось.
Все трое по-прежнему работали в сфере обслуживания. Таня, не разгибаясь, целый день перепечатывала приказы, сводки, докладные, Люся взвешивала конфеты, печенье и прочие сыпучие сладости, а Даша потрафляла турмаганским модницам, работая швеей в КБО – комбинате бытового обслуживания.
Заработки у девчонок по турмаганским масштабам были не бог весть какие. Оклады не перелезали за сотню, северная надбавка – сорок процентов, а дополнительного «приварка» в виде премий и прогрессивок почти не перепадало. Чтоб вкусно и досыта поесть, нарядно и модно одеться, им приходилось постоянно изворачиваться и ловчить со своими «капиталами».
Когда самые стойкие ухажеры все-таки смирились с неуступчивостью и монашеской скромностью девкоммуны и жизнь в маленьком, залатанном домишке выровнялась, потекла плавно и прямо, а страшное горе потихоньку забывалось, и Таня все чаще стала улыбаться и шутить, вот тогда-то и приключилось это…
Люся не вошла, а невесомой тенью проскользнула в комнату. Раздевалась и переобувалась в уголке так долго и непривычно молча, что Таня с Дашей тоже смолкли, не спуская с подруги глаз. Делая вид, что не примечает их тревожных взглядов, Люся неестественно прямо прошла к зеркальцу на комоде и принялась металлической щеточкой расчесывать длинные выхоленные волосы. Освобожденные от шпилек и заколок, те покорно прогибались под щеткой, блестя живым черным серебром.
Наверно, в Люсиных жилах струилась не только славянская, но и татарская или иная восточная кровь, оттого лицо ее было и смуглым и скуластым, с азиатским разрезом глаз. Зато нос – нашенский, русский: курносый, с широкими ноздрями. И губы того же покроя – полные, добрые, улыбчивые. Стоя перед зеркалом, Люся спряталась от всевидящих глаз подруг и хотела только одного: зарыть поглубже тревогу. Однако получилось наоборот: чем сильней она этого хотела, чем упорней таилась и насиловала себя, тем больше волновалась и все печальней становилось лицо: плаксиво кривились губы, непрошеная влага мутила взор.
– Люсь, – тихонько окликнула Даша.
Дрогнули смуглые щеки, сплюснулись губы, повисла слезинка на сомкнутых длинных ресницах диковинной черноты.
– Ты что, Люся? – встревожилась Таня. – Да повернись наконец.
Покатые Люсины плечи дрогнули, голова надломленно упала, и она всхлипнула. Девчонки сорвались, подбежали, затормошили: что?.. Почему?.. Зачем?.. Кто обидел?.. Люся разревелась, и чем настойчивей и нежней успокаивали ее на два голоса, тем горше и безнадежнее рыдала и наверняка докатилась бы до истерики, если б Таня вдруг не прикрикнула:
– Прекрати! Сейчас же! Кому говорю!
И Люсины рыдания разом оборвались, слезы иссякли. Подняв полные слез глаза, кусая кривящиеся губы и всхлипывая, она выговорила:
– Пропала я, девочки.
– Ну, – нетерпеливо подтолкнула Таня.
– Совсем пропала.
– Перестань! – в Танином голосе и состраданье, и превосходство, и приказ.
Люся еще раз длинно всхлипнула и затихла.
– Рассказывай, – по-матерински мягко и непререкаемо повелела Таня.
– Посадят меня.
– Куда посадят? Зачем? – наивно переспросила Даша.
– В тюрьму.
– Не говори глупостей, – с мягкой укоризной, как расшалившемуся ребенку, выговорила Таня. – Объясни спокойно.
– Опять, наверно, Жеребчик Ершов! – негодующе выкрикнула Даша.
Люся согласно кивнула.
Ершов был директором самого крупного в Турмагане гастрономического магазина, в котором и работала Люся. Он был единственный мужчина в большом коллективе продавцов. Было ему не больше тридцати. Невысокий, литой, очень верткий и ухватистый. Идет, пританцовывая. Говорит – громко, гортанным голосом, с легким прононсом. Глаза у Ершова – яркие, беспокойные, озорные, а взгляд как пластырь: прилипнет – не отдерешь. Он был женат, растил двоих сыновей, но мать-природа создала его ненасытным, неукротимым и похотливым. Пристанет к женщине – ни мытьем от него, ни катаньем, либо уступи, либо по собственному желанию. Особенно яр становился Ершов в подпитии. Хмельному ему в укромном уголке лучше не попадайся. Ни возраст, ни семейное положение – ничто не влияло, лишь бы в юбке. Уркнув что-то невразумительное, сграбастает как медведь и почнет гнуть да ломать. И не одну сломил, прежде чем постигли его норов, научились ускользать из сильных липучих рук. Вот за то и прозвали его Жеребчиком. Иные молодки сами заигрывали с ним и довольны были и рады, вкусив от его любви.
Женщины постарше каждую новенькую сразу упреждали: стерегись хмельного Жеребчика. Предупредили и Люсю. И когда подконьяченный Жеребчик зазвал ее в свой кабинет, та и шагу не отошла от порога. В другой раз вовсе порог не переступила, глянула и поворотила назад. Чем осмотрительней и неприступней была Люся, тем сильней распалялся Жеребчик. Говорил ей походя комплименты, ласкал и голосом и взглядом, все время норовя прикоснуться. На производственных совещаниях хвалил, старшим продавцом выдвинул.
Как-то Люся зашла в кабинет Жеребчика подписать акт.
– Чего сторонишься меня, будто зачумленного? – спросил Жеребчик, накрыв акт ладонью.
– С чего вы взяли? – Люся попыталась изобразить на лице недоумение.
– Не финти. Царевну Несмеяну разыгрываешь? Мужа нет. Жениха – тоже. Какого же…
– Жених в армии. Скоро приедет, – соврала Люся.
– Когда приедет, тогда будет, а пока…
– Что пока? – засердилась глазами и голосом.
– Сама понимаешь. Не маленькая. Знаешь, отчего за телочкой бычок ходит. Ха-ха! Чего краснеешь? Бе-еда с этими…
В горле у Жеребчика булькнуло, глаза помутнели. Миг, и Люся оказалась в крепких, жарких объятиях. Уперлась ладонями в грудь, стала вывертываться, вырываться, замирая от мысли, что вот сейчас раскроется дверь и ее увидят.
– Я закричу, – пригрозила она.
– В этом подвале из пушки ахнешь – не услышат, – проурчал ослепленный страстью Жеребчик.
Кабинет действительно находился в подвале, где хранились продукты, и услышать их могли лишь случайно оказавшиеся поблизости складские работницы.
Люся укусила директора в плечо. Укусила больно, наверное, до крови. Тот дрогнул, чуть расслабил объятья, и тогда она влепила ему пощечину. Жеребчик отрезвел, выпустил девушку. Отер платком лицо, вернулся на место, не глядя, подмахнул акт. Вручая его, пригрозил:
– Больно прыткая. Как бы не раскаяться. Придется уходить по собственному желанию.
– И не подумаю, – отрезала Люся, – а о ваших… о вашем хамстве расскажу где следует.
– Н-ну, – нимало не смутясь, прогудел Жеребчик. – Ты, видать, не бита не пугана…
– Может, и пугана, – неожиданно сорвалось с языка Люси, вспомнившей вдруг Машкин гадюшник, из которого ее чудом вызволил Иван Василенко.
– Значит, мало пугана, – продолжал Жеребчик. – Жаль тебя, дуреху. Не я, так другой – все одно с колес. Здесь такой психологический микроклимат. Либо чья-то полюбовница, либо срочно выпрыгивай замуж.
– Спасибо за совет. Может, жениха приглядели?
– Чем я не жених?..
И понес такую околесицу о своей пылкой любви, что Люся неожиданно даже для себя рассмеялась. Жеребчик оскорбился, побледнел.
– Подумай, – сказал гневно, но все же увещевательно. – Сейчас подумай. Потом будет поздно. Жалеючи советую – уходи по собственному. Или… Только мигни. Все на высшем уровне будет. Не пожалеешь. И в чести и при деньгах, а надумаешь замуж – я в сторону.
– Дурак!
С тем и ушла.
Гордая и страшно довольная собой.
А уже на другой день стали падать камни с неба, и чем дальше, тем крупней и гуще посыпали. То бумагу на упаковку покупок дали грязную, а тут санинспекция, то сахар оказался сверх нормы влажным, а тут рабочий контроль, то вдруг инспектор торга обнаружил самую настоящую пересортицу. Запестрели нарекания покупателей в Книге жалоб, замелькала Люсина фамилия в приказах, пришлось со старших продавцов в младшие передвинуться. А сегодня сняли остаток и обнаружили шестьсот восемьдесят рублей недостачи.
– Внесешь недостачу утром – простимся по-хорошему. Не внесешь – в следственные органы, – громко, чтоб слышали все, сказал Жеребчик потрясенной Люсе, а подловив момент шепнул: – Приходи сегодня в девять. Гоголя шесть, квартира четыре. Друг в командировке, кроме нас никого. Посидим, потолкуем. Сговоримся – акт в печку – и забыто, заметано. Не придешь – пеняй на себя…
Исповедь подруги еле дослушала Таня, дрожа от негодования. В ней полыхало одно желание: спасти Люсю, покарать негодяя. Став вдовой, она и сама приметила недобрую перемену в отношении к себе многих мужчин. И хоть они не наскакивали, как Жеребчик, не предлагали, не преследовали, но в их взглядах, голосе, жестах что-то переменилось, и это «что-то» отдавало Жеребчиком. Раз одинокая – значит, ничья, горох при дороге, отчего ж не ущипнуть, не сорвать хоть стручок? Может, в этом и была какая-то жизненная логика, но Тане оттого было не легче, и, слушая сейчас исповедь подруги, она придумывала казни Жеребчику – одна страшней другой. Едва Люся выговорилась, Таня подхватилась:
– Пошли!
– Куда?
– Одевайся. Проучим этого гада. Расскажем все. Подымем…
– Кому расскажем? – уперлась Люся.
– И верно, кому? – подхватила Даша.
– Да одевайтесь вы, ради бога, поскорей! – сердито прикрикнула Таня. – «Кому, кому»! Найдем кому.
– Конечно, найдем, – тут же поддержала Даша.
– Сейчас, девочки, – засуетилась Люся. – Поспеть бы только. Семь уже…
– А хоть десять, – отрезала Таня. – Не видать ему…
– Ну и гад. Вот мерзавец! – негодовала Даша.
Но когда пробежались по морозцу – поостыли. Орешек-то оказался не для девчоночьих зубов.
Перебрали всех знакомых, обсудили возможные варианты и ничего утешительного не придумали, даже обнадеживающего – ничего. Встали девчонки возле бетонки кружком, голова к голове, и затихли. Мимо с сердитым рокотом проносились автомашины, обдувая сникших, растерянных девчат.
Фур-р-ррр…
Фур-р-ррр…
Фур-р-ррр…
Мимо…
Мимо…
Мимо…
Никто не остановился подле трех растерянных девчонок.
Те сдвинулись тесней. Глаза в глаза, нос к носу. Положили руки друг другу на плечи. И замерли.
Сколько простояли так? Минуту? Час? Сутки?
– Я замерзла, девочки, – жалобно пискнула Даша.
– Придумала! – воскликнула Таня, словно обнаружила неведомую планету или безвестный материк. – Придумала! Бежим к Крамору.
3
Остап Крамор прощался с бородой. И хотя событию этому свидетелей не было, Крамор устроил настоящее театрализованное представление.
Заперев изнутри дверь мастерской, он зажег по бокам большого круглого зеркала две высокие толстые свечки. Выставил на стол бутылку водки, стакан, выложил ножницы и бритву. Оглядев все это, сел перед зеркалом и долго пристально вглядывался в собственное отражение.
Постарел, ах, как постарел он за эти пять лет. Глубокие борозды распахали высокий выпуклый лоб. У глаз запойные подтеки и морщины. А сколько, наверное, их прячется под бородой. И глаза потухли. Горечь и тоска в них. Оттого и улыбка получается горькой…
Пять лет вычеркнуто из жизни. Пять угарных, заполошных, сумасшедших лет. Темные закоулки, чужие подъезды, сырые подвалы, милицейские протоколы, клятвы, заверения, подписки и, наконец, бунт жены… Нет, она никогда не была актрисой и никого не пригревала на его рубли, – это он придумал, уверовал в свою выдумку и всем рассказывал душещипательную историю собственного изгнания из родного гнезда. Жена у него была учительницей, преподавала изящную словесность. Образованная, начитанная, с большим душевным тактом. Она билась за него воистину насмерть. С новоявленными дружками-собутыльниками, с уличными забулдыгами-приятелями, с оседлавшим его тяжелым недугом. Водила к психиатрам, устраивала в специальные лечебницы, умоляла, просила, ругала, подключала к этой безнадежной, неравной битве маленькую дочку и, только исчерпав все возможности и проиграв, выгнала его из дому. Тихо. Без громких возгласов и душераздирающих сцен. «Уходи, – сказала она шепотом. – Совсем уходи. Такой ты не нужен нам. Совладаешь с собой, выпрямишься – возвращайся, не справишься…», – и впервые заплакала.
Четыре года скитался он по стране, не подавая о себе никаких вестей. Были вокзалы и пристани, чердаки и подвалы, бесстыдство и мерзость. Иногда он выныривал оттуда, отходил, обретал способность видеть и работать, в нем просыпалась неуемная жажда рисовать. Он сутками корпел над ватманом иль над холстом, ел что попало, спал где придется. Но стоило завестись деньгам, как словно из преисподней выныривали дружки-собутыльники и… снова на дно, и снова бред, чад, мерзость. И его, полоумного, неуправляемого, кружило и гнало по стране, пока не зашвырнуло сюда, в Турмаган.
Он благословлял тот день, когда послал дочке первый денежный перевод с припиской о красном велосипеде. Потом он стал переводить деньги ежемесячно. Недели три назад отправил своим длиннющее письмо-исповедь, и вот вчера пришел ответ, написанный женой и дочерью, которая, о боже, училась уже в четвертом классе. «Здравствуй, Остап, – писала жена, – безмерно рада за тебя. Всегда верила – так и будет. Талант даже пуля не в силах свалить. Сегодня у нас первый настоящий праздник за пять последних лет. Спасибо за то, что подарил его. Если не трудно, опиши подробно свой Турмаган, а может, есть и рисунки? Давно не видела твоих рисунков. Напиши о работе, о планах на будущее». Коротенькое, скупое письмецо. Но и оно – безмерная душевная щедрость, на какую способна только любящая женщина. А дочка писала: «Папуля, я совсем забыла, какой ты. Пришли, пожалуйста, свою фотографию». Вот эта просьба и подтолкнула Крамора к зарочному шагу – проститься с бородой…
Он раскупорил бутылку, медленно налил полный стакан водки. Долго вбирал трепещущими ноздрями водочный дух и млел, и слаб, и таял, глотая слюну. Сцепив до хруста зубы, набрал полный рот водки и полил изо рта себе на руки, ни капли не проглотив. Долго дышал раскрытым ртом, закурил, окунул ножницы в стакан, поболтал ими, словно размешивая что-то, и принялся старательно перерезать полуметровый волосяной пук фантастической бородищи.
Срезав все, что можно было срезать ножницами, сунул бритву в тот же стакан, а сам стал намыливать бороду. Отвыкшая от бритвы рука дрожала, и он несколько раз порезался, тут же заливая порез водкой. Скоро комнатенка и сам он пропахли водкой до того, что у Крамора закружилась голова, стало поташнивать, багровые круги поплыли перед глазами. Он ополоснул гладко выбритое лицо зеленым хмельным зельем, спалил в печурке волосы и бумагу, снова подсел к зеркалу.
Лицо неузнаваемо переменилось: обнаружились скулы, непропорционально длинным стал нос и острым подбородок. Лоб же, прежде такой неприметный, вдруг проступил массивной глыбой, из-под которой внимательно и зорко смотрели черные раскаленные глаза. Особенно поразила Крамора длинная, беззащитно тонкая кадыкастая шея…
Едва Крамор убрал реквизиты своего представления, откинул дверной крючок и включил электричество, как в дверь постучали.
Как ни были взволнованы девушки, все равно они изумленно застыли, глянув на безбородого Крамора, и на какое-то время забыли, зачем пришли.
– Чего уставились? Не нравлюсь?
– Н-ничего, – за всех ответила Таня.
– Даже очень, – подхватила Даша.
– Проходите, сварю кофе и…
– Потом. Кофе потом, – перебила Таня, мигом встревожив Крамора.
– Что стряслось?
– Беда, Остап Павлович.
– Да садитесь же вы! – нарочито грубовато прикрикнул Крамор, добывая сигареты.
Девчата сели, и Таня рассказала о происшедшем.
Показного спокойствия Крамору хватило ненадолго. Скоро он так разволновался, что Тане пришлось его успокаивать.
– Так, – сказал он, чуть поостыв. – Значит, в девять? Ах, гад! И местечко приготовил? Ну, мы тебе устроим любовное свиданьице. Ублажим…
Похоже, говорил он это просто так, чтоб приободрить девушек, дать выход клокотавшему бешенству, которое гоняло его по комнатенке, как оторвавшийся от привязи бочонок по штормящей палубе – от борта к борту, и волчком, и по кругу, – а мысль тем временем билась заарканенным оленем, ища выход из ловушки, в которую угодила вдруг Люся. Но вот Крамор оборвал бег, рванул полушубок так, что треснула вешалка, надел задом наперед шапку и выскочил на улицу. Девчонки вылетели следом.
– Куда мы? – спросила на бегу Таня.
– Шагай, шагай, – еле выговорил задохнувшийся Крамор.
Они бежали цепочкой. Молча. Изо всех сил. Словно уходя от погони.
– Слава богу, он здесь, – еле выговорил задохнувшийся Крамор, пинком отворяя покрытую изморозью дверь редакции газеты «Турмаганский рабочий».
4
– Крамор! Где ваша борода? – воскликнул Ивась, проворно сунув в карман маникюрную пилочку, и встал.
– Сбрил.
– Но… По какому случаю? – протянул художнику руку, здороваясь.
– Непременно отвечу, только не теперь. Простите великодушно за такую бесцеремонность: дело, приведшее к вам, воистину не терпит промедления. Ни минутки!
Будто глотнув неразведенного лимонного соку, Ивась содрогнулся всем телом, скривился от дурного предчувствия. «Опять дело. Неотложное, важное, головоломное. Иначе бы не приперлись на ночь глядя… Нашли грозоотвод с воловьими нервами…» Он еле сдерживался, чтоб ни жестом, ни взглядом, ни голосом не выдать этой мысли, но гнев все усиливался. Еще свежи, остры и болезненны были воспоминания о навязанной ему баталии за дурацкие, бог знает кому нужные «кусты» и треклятое наклонное бурение. О! Если бы собрать все проклятия, которые мысленно выметал, выкричал он на голову Данилы Жоха! Этот эрудит-самоучка сразу подковал Ивася на все четыре. Сам вцепился мертвой хваткой, Клару взбаламутил, взвинтил так, что из глаз искры, с языка пламя. Покрутись-ка меж ними, предугадай, предвосхити. То ненароком столкнется с Данилой Жохом на улице и тот непременно гаркнет: «Ждем!.. Помним!..» Иль иным словечком намекнет, зацепит, а то вдруг встретится с Фоминым и этот хоть, может, и не скажет ничего, но зато так посмотрит, что лучше уж бы сказал. А дома Клара прожигает глазищами, караулит каждое слово и ждет, ждет, ждет… Спасибо холодам. Отвлекли, увели, оттянули. Тут уж всем было не до писем и статей. Распрямился было Ивась, вздохнул, и тут же Клара приметила, забеспокоилась, стала надоедать, наседать… Врал ей напропалую. «Пишу… Проговариваю в горкоме… Выверяю расчет…» Потом Данила Жох припер свое творение – открытое письмо буровиков. Письмецо адресовалось Румарчуку и отличалось от известного письма запорожцев турецкому султану разве что только благопристойностью. Проклиная настырных буровиков, Ивась на десять рядов отредактировал и отшлифовал послание, сгладил формулировки, убрал категоричные выводы, словом, обкатал, отполировал, чтоб не зацепило, не царапнуло. И все же не решался печатать. Румарчук, конечно, на выступление «Турмаганского рабочего» наверняка чихнет, но Гизятуллов не смолчит. «Уж если с Черкасовым из-за бетонки в драку, тут-то ему карты в руки. Шарахнет на пленуме: не разобрались, не вникли, не прислушались…» Гизятуллова сюда Румарчук перетащил. Старые друзья, как будто, чего стоит Румарчуку сказануть что-нибудь в обкоме… Могло такого и не случиться, может, просто у страха глаза велики, а все равно беспокойно.
Вот так Жох ненароком накинул на Ивася петлю, и та все туже, все неотвратимей затягивалась. Нужно было что-то предпринимать или сдаваться. Ивась чуть не плакал от бессильной ярости, клял весь свет, ярил и взвинчивал себя, но… увы, ничего, кроме проклятий, родить не мог. И когда в отчаянии решил капитулировать, судьба столкнула его с Румарчуком на заседании бюро городского комитета партии, где обсуждались итоги визита начальника главка в Турмаган. Поняв, что это единственный и последний шанс, Ивась заставил себя попросить слова, сказал короткую, но впечатляющую, всеми примеченную речь: немножко об особенности месторождения, чуть-чуть о необычности методов освоения, пару фраз о научной организации труда и необходимости поиска новых путей и методов, а потом очень кстати и очень ловко вставил про письмо в редакцию буровиков бригады Фомина. Никаких оценок и советов по сути самого письма Ивась не высказал, попросил только главк поскорее разобраться с предложением буровиков, а сам из рук в руки передал злополучное письмо Румарчуку. Хорошо получилось. На самом высшем дипломатическом уровне. И честь соблюдена, и нейтралитет обеспечен. Вечером за ужином живописал Кларе целую баталию, которую он якобы навязал Румарчуку на бюро и вручил тому письмо как ультиматум. «Отмолчится, уйдет в кусты, дадим на первой полосе под кричащим заголовком». На заключительном прощальном совещании в НПУ Румарчук о фоминской затее слова не обронил, Ивася взглядом не удостоил. Судя по всему, начальник главка был раздражен и зол, потому соваться к нему с вопросами Ивась не посмел. К тому же в горкоме Румарчук был гость, Ивась – член бюро, а здесь Румарчук – бог, Ивась – приглашенный. Он обещал Кларе, что именно сегодня, на этом самом совещании, заставит Румарчука ответить четко и односложно: да или нет? И, не посмев подать голоса, холодел, представляя вечерний разговор с женой. «Я так и думала, рожденный ползать…» Или иное что-то скажет она, но такое же обидное, унизительное и, главное, неопровержимое. И сразу кончится равновесие, и снова под каблук, и вечные насмешки, как щипки, как плевки, и неприязнь, и брезгливость. Он и сейчас еще не совсем крепок на ногах, на ниточке, на волоске его достоинство и мужское самоутверждение. Она верит в его возрождение, взлет, возмужание. От того он в самом деле креп духом и телом, перерождался, вот-вот… еще шаг… еще взмах. Однако ни сил, ни воли для этого последнего «вот-вот» не было. Снова что-то не срабатывало в духовном механизме, все чаще и продолжительней приступы апатии, прикрытой непробойным цинизмом. Но он уже успел дохнуть много воздуху, глянуть на мир хоть и не бог весть с какой, а все же с выси, успел почувствовать себя настоящим мужчиной, и неизбежный возврат в прежнее, довзлетное состояние – пугал и вгонял в отчаяние. Ивась искал любую лазейку, только бы оттянуть, отсрочить неизбежное приземление. Знал, что лучший способ обороны – нападение, понимал, что надо бы еще рывок вверх, но… не мог. Срабатывала инерция: спокойней, легче, проще по течению, берешь, что дают, в драку не лезешь, не задираешься, дыши да радуйся, смакуй жизнь – все равно прахом обернется…
И опять судьба подала Ивасю руку. То ли и впрямь кто ищет – найдет, то ли попал в полосу везения, только желанное вдруг с неба свалилось. Без тревог, без борьбы, без риска. Подвернулся старый приятель, заведующий отделом областной газеты «Туровская правда». Обнялись, посидели часок, побаловались добрым коньяком, выпили по чашечке кофе, и тут Ивась поведал о письме фоминской бригады и о молчании Румарчука. Приятель ухватился, вызвался разобраться, напечатать в «Туровской правде». И разобрался, и напечатал за своей и Ивасевой подписями очень резкую статью, Гизятуллова пощипал, главку выговорил за то, что «маринует ценное и крайне перспективное начинание». Именно эту статью все и считали первопричиной победы и нового взлета Фомина. Целая делегация буровиков приходила к Ивасю с благодарностью. «Молодец, Саша», – сказала Клара. Как сказала! Словно аттестат на звание мужчины подмахнула. Они выпили бутылку вина, и была редкостная, незабываемая ночь, и он был мужчиной, настоящим мужчиной, которого и жалели и любили…
«Больше ни-ни», – сказал он себе наутро. Сберечь, сохранить завоеванное – вот главное. Никаких скоропалительных обещаний. Никаких схваток и хождений по канату над пропастью. Пусть другие донкихотствуют, прошибают лбом стену… Можно и нервишки сберечь, и в борцах числиться. Слава богу, жизнь научила. И едва утвердился в этой мысли… пожалуйста, – шизик Крамор приволок какую-то фантастическую историю о бедной Лизе XX века. Еще не дослушав краморовский рассказ, Ивась уже воспротивился, и разум, и чувства, и воля – все в нем встопорщилось, напряглось, чтобы противостоять, противоборствовать коварному замыслу Крамора. Но высказать напрямки что-нибудь вроде «не мое дело» Ивась не хотел: Крамор хоть и забулдыга, а язык подвешен хорошо, раззвонит, разнесет по городу, чего доброго, до Клары докатится. Надо было так отбиться, чтобы престиж не уронить и не дать повода к недовольству. Над этим и думал Ивась, слушая художника, а тот, глядя в нахмуренное лицо редактора, полагал, что зацепил его за живое, и, выговорившись, наконец замер в почтительном выжидании. Ивась раздумчиво потер лоб, похмыкал многозначительно, покашлял и, наконец, заинтересованно спросил:
– Сможете ли вы подтвердить достоверность сказанного?
– Ну, видите ли…
– Чего подтверждать, – вмешалась Таня. – Люся же здесь.
– Вы мне не верите? – в Люсиных глазах слезы.
– Я-то верю, – Ивась поморщился, поудобней разместился в кресле. – Но ведь вы хотите, чтобы вам и другие поверили. Так? Вот я и спрашиваю: чем можете подтвердить? Молчание – не лучший аргумент в данной ситуации…
– Вы верите нам – это главное. С вашим именем и общественным положением нетрудно втянуть в это дело карающие органы, – выпалил Крамор.
– Допустим, – Ивась успокоился. Он нащупал уязвимое место в позиции Крамора и этих экзальтированных девчонок. Сейчас он, не грубя, не обижая, сделает им от ворот поворот. – Допустим. Но речь-то, насколько я понимаю, идет о преступлении. Тут и злоупотребление служебным положением, и афера, и шантаж, и даже насилие. Причем все это инкриминируется руководящему работнику. И чтобы всерьез вмешаться карающим органам, нужны факты, не эмоции. Вот вы, – навел палец на пришибленную Люсю. – Вы уверены, что те женщины, которые… ну, словом, которых якобы принудил Ершов к… гхм… гхм… подтвердят это на следствии?
– Н-нет, – убито выговорила Люся. – Он – не дурак. Кого задарил, кого запугал. А есть и такие, что сами…
– Видите? – возликовал Ивась. – Стало быть, найдутся и такие, что опровергнут ваши показания да еще и обмажут вас грязью. – Он вольготно развалился в кресле, закинул ногу на ногу, машинально выдернул из кармана пилочку для ногтей и, поигрывая ею, упиваясь собственной мудростью и любуясь собой, прокурорским тоном продолжал допрос: – Теперь ответьте, сможете ли вы опровергнуть подлинность акта о вашей недостаче?
– Нет, – еле слышно промямлила Люся.
– А свидетели тому, как Ершов шантажировал вас этим актом, есть?
– Откуда, – жалобно пискнула Таня.
– Так что же вы хотите, товарищи? – милостиво укорил всех разом Ивась. – Ни доказательств. Ни свидетелей. На чем же держится возведенное вами чудовищное обвинение? Разве вы…
– Не надо, – Крамор вскинул руки, словно в плен сдавался. – Умоляю вас – ни слова. Извините за беспокойство. Мы от вас одного хотели, чтоб поверили и помогли… Молчите. Пожалуйста. Иначе я сорвусь и наговорю такого… Мне казалось, вы много пережили. Страдали и мучились. От мягкости душевной, от неумения подличать. Тогда в вагончике – помните? У вас были такие глаза… Нет-нет! Это не игра. Я видел. Кто сам страдал, тот сердцем чует чужую беду. Ни актов, ни свидетелей. И верит сердцем… Слышите? В правду. В добро. В справедливость. А вы… Пошли, девочки… Вон! Бегом!..








