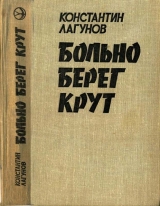
Текст книги "Больно берег крут"
Автор книги: Константин Лагунов
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Наступила жгучая тишина. Отчетливо стало слышно тяжелое сопенье взбешенного Гизятуллова. В эти мгновенья он ненавидел всех, кто сидел по ту сторону стола, и готов был на все.
Приник взглядом Черкасов к искаженному лицу Гизятуллова.
Поджала маленькие, сердечком, губы Мелентьева. Обида – горькая и незаслуженная – плескалась в ее глазах.
Бакутин сгреб со стола мраморную подставку к авторучке, и казалось, сей миг запустит ее в перекошенное гневом лицо начальника УБР.
Даже Ивась придержал пилочку, которой полировал под столом ногти. «Вот шизик! – со смешанным чувством восхищения и осуждения думал он, глядя на каменно ощетинившегося Гизятуллова. – Себе и людям жизнь укорачивает. Пообещал бы, послал пару машин и полторы калеки, а тем временем с обкомом сговорился».
Эта стройка камнем с неба свалилась на голову Ивася. Черкасов заставил через день выпускать двухполосный специальный листок «Бетонка». Пришлось двух лучших парней отрывать от газеты ради этой дурацкой, никому, кроме Черкасова, не нужной листовки. А в редакции каждый сотрудник воистину незаменим… Эти чертовы фанатики – Черкасовы, Бакутины, Мелентьевы, Фомины – уже заразили своей одержимостью жену. И дочка бубнит о буровых на воздушных подушках. Сумасшедший дом! Спешат. Несутся вскачь. Погоняют друг друга. А ты поспевай за этими полоумными. Иначе – под колеса!.. Теперь помешались на этой бетонке. Каждому члену бюро – свой кусок, опекай и подталкивай. Местное радио с утра до ночи бьет по мозгам: бетонка, бетонка, бетонка! За два дня провели с участием членов бюро тридцать собраний коммунистов об этой треклятой бетонке. Пришлось Ивасю распинаться перед шоферами автотранспортной конторы. И ведь слушали. Аплодировали. И никто не пискнул, когда голосовали, чтоб каждый в нерабочее время сделал не менее ста ходок, вывозя грузы на дорогу. По двенадцать, по четырнадцать часов не выпускают руля, и еще сто ходок в месяц. Свихнулись все, начиная с Черкасова…
Сунул пилочку в карман. Встретился глазами с Гизятулловым и вздрогнул, почуяв близкую катастрофу.
– Больше вы ничего не хотите сказать? – разорвал гнетущую взрывную тишину Черкасов.
– Не буду! – угрюмо буркнул Гизятуллов.
– Тогда… мы… исключим вас… из партии, – тихо, почти шепотом, паузой отделяя слово от слова, выговорил Черкасов. Облизал побелевшие губы, нервно поправил очки на переносице. – Выбирайте. Или завтра вы начнете строить свой участок и наверстаете упущенное, или я ставлю на голосование предложение о вашем исключении из партии.
Это был критический миг, гребень, на котором все должно было сломаться, рухнуть. Они пошли на смертельный таран и с замиранием и страхом все напряглись – болезненно, до крайнего предела.
«Неужели не уступит? Что бы и как потом ни переигралось, такую вмятину на судьбе всю жизнь надо зализывать», – страдальчески морщась, думала Мелентьева, мысленно подталкивая Гизятуллова к смирению.
«Как зарвался, – клокотал Черкасов. – Впереди обрыв, сзади круча. Вывернется – наперед наука. Сломает шею… Не утвердит обком исключение. Начальник УБР. Приехал добровольно. Притащил почти все управление, в партии двадцать лет, хваткий, умный, принципиальный и позарез нужный… Не утвердит. Да и не надо, чтоб утвердил… Но и другого выхода – нет».
Черкасов понимал: на изломе была не только гизятулловская, но и его собственная судьба. Отменив решение об исключении, обком наверняка накажет Черкасова за недопустимое отношение к руководящим кадрам. Возликуют приверженцы неуправляемости, начнут каждый подобный шаг, каждое такое решение горкома ревизировать, кивать на обком. «Придется отсюда уходить…»
Немыслимо долгой, гнетущей становилась пауза. Никто не решался ее прерывать. Гизятуллов внутренне корчился под наведенными на него взглядами. Оглушенный, ослепленный, он утратил ощущение реального, перестал соображать и пришибленно сник.
Черкасов вскинул руку с карандашом, чтоб поставить последнюю точку, – Гизятуллов опередил. Страдальчески кривясь, поднял голову, выговорил еле слышно:
– Хорошо. Сделаю. Обжалую. И на первом же пленуме горкома…
– Это ваше право, Рафкат Шакирьянович, – обессиленно выдохнул Черкасов.
Тарана не произошло.
Гизятуллов уступил, сошел с роковой прямой за миг до столкновенья.
Наступила разрядка.
Только что пережитое требовало выхода.
– Может, перекур? – просительно сказал Бакутин.
– Перекур, – подтвердил Черкасов и первым поднялся…
5
Георгий Павлович Боков был завидным жизнелюбом. Любил побродить по тайге с ружьем и с грибной кошелкой, поваляться у костра на свежих еловых лапах, ожидая, пока сварится уха иль в глиняном кожухе дотомится тетерка, пробежаться на лыжах по залитым солнцем белоствольным перелескам, перемахнуть вплавь быстротечную, широкую реку. Любил дружеское застолье с азартным спором и непременной общей песней. Партийная карьера Бокова оказалась настолько стремительной, что он не успел, а может, не захотел поменять ни друзей, ни привычек и внешне мало переменился: и разговорчив был, и улыбчив – по-прежнему, инакомыслие сносил спокойно, а бывало, и признавал собственную неправоту. С выводами не спешил, скорых и окончательных приговоров не любил.
Он нутром чуял фальшь, морщился от лести, но порой вынужден был терпеть и то и другое. Где страх, там и лесть, и ложь, и иное столь же непотребное, как и неизбежное. Всеобщей вечной незыблемой истины – нет.
Даже такие извечные понятия, как ДОБРО и ЗЛО, не однажды поменялись местами. А если согласиться с положением, что отрицание – одна из форм утверждения, то твой наиглавнейший враг окажется самым верным другом, а разрушение – неизбежным толчком творческого созидания. Однако осознать, тем более почувствовать это дано далеко не каждому. Боков, пожалуй, и понимал и чувствовал.
Вчера выдалось первое за лето незанятое воскресенье и он весь день провел на берегу глухого лесного озера. Наловили большущих жирных карасей и линей, сварили отменную ушицу, настояли чай на смородинных листьях, до ломотного гуда в ногах налазались по чащобам, лакомясь малиной да костяникой, набрали по ведру ядреных белых грибов. Словом, провели день на славу, и, несмотря на долгую ночную обратную дорогу, на короткий сон, на тяжесть в ногах, отвыкающих от перегрузок, настроение у Георгия Павловича было отменным.
Как и всегда, в восемь он появился в своем кабинете. Не успел устроиться поудобней в кресле, вошел помощник – молодой, поджарый и смуглолицый, с живыми веселыми глазами. Тусклым от курева голосом он стал докладывать о письмах, поступивших на имя первого секретаря обкома. Писем было много. Больше всего с жалобами на плохую квартиру иль на отсутствие таковой.
– И письмо начальника Турмаганского УБР Гизятуллова, – сказал помощник, заканчивая доклад и закрывая папку. – Жалуется на Черкасова. Тот под угрозой исключения из партии заставил Гизятуллова и других руководителей строить кольцевую бетонку.
Боков взял гизятулловское заявление, быстро прочел. Возвращая, сказал:
– Оставь пока у себя. Немедленно проверь: есть ли решение бюро горкома об этом месячнике? Как строится бетонка? Много ли таких, кого пришлось принуждать?
Едва затворилась дверь за помощником, в кабинете зазвучал не сильный, но сочный женский голос:
– Георгий Павлович, к вам Сурмин из…
– Просите…
Начался обычный рабочий день секретаря обкома, заранее расписанный до минуты на приемы, встречи, совещания. А сколько этого уже расфасованного, хотя еще и непрожитого времени съедят непредвиденные телефонные разговоры. Через два часа начнется рабочий день в Москве, тогда еще гуще и настойчивей станет рой телефонных звонков и придется потратить немало невозвратимой нервной энергии на объяснения, убеждения и оправдания перед вышестоящими. Их было много. Очень много. Ведь на обкоме замыкалось все, чем жила область, и первому секретарю приходилось быть последней инстанцией в переговорах с министерствами и комитетами России и Союза. Разные там попадались люди. Были и такие, кто принимал в ответ только «сделаем», «ясно», «хорошо», а иного ничего слышать не хотел. Скрепя сердце, отворотясь от расчетов, зажав в кулак самолюбие, Боков выговаривал эти слова, думая попутно о том, с кем и как сподручней пересмотреть вынужденные обещания и заверения. Это взвинчивало, появлялось саднящее душу желание разрядки, к горлу подступала ярость, леденели живые искры в глазах, мертвели живые нотки в голосе, и требовалось большое усилие воли, чтоб заставить себя разговаривать с людьми ровно, спокойно выслушивать мнения и даже возражения.
Во второй половине дня снова появился помощник и доложил:
– Решение о бетонке принято на бюро официально. Построили больше километра. Выпускают листовку. Вымпела и знамя – лучшим. Никого из хозяйственников не наказывали. Ограничиваются, как сказал Черкасов, стружкосниманием…
– Гизятуллов строит?
– Скрипит, но строит. Заканчивает выторфовку своего участка.
– Значит, к распутице в Турмагане будет кольцевая бетонка?
– Наверняка.
С точки зрения буквы партийного устава и закона, Черкасов не прав, но без бетонки Турмагану не жить, а законным путем ее будут строить еще пять лет. За своевольство следовало бы Черкасова отстегать, за отменно найденный выход – пожать руку. Стегать он его не станет, славословить – тоже, но в случае нужды – поддержит. А вот с чего кинуло поперек Гизятуллова?..
Тут позвонил Румарчук.
– Я только что получил копию заявления Гизятуллова. Дошел ли до вас подлинник?
– Дошел.
– Как вы оцениваете действия Турмаганского горкома?..
– Так же, как и вы. Вынужденная, явно несовершенная, но единственно возможная и оттого верная линия.
– М-м… Кхм… В таком плане я и хочу разъяснить Гизятуллову…
– Разъясните, пожалуйста.
Глава девятая
1
Самосвал тянул на крайнем пределе всех своих двухсотпятидесяти лошадиных сил. Надорванно грохоча перегретым мотором, скрежеща сцепленьями и содрогаясь, могучий КрАЗ еле вытаскивал огромные шипастые колеса из вязкого торфяника. Каждый миг машина могла осесть на раму, и тогда на невидимой под грязью лежневке образуется затор, и, чтоб снова восстановить движение, потребуется бог знает сколько усилий и времени, которого и так катастрофически не хватало всем: промысловикам, дорожникам, энергетикам, трубоукладчикам, строителям.
Когда для первой ДНС (дожимной насосной станции) пришло наконец долгожданное оборудование, оказалось, что его некуда ставить: ни стен, ни крыши у будущей станции не было потому, что не было в Турмагане кирпича. Его везли сюда на баржах, за тысячу километров, теряя добрую треть на перевалках-перегрузках. Бакутин засыпал телеграммами директоров кирпичных заводов-поставщиков, послал туда толкачей, и вот кирпич прибыл. Тогда обнаружилось, что лежневка-времянка еще не дотянулась к месту будущей ДНС, и Бакутин насел на того самого дорожного бога, с которым столкнулся однажды в кабинете Черкасова. Верный своей методе, начальник дорожного СУ сыскал десяток объективных прорех и… пошло-поехало. «Как в сказке, – зло шутил Бакутин, – чем дальше, тем страшней»… Наконец лежневка была готова. Глянул на нее Бакутин – под ложечкой захолодало. Хлюпает и бурчит под бревенчатым настилом бездонная топь. Под первым же грузовиком бревна просели, скособочились, взломав ровную шеренгу, и смрадная жижа разлилась поверх настила.
Бакутин собрал водителей новых машин.
– Ребята! На вас вся надежда. Надо немедленно перекинуть к ДНС кирпич. Ждать холодов – нельзя. Без дожимной промыслу не жить. Лежневку дорожники накидали. Хреновую, но все же. Рискнем?
– Какой разговор, – уверенно и неколебимо откликнулся тут же Иван Василенко.
Скользнув взглядом по литой, могучей фигуре парня, Бакутин обрадовался:
– Решено! Ты – за старшего…
Самосвал тянул на крайнем пределе всех своих двухсотпятидесяти лошадиных сил. Вслед за КрАЗом Ивана по танцующей лежневке медленно катила колонна из шести грузовиков. И полпути не одолели, как нежданно сыпанул мелкий редкий дождичек и пошел сеять, не густо, но до одурения занудисто. И от этой стылой мокрети за стеклами кабины, от зыби под колесами, от нутряного натужного рева мотора Ивану вдруг стало зябко и неуютно, словно бы потерял он верное направление в жизни и двигает совсем не туда, а куда? – не знает. «Выскочка. Выслужиться захотел. Напросился в ведущие. Хоть бы со своей-то машиной не кувыркнуться, а тут за целое отделение отвечай. Чертова непогодь». Разместил на мягком сиденье большое сильное тело поудобней и потверже, раскрылил руки, пригнулся – весь напряженное целенаправленное внимание, – включил «дворники» и вслушался в перестук мотора, карауля малейший крен, едва приметный самовольный поворот тяжелой машины.
Казавшийся поначалу непрочным, влажный, колышущийся под колесами бревенчатый настил лежневки все же выдержал караван «под завязку» груженных машин, и шофера сделали в первый день не одну, как предполагали, а две ходки.
Воротился Иван домой к полуночи, измученный, голодный, и спал так крепко, что не слышал короткого ураганного ливня, который обрушился на предрассветный Турмаган. Огромные вмятины в лежневке оказались под водой, иные же участки так затянуло грязью, что колеса пробуксовывали, бревна под ними угрожающе проседали и крутились. К концу первой ходки Иван Василенко скинул куртку, расстегнул ворот рубахи и даже рукава закатал по локоть. Он уже не раскаивался, не казнил себя за то, что напросился в старшие. Ребята слушались, советовались, и работы оставалось – максимум на два дня.
На строительной площадке было пусто. Заглянули в теплушку – и там никого. Распаренные, злые шофера обступили растерянного Ивана. Кто-то шало присвистнул, кто-то замысловато матюгнулся, и закружилось потревоженным шмелиным роем:
– Какого… горячку пороли?
– Ради чего до свету подымались, месили грязюку?
– А может, нас по совместительству и в грузчики Иван запродал?
– Они чаи гоняют, а мы тут… так-распротак…
– Пускай сам Бакутин разгружает.
– Разворачивай, ребята, айда назад…
Понял Иван: еще миг промедленья, и с таким трудом прорвавшийся сюда караван повернет обратно. Еще не зная, что и какими словами скажет, резкой отмашкой руки Иван оборвал воркотню и твердо выговорил:
– Кончай базар! Разуйте глаза. Вчера тут только фундамент, а теперь гляди, какие стены. За день выкинули, наверняка и ночью вкалывали…
– Мы вчера тоже уделались, будь здоров…
– И сегодня чуть свет…
– Хватит митинговать! – возвысил голос Иван. – Надо чокнуться, чтоб назад с грузом. Мало ль чего случилось. Сами разгрузим. Не рассыпемся. Чего уставились? Давай за дело!
Парни словно окаменели.
– Не внятно, что ль, выразился? – в голосе Ивана заструились гневливые нотки. – Кто переутомился – не неволю. Топай в теплушку, кури, блаженствуй…
– Аминь! – тонким пронзительным голосом выкрикнул долговязый парень в лыжной шапочке, непонятно как прилепленной к самой макушке. – Быть по сему. Айда, братва, на боковую… – и широкими саженными шажищами зашагал к вагончику.
Пятеро гуськом последовали за долговязым. Иван остался один перед шеренгой заляпанных грязью, осевших под грузом машин. «Засранцы! Шлепогубы! Сволочи! Заплатили б им за разгрузку… Крохоборы…»
И позлей, похамовитей словечки рождались в сознании Ивана, и он мысленно швырял их в недавних сотоварищей, все сильней злился на них, и на куда-то сгинувших строителей, и на Бакутина, и на весь белый свет.
Тут всплыла из глуби, обожгла мысль: «Любуются, сволочи, в окошечко, как я здесь пританцовываю, будто индюк перед корытом. Обойдемся без нытиков». Легко перемахнув борт, запрыгнул в кузов своего автомобиля. Несколько секунд постоял перед грудой прокаленных до едкой красноты кирпичей. Ухмыльнулся. Ничего. Силенки не занимать. Перекидает и без помощников. Назло этим хлюпикам перекидает…
Схватил сразу два кирпича – и за борт. Те еще и земли не коснулись, а вслед уже полетели еще два красных прямоугольничка, за ними еще два, и замельтешила непрерывным пунктиром красная струя.
Перекидав залпом сотни полторы, распрямился, чтобы дух перевести, глянул на дело рук своих и ужаснулся: добрая треть выкинутых кирпичей была покалечена. То уголок открошился, то кромка отлетела, а то и вовсе из целого кирпича стало две неравных половинки.
Вспомнились слова Бакутина: «Кирпичи привезли нам за тысячу верст, и каждый обошелся почти в рублевку». Сколько же рублей вышвырнул он на ветер? «Недоумок», – ругнул себя Иван, соображая, как бы так изловчиться, чтоб машину в одиночку разгрузить и кирпич не побить.
Поставил две доски к борту и по ним, как по желобу, стал опускать кирпич на землю. Бою стало намного меньше, зато и дело пошло куда медленней. Каждые пять минут приходилось выпрыгивать из кузова, чтоб очищать самодельный лоток от застрявших в нем кирпичей. Это был сизифов труд.
Кузов КрАЗа вроде бы невелик, но в нем две тысячи кирпичей и каждый весит четыре килограмма. Пока задний борт, с приставленным к нему деревянным желобом, был рядом, Иван, не глядя, хватал кирпичи и кидал, кидал на дощатый настил, легонько подталкивая при этом. Потом спрыгивал на землю, выбирал кирпичи из желоба и снова лез в кузов. Но вот у заднего борта появилась пустота и стала расти на глазах, сантиметр за сантиметром. Одолевая эту пустошь, Иван начал метаться от кирпичной груды к борту с желобом и обратно, сперва с двумя кирпичами в руках, после с пятью-шестью в охапке.
Восемь тонн спрессованной до тверди, прокаленной глины перетаскал Иван на своих руках. Бог знает сколько раз выпрыгивал из кузова и снова залезал в него. Пропотел, распарился, дышал часто и натужно. А когда, опорожнив наконец кузов, спрыгнул на землю, то едва не свалился от колкой болезненной дрожи в коленях.
Тело горело будто в крапивнице, ныли нудно мышцы непривычно, несносно тяжелых ног и рук. А предстояло разгрузить еще шесть машин, в них двенадцать тысяч кирпичей – сорок восемь тонн!
Обида, усталость, злость даванули на сердце Ивана, затуманили разум. Он люто и беспощадно возненавидел недавних напарников и желал только одного – возмездия. Их было шестеро – молодых, здоровых, сильных. Он один – обессиленный, ослепленный злобой. И все-таки он ринулся на них, сцепив зубы, стиснув до синевы огромные кулачищи.
Пинком вышиб дверку вагончика. Парни, тесно облепив столик, играли в домино. Молча, словно по команде, поднялись, не спуская с Ивана изумленных, встревоженных, вопросительных глаз. Пулеметной очередью отстукотали кинутые на стол костяшки, и загустела взрывчатая тишина.
– Вы… – задушенно прохрипел Иван и осекся.
Спазма перехватила горло, страдальческая гримаса перекосила лицо. Неведомая сила подсекла колени, кинула спиной на стену, и парень медленно сполз по ней на пол, стукнувшись по-неживому глухо и тяжело.
К нему метнулись все шестеро. Рывком подняли его, посадили на табурет. Долговязый в шапочке с кисточкой подал кружку воды. Кто-то сунул в рот раскуренную папиросу. Ни насмешки, ни безразличия на молодых обеспокоенных лицах.
Неприметно и бесследно вытекала ярость из души Ивана. Это были свои парни, на которых можно положиться. Пижоны, задавалы, но свои в доску. Он сам обидел, сам зацепил, царапнул по больному, и они проучили… Не разумом, нутром постиг суть случившегося Иван и тихо, виновато выговорил:
– Не сердитесь, ребята. Сдуру. Спасибо за науку…
Трудно поднялся на деревянные ноги, горбясь, зашаркал к выходу. Следом двинулся долговязый в шапочке с кисточкой на макушке, за ним – остальные. Сосредоточенные, подобранные, они молча вышли, молча выстроились в цепочку подле самосвала и начали разгружать…
2
Автотранспортная контора, или, как ее называли здесь сокращенно, АТК, не имела своего гаража. Машины ночевали под чистым и под ненастным небом на небольшой, обнесенной забором, продуваемой всеми ветрами, площадке. Измочаленная колесами, она была обильно посыпана щебнем, однако в ненастье становилась трудно проходимой и подобраться к своему автомобилю водитель мог лишь в высоких резиновых сапогах.
Ивась был в ботинках – грубых, крепких, на толстенной каучуковой подошве. Пока по вязкой грязи, ослизлым жердочкам и дощечкам он пробирался сюда, изрядно наломал ноги, перепятнал и брюки и пальто, а войдя в ворота АТК, остановился в растерянности. В желтоватом неярком и трепетном свете единственной лампочки растоптанная, вкривь и вкось исполосованная колесами поляна походила на топкое, непроходимое болото. Подернутая синеватой пленкой мазута, вода в лужах и глубоких колеях угрожающе посверкивала. Казалось, стоит только шагнуть – и намертво увязнешь в этом синевато-черном, вонючем месиве.
Фотограф – молодой, нагловатый, крепко зашибающий (от него и теперь попахивало перегаром), многозначительно-насмешливо хмыкнув, обошел Ивася и, топая прямо по лужам, двинулся к зашарпанному балку, торчавшему посреди заставленной машинами круговины. В окошечке балка горел свет, из трубы черный дым тонкой спиралью ввинчивался в беззвездное небо. Ивасю оставалось одно из двух: подпирать в одиночестве ворота, либо последовать за фотографом. «Черт понес меня», – мысленно попрекнул себя Ивась.
В последнее время с ним стало твориться что-то непонятное. То неведомая сила загоняла его на полати верхового, прилепившиеся на верхушке буровой, то та же неосознанная сила толкала его в болото к трубоукладчикам. При этом он все чаще испытывал какую-то, неведомую прежде, радостную отрешенность от всего привычного, стабильного. Вроде необоримое течение подхватывало его и, кувыркая и накрывая волной, перло на самую быстрину, и чем дальше, тем все скорей, неодолимей и, что самое странное, все желанней было это движение. От сознания бесполезности, никчемности своего сопротивления потоку и неизбежности общей участи всех, захваченных этим течением, Ивась испытывал незнакомую прежде раскованность. Не надо было колготиться, преодолевать, устремляться – все равно вынесет туда, куда и других выносит. И при одной только мысли об этом его подмывало, отрывало от земли щекотное чувство обновления и распирала грудь озорная молодая удаль: «А! Будь что будет!»
Сталкиваясь с рабочими – незнакомыми, чуточку грубоватыми, прямолинейными, сильными и выносливыми людьми, – Ивась как бы молодел, становился по-юношески пылким и азартным, окружающее словно бы озарялось рассветным заревом, утрачивало недавнюю угрюмость и радовало.
Но стоило ему устать, не найти нужного человека, отойти от этих людей, и приподнятость и вдохновение разом испарялись. Он словно бы трезвел, видел грязь, грубость, тяжкий, изнурительный труд и негодовал на всех и на себя за недавний минутный самообман и наносное очарование. Сцепя зубы, негодуя и брезгуя, он пил припахивающий болотом чай, хлебал какое-то варево из непромытой жестяной миски, осторожно, будто нащупывая языком осколок стекла, жевал захватанный хлеб.
После такого прозренья он несколько дней сторонился переднего края, как сам называл строительные площадки, буровые, трассы трубопроводов и дорог. И снова наплывала апатия, и он переставал ощущать вкус и цвет жизни. Но вот он натыкался на встревоженно пытливый взгляд жены и вздрагивал, подбирался и опять бежал туда, где непрестанный тяжелый труд счищал все наносное с людей, с их отношений друг к другу, и, глядя на «вкалывающих» монтажников, буровиков, строителей, Ивась вновь проникался к ним почтительным уважением, восторгом, нутром постигая осевую, ведущую суть рабочего человека; и радуясь и даже ликуя порой от этого постижения и от собственной малой причастности к происходящему, он снова карабкался в кабину крана, подымался по трапу буровой и торопился изложить волновавшие его чувства в своих репортажах, статьях, очерках. Ивась раздражался, когда глубоко и верно постигнутая им суть происходящего тонула в потоке выспренных фраз. Но если задуманное и удавалось, радости и приподнятости опять-таки хватало не надолго: слишком много вокруг было неполадок, равнодушия, фарисейства. И снова пилочка для ногтей и ничего не хотелось делать; «Все суета, тоска беспросветная…»
Чуткая Клара опять ела его глазами, прислушивалась, догадывалась. Проклиная ее и ломая себя, Ивась убегал от катастрофы все на тот же «передний край» и, чтобы доказать ей и возвысить себя в собственных глазах, выходил на предельно откровенный разговор с рабочими. Когда те загоняли его в тупик неотразимыми вопросами, Ивась признавался в просчетах, выспрашивал, не тая незнания, и от взаимной разящей прямоты и мужественной самокритичности он, в который раз, воскресал душой, становясь почти таким, как они, герои его зарисовок и очерков.
Вот так и метался он, взлетал и падал, наступал и пятился, воспарял духом и впадал в уныние. Издергался, но сломать себя не мог, и все чаще приходили мысли о капитуляции. Подкрались они и теперь, когда остановился в растерянности, войдя в ворота АТК.
Влажная чернота ночи дохнула унынием, тоска вцепилась в глотку. «Господи. Сидеть бы дома, потягивать горячий кофе, читать, беседовать с дочкой, а тут… Гори синим огнем этот фанатик Василенко вместе с кирпичом и прочей мутью. Появится не появится в газете зарисовка о Василенко – что переменится? Домой… Дадим снимок с расширенной подписью, и хорош. Домой…» Представил свою комнату, залитую светом, дочь с игрушками на диване и Клару. Прилипнет глазищами, прощупает, унюхает, поймет.
Сорвался с места и слепо зашагал к балку. Сразу забрел по щиколотку в лужу, зачерпнул ботинком и попер напрямки, ориентируясь на желтое оконце балка.
Это был не типовой балок-вагончик заводского изготовления, а самодельное, скороспелое строение из досок и древесно-стружечных плит. В нем собирались шофера на короткие перекуры, коротали за домино и шашками досуг, тут же проходили летучие собрания и планерки.
Подходя к балку, Ивась хотел только одного: чтобы там никого не было, – до смерти не хотелось встречаться сейчас с каким-нибудь занудистым вопрошателем иль по-шоферски разбитным и грубоватым правдолюбом. Непременно прицепится, узнав, что Ивась – редактор газеты, начнет сетовать на неуют, снабжение, нехватку жилья и мест в детских садах. И попробуй не согласись с ним, такой хай поднимет, зашвыряет примерами, фактами, закидает упреками, обвинит в чем угодно. А и согласишься – не миновать беды. Есть такие нахалы, чем больше им уступай, тем они нахрапистей прут напролом. Тут хочешь не хочешь, а вступай в перепалку, защищай, доказывай, нападай сам, иначе перемелют в труху…
Самое неприятное состояло в том, что по сути своих нареканий и требований подобные задиры подчас были правы. И никакими ссылками на временность трудностей, на климат, глушь и прочие объективные условия нельзя было этого опровергнуть. Топить же живой, болезненный вопрос в демагогической болтовне – Ивась считал постыдным. Оставалось одно – нападение. И он обвинял в несознательности, в малодушии, в меркантилизме и еще бог знает в чем.
По здешним условиям Ивась жил более чем сносно: хорошая квартира, дочка пристроена в детсад, мог при желании достать и дефицитные продукты и одежду. Рабочие знали или могли узнать это, оттого Ивась страшно тушевался, и чтоб скрыть очевидное смущенье и поскорее завершить неприятный разговор, спешил проститься.
После подобного столкновения его долго терзали противоречивые мысли. Он то принимал сторону мучивших его бесстыдными расспросами, то проникался сознанием собственной правоты и запоздало клеймил недавних вопрошателей, в то же время злясь и негодуя на тех руководителей, кто нечистоплотностью своей давал основания к подобным рассуждениям…
В балке, куда пришлепал Ивась, кроме редакционного фотографа, был еще один человек. Он стоял спиной к двери и что-то колдовал над огромным листом ватмана, разостланном на столе. На приветствие Ивася человек распрямился, поворотился к двери. Ивась узнал Остапа Крамора и почему-то обрадовался ему, подошел, подал руку, мягко спросил:
– Каким ветром?
– Тесен мир. Тесен. – Крамор выхватил из лежащей на столе пачки сигарету, прикурил. – Ни тайн в нем, ни бесконечных путей…
– Простите, если я вторгаюсь… – смутился Ивась.
– Что вы? Это возвышенная абстракция, суесловие. Все до умопомрачения просто. АТК с кем-то соревнуется, завтра взаимопроверка. Хочется потрясти проверяющих не только производственными показателями, но и соответствующей идейной надстройкой. Решено украсить этот закуток неким феноменом стенной печати… – Увидел заляпанные грязью ногти Ивася, придвинул стул. – Садитесь. Можно раздеться. Сейчас подшурую печурку. Есть чайник… Вы тоже, как видно, охотитесь за феноменом…
– Почти. Есть такой шофер. Обыкновенный парень, вчерашний солдат Иван Василенко…
– Знаю этого парня! – горячо воскликнул Остап Крамор, дослушав рассказ. – Только обыкновенным, в смысле заурядным, я бы ею не называл. Вот если обыкновенный толковать как типический для Турмагана – тогда куда ни шло. Характер у него на крепкую рабочую сердцевину насажен… Я, знаете ли, из породы сомневающихся. Даже в боге сомневаюсь, а уж в земном… – Отмахнулся, дескать, и говорить нечего. – В родном гнезде и то как в кратере. Вот и пошел рушить… Ниспровергать, скажу вам, преприятнейшее занятие. Сперва бьешь по равным, крушишь личные, семейные устои – и закипаешь радостью, пылаешь азартом, любуешься, красуешься. А рука раззуделась, и плечо размахнулось, и нога – сама на порожек пьедестала пророка. Тут уж – все нипочем. Тут уж – никакого удержу… Колеблешь столпы вселенной… Сладостная игра в нео-Раскольникова. Но коварная!.. Раскачивая вокруг – расшатываешь в себе. Ни веры, ни идеалов, ни цели. Пустошь и мрак. Весь мир серый. Для художника это – конец. Он уже не творит – малюет. С того и злится. С того и бесится. А чтобы оправдаться перед собой… Угадали ведь? Поняли? Именно – водка! И не тем, что оглушает, спускает тормоза. Оправдывает творческий импотент – вот главное! «Кабы не пил, кабы не она…» И этот яд капля по капле в кровь… в кровь…
Крамор метался по балку и говорил, говорил с потрясающей откровенностью. С чего прорвало его? Почему именно в сей миг? Перед этим по сути незнакомым человеком? – не ответил бы и сам. Да вовсе и не этому белокурому флегматику с телячьими глазами исповедовался Остап Крамор. Перед собой выворачивался, себе каялся, себя судил. Это был первый стихийный и неукротимый взрыв самосуда, первый за все годы блуждания в потемках.
Ошеломленный Ивась, постигнув происходящее, внутренне содрогнулся от боли, рожденной схожестью дум и чувств Крамора со своими. И он, Ивась, сомневается и ниспровергает… Потому-то каждая фраза Остапа Крамора не просто задевала, волновала, а потрясала Ивася, и тот боялся лишь, чтобы как-то ненароком не спугнуть Крамора. Завороженно и молча смотрел Ивась на художника, а тот, подогретый вниманием, говорил и говорил:








