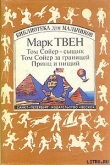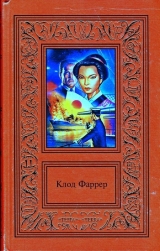
Текст книги "Сочинения в двух томах. том 2"
Автор книги: Клод Фаррер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 44 страниц)
– Не забудь: он сам сказал святому апостолу Петру: «Кто возьмется за меч, от меча погибнет».
– Повиноваться я не могу! – молвил Тома, потупив глаза.
Затем, тряхнув внезапно плечами, он вернулся к первой мысли:
– Нет, ты скажи! Ни черта не понимаю! Отчего позволено каперствовать в Лиме и Панаме и не позволено в Пуэрто-Бельо и Сиудад-Реале?
– Почем я знаю? – сказал Геноле. – Однако же, если так, отчего нам не двинуться тоже в Панаму или Лиму? И отчего ты не подписал договор с этим Гронье, который предлагал тебе такие отличные условия?
Тома снова опустил голову. Если он и не часто теперь откровенничал с Геноле, все же он постыдился бы солгать хоть единственным словом.
– Она не захотела, – пробормотал он.
И Геноле, услышав это, ничего больше не спросил. Тогда Тома бросился к нему и в свою очередь прижал его к груди.
– Увы! – добавил он, говоря очень тихо, как бы испытывая большое смущение. – Увы! Я люблю ее!.. Я люблю ее! А она… она… Ах, брат мой Луи, ты один у меня остался, ты один… оставайся со мной всегда, оставайся со мной!..
Пополудни же, съехав на берег вместе с Хуаной и переходя из кабака в кабак, так как Хуана пожелала немедленно разыскать разных веселых приятелей, среди которых числился и Лоредан-венецианец, Тома вдруг страшно рассвирепел, заметив нескольких довольно жалкого вида субъектов, которые следовали за ним по пятам, от двери к двери, очевидно, с намерением подслушать его разговоры и раскрыть его планы.
Он обнажил шпагу и бросился на них. Подлецы разбежались, подобно стае ворон перед орлом.
– В чем дело? – кричал он вне себя от ярости. – Что я, изменник или бунтарь? Черт возьми! Меня доведут до этого, если выведут из терпения!
Но Хуана, оставшаяся стоять на месте, презрительно усмехнулась.
– Никогда! – сказала она. – До этого тебя не доведут, поджавшая хвост собака ты этакая, умеющая только рычать, у которой ни одного клыка не осталось, чтобы укусить!
Она теперь презирала его и открыто им пренебрегала, упрекая его в излишней покорности велениям всяких Кюсси, Сен-Лоранов, Бегонов и прочих: все из-за того, что он еще не принимался за каперство с тех пор, как фрегаты короля сторожили Тортугу.
Оскорбленный Хуаной таким образом, он всегда становился смертельно бледен. Но и на этот раз он не сумел унять ее болтовню, как бы ему следовало это сделать, пятью-шестью оплеухами, которые бы ей свернули челюсть, или хорошей поркой, которая бы ей с пользой обновила кожу и заново отполировала задницу.
Итак, он миролюбиво к ней возвратился и стал лишь препираться с ней, подобно судебной крысе, которая спорит, желая выиграть заведомо гиблое дело.
– Кто же поджавшая хвост собака? – сказал он. – Я ли, которого дюжина шпионов не выпускают из виду, боясь, чтобы я не пошел, куда мне заблагорассудится? Или другие, хорошо тебе известные люди, которых все какие ни на есть губернаторы и комиссары ласкают и лелеют, как всякий может убедиться, каждый день прямо на рейде и среди бела дня?
Но она повернулась к нему спиной и не слушала больше. Лоредан вошел в кабак и в эту минуту садился за стол невдалеке от нее. Она подошла к нему и стала тереться об его плечо, подобно обезумевшей от страсти кошке, трущейся об кота.
– Уж вас-то, наверное, – сказала она затем, – вас-то, наверное, сэр Лоредан, никогда бы не посмели ласкать ни губернаторы, ни комиссары!.. И мухи не смеют жужжать слишком близко от вашей шпаги, которая так же длинна, как коротко ваше терпение!..
Она склонила голову набок, чтобы украдкой взглянуть на Тома. Тома не смотрел в ее сторону. Он пил, безмолвный, развалившись всем телом, медлительный в движениях. Она видела, как он проглотил одну за другой четыре больших кружки рома. Тогда она вдвойне осмелела и обнаглела. Она засмеялась громкими взрывами прерывистого и нервного смеха. Затем вдруг наклонившись, она поцеловала венецианца, прильнув губами к его губам…
Тома, опустив голову, упорно смотрел в землю.
X
В темной каюте дверь была заперта, иллюминатор задраен, – было невыносимо жарко. Тома, который не спал, обливаясь потом и почти задыхаясь, соскочил, наконец, со своей койки и бесшумно прошел в кают-компанию, а затем по капитанскому трапу на полуют. Он был полураздет. Ночной бриз заиграл в его распахнутой боевой рубахе, в парусиновых штанах, свободно свисавших с его голых ног. Он перешел с правого на левый борт, затем подошел к гакаборту и облокотился в самом дальнем конце его с наветренной стороны, лицом к морю. Небо сверкало звездами, и море, светящееся в глубине, как часто случается в тропиках, казалось, заключало в своих недрах мириады странных факелов, бирюзовое свечение которых, слишком отдаленное, колебалось, потухая и снова зажигаясь ежесекундно, по воле волн. Ночь была прекрасна и прозрачна, как алмаз.
«Черт возьми! – проворчал Тома, говоря сам с собой. – Не дурак ли я, что сплю закупоренный в этой адской каюте, когда здесь такая благодать…»
Он дышал полной грудью, и морской воздух, весь пронизанный солеными брызгами и полный также ароматов близкого берега, восхитительно обвевал ему виски, шею, грудь. Освеженный, он оставался тут, смотря на горизонт…
Королевские фрегаты стояли на якоре не дальше чем в одной миле. Но на них ничего нельзя было разглядеть, ни корпуса, ни рангоута. Мерцали только желтые и колеблющиеся штаговые огни. Да и то их можно было спутать с чуть померкшими звездами, утопавшими в мягком тумане, стлавшемся над самой водой. Тома сначала их вовсе не заметил. И даже когда пробило полночь, и адмиральская рында ударила восемь раз, а за ней последовали и остальные четыре, Тома, услышав этот слабый и хрупкий перезвон, подумал лишь о колокольнях родной Бретани, часто не настолько богатых, чтобы иметь большие колокола с хорошим, торжественным звоном.
Однако же мысли эти недолго его занимали, так как сигнальщики у шлюпбалок и трапов стали кликать смену вахты, как положено по уставу на судах его величества. Повторяясь, долгий этот крик полетел от фрегата к фрегату, разносясь по морю. Тут уж Тома ничего не оставалось делать, как только вспомнить стоявшую здесь эскадру, эту эскадру, которую он столько раз уже посылал ко всем чертям. И он нетерпеливо щелкнул языком.
«Стало быть, без устали и без конца эти пять проклятых посудин будут мне мозолить глаза и жужжать в уши и днем и ночью!..»
Пожав плечами, он отодвинулся от фальшборта и круто повернулся, не желая больше видеть упомянутые штаговые огни, им теперь запримеченные, оскорблявшие его зрение. Он отошел, ворча и сердито ругаясь, и пересек ют, шагая без разбора, но при этом он споткнулся о решетчатый люк кают-компании. И сразу оборвал свои проклятья, боясь быть услышанным, так как кормовые каюты приходились почти непосредственно под этим самым люком. А из этих кают, которых всего было четыре и которые все четыре выходили в кают-компанию, Хуана занимала самую просторную, тогда как остальные три занимали: одну – Тома, другую – Луи Геноле и последнюю – невольницы-мулатки, так как Хуана требовала, чтобы они всегда были у нее под рукой, по соседству, дабы являться по малейшему зову.
Споткнувшись, стало быть, о помянутый люк, Тома инстинктивно приостановился и машинально нагнулся, чтобы взглянуть в зияющее отверстие люка. В нем, понятно, ни зги не было видно. Но в нос ему ударило спертым воздухом, и он резко выпрямился. К тяжелым запахам, исходившим от сонного корабля, примешивался нервирующий аромат, – аромат Хуаны, который Тома различил бы среди тысячи других. И Тома, порывисто отскочив, отошел от люка, обошел кругом и снова оперся о фальшборт, на сей раз с подветренной стороны, лицом к берегу.
Там все огни были потушены. Берег не вырисовывался на потемневшем горизонте. Море там было спокойнее и казалось не таким светозарным. Неподалеку от «Горностая» был еле виден очень маленький, неподвижный ялик, хотя он довольно сильно покачивался, стоя, очевидно, на дреке и раскачиваясь на слишком коротком дректове. Тома, если бы напряг глаза, – а они у него были ясные и зоркие, – конечно, удивился бы, не заметив в этом ялике ни рыбака, ни гребца, словом никого, – так что это имело вид весьма таинственной шлюпки, покинутой, эдак, больше чем в миле от берега…
Но Тома не глядел ни на землю, ни на небо, ни тем более на какие-то шлюпки на воде. Тома, так низко опустив глаза, что они ничего не могли видеть, кроме отвесного борта фрегата, омываемого волнами, снова забылся в раздумье, бормоча сквозь зубы беспорядочные слова. Только вблизи можно было бы что-нибудь расслышать. Только раз уста его разомкнулись, произнося несколько громче:
– Шесть, семь, восемь… восемь ночей…
По-видимому, он считал, с каких пор Хуана вздумала спать одна в своей каюте, запираясь на замок, несмотря на чередуемые мольбы и угрозы. Это случалось и раньше. Однако же никогда еще Тома не чувствовал столько глухого гнева, столько подлинных страданий, – страданий сердечных и телесных, – тяготы и скорби отверженного… Ибо таков грозный Божеский суд, что часто ниспосылает он, уже на эту землю, тем, кого он отринет в судный день, ужасное предвкушение грядущих мук.
– Восемь ночей… – повторил Тома, по-прежнему склонившись над темной водой.
Обеими руками он ухватился за свои локти и так яростно стискивал пальцы, что ногти его, разодрав кожу, врезались в мышцы. Выступили капельки крови.
Но вдруг стиснутые пальцы разжались и раскрывшийся рот перестал издавать звуки. Тома, ухватившись обеими руками за доски планширя и всей своей тяжестью свесившись вниз, хотел, казалось, броситься в море. Он не упал, согнулся только дугой, чтобы получше рассмотреть поближе внешнюю обшивку судна.
Как раз под ним находился иллюминатор одной из четырех кормовых кают, – иллюминатор задней каюты по правому борту, каюты Хуаны. Иллюминатор же этот задраен был лишь наполовину, – верхний ставень был опущен, а нижний откинут. Тома теперь различал при свете звезд багряную окраску этого откинутого ставня. Впрочем, никакого подозрительного света в каюте не было видно. Но ему послышался слабый звук, – звук, не похожий на дыхание спящей, не похожий ни на один из тех дозволенных звуков, какие могут исходить из каюты одинокой женщины, независимо от того, спит она или бодрствует… Тома, уцепившись ногами за две переборки в фальшборте, перегнулся еще больше. И когда подозрительный звук повторился, ноги его и все свесившееся тело охватила такая дрожь, что и сам фальшборт затрясся и затрещал, – но этот треск заглушил непрерывный скрип такелажа, колеблемого бризом…
Ибо Тома услыхал не что иное, как звук поцелуя. Поцелуя, и еще поцелуя…
Тома, однако же, больше не дрожал. Из груди его вырвалось хрипение. И в то же время губы его, внезапно пересохшие, трижды пробормотали одно короткое слово: «Здесь!» Это было подобно стону, стону возмущения, смешанного с ужасом и отвращением. И Тома стал слушать дальше, совершенно уже недвижим, застыв в том грозном спокойствии, к которому приучены были его нервы ожиданием битв. Он продолжал слушать и продолжал слышать. Поцелуи учащались, – звучные, страстные, нескончаемые…
К ним вскоре прибавился некий стон, бесконечно сладостный и томительный, который хорошо был знаком Тома, который он узнал. И тут Тома перестал слушать. Медленным напряжением мышц он выпрямился, снова вскочил на полуют, отпустил фальшборт и, крадучись, бесшумно скользнул к капитанскому трапу и снова спустился в кают-компанию. Здесь все еще витал аромат Хуаны, еще сильнее даже ощутимый, – как бы недавно потревоженный, развеянный. Тома вздрогнул, но не остановился. Дверь его собственной каюты была полуоткрыта. Беззвучнее тени, он скользнул в нее. Ощупью, но по-прежнему совершенно бесшумно, отыскал он кремень, высек огонь и зажег свечной фонарь. Пламя осветило лицо пепельного цвета и глаза, горящие голубыми огнями раскаленных углей. В изголовье койки, рядом с обнаженной шпагой, лежало два стальных заряженных пистолета. Тома взял пистолеты, взвел курки, засунул один из них за пояс брюк, другой зажал в правой руке, указательным пальцем касаясь собачки, а левой рукой ухватил за кольцо свечной фонарь, подняв его на вытянутой руке, чтобы он лучше светил. После чего, выйдя из своей каюты и миновав кают-компанию, он направился прямо к каюте Хуаны. Без стука, подобно разъяренному жеребцу, рванул он дверь с такой силой, что вмиг раздробленная дверная створка рухнула внутрь вместе с засовом, замком, ключом, задвижкой и петлями, разлетевшимися в разные стороны.
И глазам его предстала каюта – на мгновение ока.
На мгновение ока – на время, достаточное для того, чтобы Тома мог разглядеть сбитую, раскиданную постель и на ней обнаженную Хуану в объятиях мужчины. Тома успел заметить тело этого мужчины, – тело худощавое и мускулистое, кожу – белую кожу, подобную женской коже, и одежду, состоявшую из одной лишь рубашки. Голова и лицо оставались в тени. Тома поднял пистолет.
Но быстрее молнии человек этот вырвался из объятий Хуаны, вскочил и отпрянул в сторону. Тома не спустил курок, желая бить наверняка. Тогда тот бросился на него и обеими кулаками ударил по рукам Тома, пытаясь его обезоружить. Это ему не удалось, потому что руки Тома были подобны тискам. Но фонарь, разбитый вдребезги, разлетелся, и свеча покатилась по полу. В тот же миг человек этот, бросившись снова вперед, повалился на пол, стараясь избегнуть выстрела, как стрела скользнул между ног Тома и выскочил из каюты. Но Тома, успевший обернуться, смутно различил его в слабом свете, проникавшем через решетчатый люк, – человек приближался к двери, ведущей в каюту Геноле. Тома выстрелил. Человек с шумом повалился.
И Тома, ослепленный снопом огня из пистолета, мгновение ничего не видел.
У ног его опрокинутая свеча еще не совсем потухла. Он схватил ее и поднял кверху. И тут у него вырвался крик изумления: человек снова стоял все на том же месте, – перед дверью Геноле. И он уже не убегал, оставаясь, напротив, недвижим, лицом к Тома. Тома схватил свой второй пистолет и двинулся вперед. Поднятая свеча бросала желтый свет. Вдруг Тома снова закричал и споткнулся, – оглушенный, обалдевший, вытаращив глаза: – человек этот был Луи Геноле! Луи Геноле, да. Никакого сомнения. Луи Геноле – в рубашке, с белой кожей, отсвечивавшей при огне, с крепкими мышцами, проступающими на тонком теле.
Тома подошел ближе. Луи Геноле не шевелился. Ни страха, ни стыда на спокойных чертах его лица. Тома, вне себя, вглядывался в него две-три секунды, потом, шепотом, как будто потеряв дыхание, произнес:
– Брат мой Луи, так, значит, и ты, как другие?.. – и порывисто нажал курок.
Луи Геноле широко открыл рот, изумленно раскрыл глаза и упал замертво. Пуля попала ему под самое сердце, перерубив на две части аорту. Брызнуло столько крови, что правая рука Тома, стоявшего шагах в трех, по крайней мере, оказалась залитой по самый локоть. И он выронил дымящийся еще пистолет и замер на месте, словно окаменев.
Тогда тишину нарушил звук очень мягких шагов. Подходила Хуана – обнаженная. Тома заметил ее. Она была бесстрастна, почти весела. Подошла. Глазами искала труп. Увидела. И живо подняла голову. Брови ее, поднятые на самый лоб, выдавали ее крайнее изумление. Она сказала, как бы не веря собственным глазам:
– Геноле? – И она осмотрелась вокруг.
Тома же пристально глядел на нее. И в эту минуту он со жгучей горечью жалел, что за поясом у него нет третьего пистолета.
Но в то время, как они так стояли, он и она, лицом к лицу, другой звук, четкий, хоть и отдаленный, заставил их вздрогнуть: всплеск от бросившегося с порядочной высоты в воду тела. И когда Тома услышал этот звук, для него это было как бы выстрелом мушкета в голову: он раскинул руки, замахал ими, дважды повернулся на месте и упал перед телом Геноле ничком…
…Тогда как Хуана вдруг разразилась торжествующим ужасным смехом.
Но даже и после этого смеха он ее не убил. Она повернулась, продолжая смеяться, к своей каюте. Из дверей она осмелилась ему крикнуть:
– Иди сюда!
Он пошел за ней, – не сразу, – он уже приподнялся на колени, опираясь на руку, но тут его блуждающий взгляд упал случайно на другую руку, окровавленную. И странным образом он вспомнил внезапно малуанскую колдунью, повстречавшуюся ему пять лет тому назад на улице Трех Королей близ ворот Ленного Креста. И он твердил себе, мрачный, в великом ужасе и великом отчаянии, тогдашнее предсказание, – осуществившееся: «На руке этой кровь… Кровь кого-то, кто здесь близко от вас… совсем близко, тут…»
XI
Он не убил ее ни в этот и ни в один из следующих вечеров. Он так и не убил ее никогда. Это подобно было ярму, которое она повесила ему на шею; это подобно было ошейнику, который она нацепила ему на шею. Ярмо плоти, плотский ошейник. Сладострастные узы, которых никакой волей уже не распутать.
Когда она звала: «Иди!» – он шел. Окровавленное тело Луи Геноле, – Луи, бывшего для Тома Братом Побережья, и братом, и товарищем, и еще много большим, бывшего ему настоящим отцом и матерью, и всей подлинной родней, братом, сестрой, другом, – словом, всем, всем решительно, – окровавленное тело Луи Геноле, несмотря на то, что Тома беспрестанно видел его во сне, подобно страшному призраку, – несмотря на то, что он безустанно плакал и рыдал всякий раз, когда возвращался этот призрак, – окровавленное тело Луи Геноле, невзирая на это, не послужило для Тома и Хуаны слишком длительным препятствием… Скажем лучше прямо и откровенно: в первую же ночь, последовавшую за ночью убийства, Хуана, дерзко открыв свою дверь, крикнула Тома: «Иди!» И в первую же ночь Тома пришел…
Когда он приходил теперь, когда он переступал порог этой каюты, которую она тем не менее продолжала часто запирать из смелой дерзости… или, может быть, из тонкого расчета, когда он входил наконец, она сначала как будто совершенно не замечала его присутствия. Она не смотрела на него и если пела, то не прерывала песни, причесываясь, не прекращала прически.
Порой она бывала одета в пышное платье, не успев еще снять своего дневного туалета. Ибо она, по-прежнему, больше всего на свете любила красивые материи и роскошные безделушки и посреди американских вод пыталась следовать изменчивой моде Версальского двора или, по крайней мере, тому, что она о ней узнавала или предполагала. Так всю свою жизнь тратилась она на пудру, румяна, мушки, мази, эссенции и духи. Но чаще всего Тома находил ее обнаженной, – обнаженной и лежащей на той самой койке, на которой так недавно он увидел ее также обнаженной… и вместе с кем-то еще…
Ей по нраву было в ту пору бесстрастно следить за вожделением этого человека, который был когда-то ее владыкой и сделался отныне ее обесчещенным рабом. Развалившись среди подушек, раскинув руки, разметав ноги, одну туда, другую сюда, она нарочно медлила, обсасывая какой-нибудь леденец или вдыхая запах смоченного фиалковой водой платка. Через некоторое время она, правда, отбрасывала духи и сласти, но для того лишь, чтобы зевнуть сладострастно, зевнуть, являя взору, подобно сладостному и запрещенному плоду, весь свой полуоткрытый рот: теплые и подвижные губы, острые зубки, искусный в лизании язык; затем, зевнув, вытягивалась и потягивалась всем телом, медленными движениями, открывавшими взору по очереди живот, спину, плечи, груди, бедра. И Тома, в лихорадке, но укрощенный, лицезрел все это, – не смея шевельнуть пальцем, моргнуть глазом, пока она его не позовет, – не позовет, как зовут собаку, резким и повелительным жестом.
И тогда они сплетались.
Даже сделавшись флибустьеркой после стольких битв и сеч, испытав столько разных климатов, посетив столько стран, она оставалась все той же андалузкой, все той же набожной богомолкой, преклоняясь у ног своей Смуглянки и моля ее ниспослать ей более пылкие страсти. И не раз, когда любовник обнимал ее, она его отталкивала, чтобы вместо лишней ласки крестным знамением осветить объятие.
Это было самое буйное, самое неистовое, самое дикое объятие, – и также самое искусное. Из этих рук, столь хрупких и бархатистых, из этих слабых рук с ногтями, подобными лепесткам роз, корсар выходил разбитый, изнемогающий, сонный, с омертвевшим телом, иссушенным мозгом. На растерзанной, смятой, опустошенной койке лежал он распростертый, подобно солдату, которого выстрел приковал к земле и который остается недвижим, сражен.
И тогда она, Хуана, склонившись над ним, не сводила с него странного взгляда…
Слишком женщина, слишком также гордая, чтобы притворно выказывать в объятиях мужчины сладострастие, которого она на самом деле не испытывала, она, случалось, оставалась в иные дни бесчувственной и холодной и отвечала взрывами смеха на рыдания и спазмы любовника. Но гораздо чаще она и сама распалялась в любовных играх, отдавалась им вся целиком, впиваясь пальцами в давящее ее тело, кусалась, царапаясь, рыча… чтобы, наконец, упасть с вершины миновавшего наслаждения в самую глубь той мрачной и немой бездны, в которую рушился в то же мгновение и сам Тома и где она уничтожалась рядом с ним, поверженная, как и он.
Она любила его, Тома, за то наслаждение, которое он ей доставлял и равного которому не сулил ей дать ни один мужчина, – хотя она небось занималась этим не раз, в остервенелых поисках, развратная потаскуха… Ни один мужчина, включая даже венецианца, хотя тот и был весьма изощренным и изобретательным любовником, подобно людям его расы. Но для нее, принадлежавшей к другой расе, простой и бурной, никакое изощрение, никакая утонченность не могли сравниться с силой, со всемогущей силой…
Она любила, стало быть, самого сильного. Но она также и ненавидела его именно из-за этой самой любви, ее обуревавшей, ее порабощавшей. Гордость пленницы, сделавшейся госпожой, уязвлялась этим. И порой она доходила до того, что начинала ненавидеть себя, упрекая себя, как за преступление и гнусность, за каждое испытанное наслаждение, за каждое вольное или невольное объятие, за каждый полученный и возвращенный поцелуй…
Тогда для того, чтобы искупить перед самой собой указанные гнусности и преступления, она удваивала свое презрение и жестокость, стараясь себя успокоить и убедить в том, что, несмотря на взаимное наслаждение, она все же оставалась королевой, а Тома – рабом. И она жадно хваталась за каждую возможность проявить эту свою царственность за счет раба – Тома…
Так, например, несколько дней спустя после смерти Луи Геноле, она заставила Тома сняться с якоря и поднять паруса прочь от Тортуги, с единственной целью нарушить составленный вначале Тома проект, заключавшийся в том, чтобы сняться одновременно с эскадрой флибустьеров, направлявшейся в Южное море, дабы остаться незамеченными королевскими чиновниками в путанице кораблей, снимающихся в таком большом количестве.
Но так как Хуана решила по-другому, «Горностай» снялся с якоря один, задолго до Южной экспедиции, и не стал прятаться…
XII
Через три недели, как раз в день своего возвращения на Тортугу, «Горностай» удостоился весьма неожиданного и странного посещения…
Вечерело. А Тома отдал якорь ровно в полдень. Когда солнце начало погружаться в западные воды, в порту отвалила шлюпка и тихонько направилась к малуанскому фрегату, – очень маленькая шлюпка с двумя веслами, на которых сидел всего лишь один негр. В этой хрупкой посудине плыл пассажир, который, видно, старался скрыть свое лицо, пряча его на три четверти под опущенными полями большой шляпы. Ночь, быстро спускавшаяся, как спускаются все тропические ночи, наступила раньше чем шлюпка подошла к корсару. Наконец она достигла его. Тома, случайно прогуливавшийся взад и вперед по ахтер-кастелю, услышал тут свое собственное имя, громким голосом произнесенное. Он посмотрел. Человек в низко опущенной шляпе разговаривал с вахтенным. Тома спустился навстречу посетителю в то время, когда тот поднимался по входному трапу. Они встретились на шканцах. И, крайне удивленный, Тома узнал тогда господина де Кюсси Тарена, губернатора короля и господ из Западной Компании, поставленных над Тортугой и побережьем Сан-Доминго.
Господин де Кюсси Тарен тотчас подмигнул ему и приложил палец к губам. Он не назвал себя вахтенному. Тома без труда почуял здесь какую-то тайну, и, не говоря ни слова, провел губернатора в кают-компанию. Там оба уселись и внимательно стали друг друга разглядывать, все также молча. Пораженный Тома не верил своим глазам: сам он ни разу не являлся с визитом к господину де Кюсси! Тем более странным и необычайным казался этот поступок столь важной персоны. Однако же он вскоре получил объяснение.
Действительно, вдоволь поколебавшись, подобно человеку, не знающему, с какого конца лучше начать очень серьезную беседу, королевский губернатор внезапно решился и взял некоторым образом быка за рога: без всяких витийств он с места в карьер стал допытываться у Тома, что делал «Горностай» в открытом море и не захватил ли он, случаем, какой-нибудь добычи, вопреки формальному запрещению его величества.
Быстрые глаза губернатора внимательно изучали лицо Тома. Тот после этого вопроса густо покраснел и уже собирался вскочить с места.
– Не обижайтесь на мой вопрос! – воскликнул тогда господин де Кюсси Тарен, удерживая корсара за рукав куртки. – Не обижайтесь! И умоляю вас, капитан де л’Аньеле, посудите сами, – одно мое присутствие у вас на корабле должно вас убедить в моих добрых намерениях. По чести, сударь, я пришел к вам ради вашего же блага. И не за мной дело станет, чтобы оказать вам ныне самую верную услугу!
Удивленный Тома снова опустился на стул. Господин де Кюсси пододвинул свой стул и протянул Тома широко открытую руку.
– Давайте руку и выслушайте меня! – продолжал он не без живости. – Выслушайте меня, и вы перестанете сомневаться.
После чего он стал увещевать Тома, довольно красноречиво, отметив сначала его редкостные достоинства, ряд его изумительных подвигов и доблестных поступков, поистине невероятных, которыми он в конце концов заслужил несравненную славу по всей Америке, с одного конца до другого. Невыносимо было бы думать, что столь честный человек, как капитан де л’Аньеле, рискует заслужить плохую благодарность за свою великую отвагу. И сам он, де Кюсси Тарен, благородный дворянин и честный солдат, поклялся предотвратить это зло.
– Вот как? – молвил Тома, ничего не понимая.
– Вот так! – подтвердил господин де Кюсси. – И теперь я перехожу к делу без дальних околичностей.
Он отстегнул две пуговицы и стал рыться в карманах, желая, видимо, найти что-то.
– Капитан де л’Аньеле, – продолжал он между тем, – вы помните, быть может, что мы уже однажды виделись с вами на острове Вака, накануне того похода, блистательного, но и прискорбного в то же время, который вы и товарищи ваши флибустьеры предприняли в прошлом году против Веракруса… В тот раз я пришел сам на ваше совещание сообщить вам категорические распоряжения его величества короля Франции. Мне помнится, что вы, сударь… да, вы лично, ответили мне весьма обходительно, – но с недоверием. Не правда ли, я не ошибаюсь? Заклинаю вас ответить мне без страха и вполне искренне.
Слово «страх» не относилось к тем, которые Тома мог слышать без гнева.
– Ну да, черт возьми! – сказал он резко. – Ничего в мире я, сударь, не страшусь, и вы не ошиблись. Только что вы назвали меня, сударь, честным человеком. Я действительно таков. И король тоже таков, я это говорю, так как знаю сам, разрази меня Бог! Поэтому я не верю и никогда не поверю, чтобы такой честный человек, как король, захотел угрожать, да еще жестоко угрожать, как мне хотят непременно внушить, такому честному человеку, как я, за какое-то затопленное испанское барахло или несколько вздернутых голландцев. В особенности после того, как этот честный человек послужил нашему честному королю так, как я!
Он гордо выпрямился на стуле, подбоченясь сжатым кулаком.
Но господин де Кюсси покачал головой.
– Капитан де л’Аньеле, – сказал он медленно и весьма торжественно, – король, конечно, как вы говорите, честный человек и было бы смертным грехом хотя бы усомниться в этом. Тем не менее он отдал упомянутые распоряжения, подписал приказы, которым вы не хотите поверить, и действительно грозит смертью каждому, кто пойдет ему наперекор. Всему этому есть доказательства. И я явился к вам на корабль с тем, чтобы принести вам эти доказательства, дать вам увидеть их собственными глазами и коснуться их собственными руками!
Он, вытащив наконец из камзола сложенную вчетверо бумагу, развернул ее и протянул корсару. Это было не что иное, как точная копия «Инструкции господам комиссарам его величества, на коих возложена миссия в Вест-Индии». Заинтригованный Тома начал не без труда разбирать первые слова, так как почерк был мелкий. По счастью, не успел он разобрать и полстрочки, как господин де Кюсси его перебил.
– Когда вы прочитаете, – сказал он с искренней печалью, – когда вы прочитаете собственными глазами, вы поверите… Сударь! Мне хотелось вас предостеречь и с этой целью показать вам ваше собственное имя, написанное здесь рукой самого господина Кольбера де Сеньела, стало быть, без сомнения, под диктовку короля.
Ошеломленный Тома подскочил как ужаленный.
– Мое имя? – воскликнул он.
– Ваше имя, да! – ответил господин де Кюсси Тарен. – Ваше имя полностью: Тома Трюбле, сеньор де л’Аньеле…
Он снова взял из рук Тома написанную, к прискорбию, столь мелко копию. Пальцем указал он на пометку на полях, действительно продиктованную королем Людовиком. И Тома мог вволю таращить на нее глаза.
– Ну? – спросил губернатор после минуты молчания.
Но Тома, прочитав, перечитывал и снова перечитывал. Последняя фраза особенно привлекала и удерживала его взор, подобно гибельному магниту:
«А буде за преступлением не последует скорое раскаяние, то былые наши милости справедливо обратятся против преступника и усугубят ему кару».
– Я полагаю, – добавил господин де Кюсси, – что вы больше не сомневаетесь?
Тома, наконец, опустил голову. Он не ответил. И, действительно, что мог он ответить? Верно, он больше не сомневался. Но так же верно было и то, что он плохо понимал.
Между тем губернатор короля поднялся с места.
– Господин де л’Аньеле, – сказал он торжественно, – имею честь откланяться, я удаляюсь. До губернаторского дома отсюда очень далеко.
Тома молча поднялся вслед за своим гостем и машинально отвесил ему поклон.
Господин де Кюсси Тарен, стоя со шляпой в руке, готов был переступить порог кают-компании. Однако же он остановился, как бы желая еще что-то добавить, и, наконец, достаточно неожиданно, закончил следующим образом:
– Сударь, благоволите еще раз выслушать мою просьбу: не забывать, что здесь дело идет о вашей голове. Те, кто отныне будет каперствовать, будут почитаться не корсарами, а пиратами. Да, пиратами! Сударь, это вот, больше всего прочего, мне и хотелось вам сказать. Прощайте, сударь.