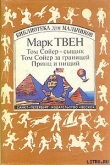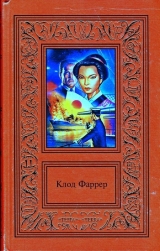
Текст книги "Сочинения в двух томах. том 2"
Автор книги: Клод Фаррер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 44 страниц)
Не ответив ни слова, Тома вторично поклонился. Такие похвалы, невзирая на его настроение, приятно щекотали его самолюбие.
– Так вот, сударь мой, – продолжал адмирал, – я ваш покорный слуга и рад тому, что кроме того, я ваш должник. Говорите же и располагайте мною. Я пользуюсь некоторым влиянием и был бы счастлив сделать вам что-нибудь приятное. Чем я могу вам служить?
Он смотрел Тома прямо в глаза. Но Тома, частью от удивления, частью от смущения, по-прежнему не разжимал рта.
– Ну ладно, – сказал господин де Габаре, который хотел было улыбнуться, но сделал только гримасу, так как обрубок его правой руки причинял ему сильную боль, – я знаю, где ваше чувствительное место. Вы, сударь, – корсар, и этот фрегат, которого вы намедни с таким благородством не щадили на благо короля, очевидно, и составляет ваше главное богатство. Ежели так, то не беспокойтесь. Его величество не потерпит, чтобы храбрый человек понес какой бы то ни было ущерб, сражаясь ради спасения чести королевской эскадры. Клянусь святым Людовиком, моим благородным патроном! От имени короля я покупаю у вас ваш «Горностай» и заплачу вам вдвое против того, что он вам самому стоил новенький, при покупке.
На этот раз Тома уже не мог не ответить.
– Господин адмирал, – сказал он, в третий раз снимая шляпу, – сердечно вам признателен. Но прежде всего фрегат этот не мой, и я всего капитан его на службе у своего арматора, господина кавалера Даникана, который чрезвычайно богат. Да я и сам достаточно богат, даже больше того, так как, не говоря о прочем добре, добытом прежде на войне, у меня здесь, в рундуке, в моей каюте, больше семисот тысяч ливров золотом, звонкой монетой, которые одному мне принадлежат и никому другому.
– Семьсот тысяч ливров! – воскликнул в недоумении господин де Габаре.
– Ровно столько, – горделиво подтвердил Тома.
Своей единственной рукой командующий эскадрой покрутил седой ус.
– Семьсот тысяч золотых ливров! – повторил он вполголоса, почти недоверчиво, – Откуда же у вас, сударь, такое сокровище?
Тома горделиво подбоченился.
– Из Сиудад-Реаля Новой Гренады, – ответил он, – из Сиудад-Реаля, испанского города, который я в свое время взял приступом вместе с моими друзьями флибустьерами и который я как следует разграбил. Сейчас там камня на камне не осталось.
Слово «флибустьеры» произвело свое действие. Господин де Габаре перестал сомневаться. Но тем более поразился. И посмотрел на корсара вытаращенными от удивления глазами.
– Так. значит, сударь, – сказал он медленно и торжественно, – у вас было намедни на вашем фрегате, так же как и сейчас, семьсот тысяч ливров собственных ваших денег? И, несмотря на это, вы, нимало не колеблясь, приняли участие в опасном бою, от которого легко могли бы уклониться, если бы того пожелали? Клянусь честью! Вы поступили храбро! Потому что вы крупно рисковали в этой игре… Побежденный, взятый в плен, вы бы все сразу потеряли, и свободу и богатство… А может быть, у вас есть жена и дети, которые ждут вас дома, в Сен-Мало, и рассчитывают, что вы им привезете это богатство…
– Побежденный? Взятый в плен? – повторил Тома, осмелившийся захохотать во все горло. – Эх, господин адмирал, что это за звери такие? Про них ни я, ни моя команда ничего не слыхивала за все пять лет, что мы гоняемся по всем морям за врагами короля!.. Что касается того, чтобы иметь детей, то у меня их нет; что же до того, чтоб жену иметь, так жена у меня, с Божьей помощью, есть, но только не дома в Сен-Мало, потому что она спит тут же, в моей собственной каюте, и давеча получила свою долю в нашем сражении…
Старый флагман подскочил на месте, словно хотел выпрыгнуть из носилок.
– Как? Что? – воскликнул он. – Ваша жена, сударь, была у вас все время на судне? Вы атаковали неприятеля, имея ее рядом с собой?
– Ну, конечно, – ответил Тома, – она даже надела, ради издевки над этими голландскими крысами, самое лучшее свое парчовое платье, на голову ей пошло два фунта пудры и по два фунта румян на каждую щеку!
Господин де Габаре снова улегся на носилки.
– Сударь, – сказал он просто, – королю это будет известно.
VII
Миновав главные ворота, карета покатила по мелкому песку величественной аллеи. Тома, наклоняясь к окну, увидел повсюду высокие стволы парка, похожего на лес. Оголенные от листьев деревья покрылись инеем. Белые, замерзшие лужицы блестели там и сям на черной земле. Переплетающиеся ветви нежным кружевом затянули небо. На одном из перекрестков мраморный бассейн мелькнул своими фонтанами, которые сложным водопадом рассыпались среди плавающих льдинок. Подальше три ручные лани, заслышав приближение лошадей, перестали щипать траву, но не убежали. Здесь царило большое великолепие, строгое и спокойное. И Тома, хотя и очерствел в многолетнем плавании, грубом, даже диком, был как-то особенно тронут этим.
Он замолчал, не зная, что сказать, или не решаясь говорить. И продолжал безмолвно смотреть на покрытую инеем чащу, на все еще зеленеющий плющ и на статуи, разбросанные кое-где по строгим уединенным аллеям.
Тогда командующий эскадрой, господин де Габаре, полулежавший в глубине кареты рядом с Тома, возобновил разговор, прерванный при въезде экипажа в королевский парк.
– Сударь мой, – сказал он с той изысканной любезностью, которую всегда проявлял к Тома, – вы приезжаете сюда впервые.
Мне крайне лестно, что на мою долю выпала честь служить вашим проводником. Мы уже в самом Сен-Жермене, и вы скоро увидите замок и террасу, всеми признаваемые за истинное чудо. 3-го сентября сего 1678 года исполнится тридцать лет с того дня, как в этих прекрасных покоях родился наш король. Хоть я и был порядочным молокососом в то уже отдаленное время, но вспоминаю это так, как будто это происходило вчера… Увы, сударь! Куда нашему времени равняться с тем! Конечно, мне и в голову не приходит осмелиться хоть сколько-нибудь критиковать блестящие действия, знаменующие нынешнее царствование. Но величие современности не изгладит из моей памяти прелести былого… Вот! Полюбуйтесь на замок, который там прячется среди лип, взгляните на террасу, к которой мы подъезжаем, и скажите мне, найдете ли вы что-либо подобное во всем мире? Но должен вам сказать, сударь, по секрету, что его величество не любит Сен-Жермена… Он предпочитает ему преплачевную местность, безводную и в то же время болотистую, под названием Версаль, ради которой Сен-Жермен рано или поздно будет покинут! Согласитесь, сударь, что это запустение будет печально и что старики вроде меня, хранящие здесь самые дорогие воспоминания молодости, будут вправе огорчиться, когда не найдут уже среди этого благородного убранства королевской роскоши и великолепия, которые вы скоро увидите…
В это время карета, круто завернув за угол пышной эспланады, остановилась. Командующий эскадрой вылез из нее, опираясь единственной своей рукой о плечо Тома, который и сам сошел вслед за ним.
– Вот мы и приехали, сударь, – сказал господин де Габаре, отпуская карету. – Как раз сюда придет сейчас король, и я буду иметь удовольствие представить вас ему, согласно его монаршего приказания. Это не замедлит случиться, так как мы не на много раньше явились, чем было назначено, а в мире нет никого, кто был бы так точен, как его величество. Ни ветер, ни дождь, ни холод, ни жара не могут помешать ему гулять каждый Божий день в своих садах и угодьях. Во всяком случае, мы издали увидим приближение кортежа, и вам ничто не мешает пока что полюбоваться этим прекрасным видом.
Действительно, с высоты террасы можно было окинуть взглядом несравненную по великолепию и разнообразию равнину. Широкая река чертила по ней серебристые излучины, и Тома узнал от господина де Габаре, что река эта и есть та самая Сена, которая орошает Париж. За ней, возвышаясь над лесами, виднелись деревенские колокольни. А еще дальше, за поросшей лесом горой, скрывалась столица, куда Тома приехал позавчера и благодаря которой уже два дня ходил как обалделый, – до такой степени эта столица сбила его с толку своей изумительной протяженностью, множеством встречающихся там людей и неслыханным шумом, который там творится… Поистине, даже сама Вест-Индия меньше отличалась от Сен-Мало, чем Париж…
Вдруг Тома почувствовал, что из головы у него вылетели разом все мысли, как улетает стая чаек при звуке пушечного выстрела: господин де Габаре с живостью притронулся к его плечу, прошептав одно лишь всесильное слово:
– Король!
Невольно Тома скинул шляпу. Командующий эскадрой стоял уже с непокрытой головой. Блестящий кортеж быстро выходил из замка. Там виднелись лошади, кареты, лакеи и беспорядочная толпа людей, шумно суетившихся, как бы стремящихся окружить небольшую группу великолепно разодетых вельмож, которые шли во главе кортежа в сопровождении пикета мушкетеров и конвоя его величества. Блистали красные плащи, расшитые крестами, сверкало золото галунов и позументов. Тома, глядевшему с открытым ртом и бьющимся сердцем, показалось, что солнце вдруг прорвало серую завесу облаков и рассыпало свои лучи по всему парку и дворцу.
Кортеж приближался к террасе. Тома начал различать лица. Среди придворных, шедших впереди, выделялась одна фигура, выше, плотнее и величественнее других. Тома вздрогнул, узнав надменные черты, проницательный взгляд, гордые линии носа. Это был король, совсем такой, как на изображавших его монетах и картинах, которые Тома нередко разглядывал, совершенно не предполагая, что когда-нибудь удостоится великой чести встретиться лицом к лицу с оригиналом этих портретов, самих по себе столь чтимых народом…
Король приближался. Господин де Габаре потеснился к краю террасы и должен был сделать знак Тома, который от волнения оставался в самом центре ее, как раз на пути короля. Глубокая тишина нарушалась лишь хрустом гравия под ногами идущих. Ибо ни один придворный не раскрывал рта, и даже птицы в парке, как бы из уважения к царственной особе, таинственно замолкли.
Выбрав удачный момент, находясь в шести шагах от его величества, господин де Габаре отвесил церемонный поклон. Тома, поупражнявшийся в этом деле, также поклонился, сохранив ровно столько хладнокровия, сколько надо было, чтобы не забыть, что ему надлежит в точности подражать каждому жесту старого адмирала, дабы не погрешить против этикета. И король весьма вежливо дотронулся до своей шляпы и остановился.
Остальное показалось Тома каким-то сновидением, от которого сохраняется смутное, но неизгладимое воспоминание. Господин де Габаре обратился с приветствием к королю, и из всего этого приветствия Тома не расслышал ни звука. Но когда король заговорил, он внезапно обрел слух, и каждое слово королевского ответа навсегда запечатлелось в его памяти. Король сказал:
– Мне всегда приятно видеть своих храбрых подданных, столь доблестно защищающих от всех моих врагов славу моего оружия и честь Франции.
Немного погодя, король добавил:
– Это и есть тот герой-корсар, о котором вы мне говорили? Да, у него бравый вид! Но правда ли, что он совершил все те чудеса, о которых вы мне докладывали? Быть может, вы, по своей скромности, приписали ему много подвигов, за которые, по справедливости, надо благодарить вас?
На сей раз Тома разобрал слова адмирала.
– Государь, – возразил тот, – я готов присягнуть, клянусь распятием! Господин этот, капитан малюсенького фрегата, привел в негодность три больших голландских корабля, из которых два вскоре бежали перед ним одним, в то время как он брал на абордаж и поджигал третий; после чего, перевооружив, насколько это было возможно, свой же фрегат, сильно пострадавший, смею вас уверить, ваше величество, он, не колеблясь, снова бросился в самую гущу сражения на помощь и спасение нам, господину д’Артелуару и мне. Да разразит меня небо, если я сказал хоть одно слово неправды!
– Я не сомневался в вашей искренности, – молвил король, – но для меня было большим удовольствием еще раз послушать повторение всего этого.
Он посмотрел на Тома. И под огнем этого державного взгляда Тома почувствовал, что ноги его подкашиваются и вся кровь от головы отливает к сердцу.
– Сударь, – продолжал король, обращаясь прямо к Тома, – сударь, я знаю, что вы человек с достатком и что вы руководствуетесь не корыстью. Однако же мне хотелось бы отметить, насколько я вас ценю. Скажите же мне, сударь, до сей поры вы не были дворянином?
Тщетно пытался Тома ответить. Слова застряли в его пересохшем горле. И, кланяясь так же, как кланялся господин де Габаре при каждом своем ответе королю, он мог лишь покачать отрицательно головой.
– Отныне вы являетесь таковым, – сказал король.
Он сделал знак одному из вельмож, стоявшему за ним с непокрытой головой. И тот, приблизившись, склонился до земли, подавая его величеству пергаментный свиток, который король собственноручно передал Тома.
– На колени! – успел вовремя шепнуть ему господин де Габаре.
И Тома, смущение которого все возрастало, преклонил оба колена вместо одного.
– Для чести дворянства людям вашего достоинства надлежит быть благородными, а не разночинцами. Помимо этой грамоты, которой я вас жалую, я вас награждаю, сударь, чином капитана, дабы вам не иметь впредь другого арматора, кроме меня. Остальное – ваше дело! Знайте лишь, что от вас самих зависит не останавливаться на столь прекрасном пути, ибо флот наш еще терпит немалую нужду в хороших флагманах, каким был вчера господин де Габаре, а также и в хороших помощниках главнокомандующего, каковым он стал сегодня…
Господин де Габаре отступил на два шага, чтобы отвесить королю более низкий поклон. И, кланяясь, он снова шепнул Тома, все еще стоявшему на коленях:
– Благодарите! Благодарите короля!
И Тома, тщетно разыскивая во всех извилинах своего мозга такое приветствие, которое разом бы выразило его восторг, его гордость и безмерную признательность, переполнявшую ему сердце, ничего не мог найти. Но, желая все-таки ответить, как-то передать волновавшие его беспорядочные чувства, он откашлялся и, наконец, закричал почти во все горло:
– Государь! Государь! Ваше величество прекрасно поступили!..
Книга вторая
СЛИШКОМ ТЕСНОЕ ГНЕЗДО
I
Уютно развалившись в новом кресле, Мало Трюбле протянул руку к дубовому столу, чтобы взять свою кружку, еще наполовину полную. Андалузское вино сверкало чистым золотом, и, выпив его, старик Мало подумал о том, что это жидкое золото в точности похоже на мягкое золото волос Гильеметы, сестры Тома, вышивавшей подле отца; похоже также на звонкое золото, которым наполнен подвал его дома. И, возликовав до самого мозга своих полувысохших костей, Мало Трюбле стукнул опорожненной кружкой об стол.
– Ну, – сказал он, – Гильемета! Небось, ты довольна: ты теперь так разоделась в золото, что даже подкладка твоего чепца блестит!
Но Гильемета только молча покачала головой, причем нельзя было понять, что она хочет этим выразить, и сделала вид, что вся ушла в свою работу.
Мало Трюбле обратился тогда к своей благоверной, которая пряла, по своему обыкновению, у большого занавешенного окна.
– Мать! – сказал он. – Погляди-ка время на кукушке.
Перрина Трюбле встала, чтобы получше разглядеть стрелки на потемневшем циферблате.
– Скоро шесть, – сказала она.
– Час добрый! – молвил старик еще веселее. – Тома не замедлит сейчас явиться, а мне не терпится поужинать, так как я, ей-богу, проголодался.
Но Гильемета опять иронически покачала головой. Она очень сомневалась, чтобы Тома опоздал не на много. И не без причины…
Действительно, за тот месяц, что Тома, вернувшись в Сен-Мало, снова занял свое место у домашнего очага, он перестал церемониться со старыми семейными обычаями, которые в былое время соблюдал гораздо строже. Старый Мало, полный снисхождения к этому сыну, вернувшемуся со столь доблестной славой и столь жирной добычей, охотно давал ему поблажку. Но, как это ни странно, как раз Гильемета, бывшая когда-то брату такой хорошей сообщницей в шалостях и проказах, стала теперь, наоборот, выказывать строгость и жеманство и сердилась, видя его более независимым и взрослым, чем бы ей хотелось…
Между тем здесь требовалось некоторое снисхождение. Шесть лет сражений и побед наилучшим образом объясняли, отчего Тома-Ягненок не был вылитым Тома Трюбле былого времени. И весь Сен-Мало охотно принял это объяснение.
Надо сказать, что Тома ничем не пренебрегал вначале, чтобы выказать себя с самой выгодной стороны перед своими согражданами. Отчасти, конечно, тщеславие, но также и расчет. Парень недаром был наполовину нормандцем. И прежде всего сам день его возвращения был, бесспорно, великолепным и выигрышным днем.
«Горностай» вошел в Гавр на Рождество 1677 года, но в силу известных нам уже повреждений, провел целых три месяца в ремонте, тимберовке, обмачтовании и прочем под осторожным руководством верного Геноле. Все это в то самое время, когда Тома, вызванный ко дворцу, получал там блистательные доказательства монаршей милости. После чего, когда все вошло в обычную колею, – то есть, когда Луи заново отремонтировал фрегат, а Тома с Хуаной, своей милой, хорошенько поразвлекались в самых лучших харчевнях этого столь приятного города Гавра, – капитан и помощник сошлись на том, что не стоит ждать мира, хоть все и уверяли, что он близок, а надо снова отважно пуститься в плавание, чтобы пройти в Сен-Мало под самым носом у голландцев. Менее храбрые призадумались бы в этом случае, так как семьдесят кораблей Соединенных Провинций владели еще Ла-Маншем, имея во главе одного из сыновей старого Тромпа. Кроме того, англичане также впутались в войну и присоединили свои эскадры к голландским, – из зависти и ненависти к великому королю. Но англичан или голландцев и даже коалиции англичан с голландцами было недостаточно, чтобы стеснить свободу движений Тома Трюбле, по прозванию Ягненок, при возвращении его после шестилетнего отсутствия к себе на родину. И «Горностаю», сделавшемуся после недавнего килевания таким хорошим ходоком, как никогда, было также наплевать на грузные линейные корабли, как свинье на апельсины.
И в самом деле, в конце концов миновали форты Колифише и Эпрон, не сделав ни единого выстрела, хотя два больших неприятельских крейсера упорно стреляли залпами перед Рансским камнем в целях лучшей блокады Сен-Мало. Тома, полный презрения, не соблаговолил показать им даже своего страшного, багряного флага.
И вот весь малуанский народ, сбежавшийся на призыв дозорных с башни Богоматери, мог, наконец, полюбоваться со Старой Набережной, почерневшей от восторженной толпы, на этого столь славного «Горностай», высокие почти легендарные деяния которого так долго не сходили со всех уст и всем прожужжали уши. Он и впрямь был тут, нарядный, расцвеченный флагами и, – как всем было известно, – прямо-таки чудесно набитый золотом. Вскоре появился и сам Тома, пристав на своем вельботе к песчаному побережью, что лежит к северу от Равелина. И все благочестиво порадовались, увидев, как он, перед тем как войти под свод бастиона, остановился у подножия большого бронзового Христа и помолился там, не торопясь, обнажив голову, опустившись на колени, не боясь испортить тонкий бархат своих штанов.
Как было не простить такому славному и храброму малому, столь набожному, доблестному и богатому, того, что он, как и в былое время – если не больше – остался кутилой, пьяницей, бабником и непомерно возлюбил кабаки? Избавили же его господа из Магистрата от всякого преследования по поводу кончины бедного Кердонкюфа, хоть тот и был убит на поединке без свидетелей!
А что касается Мало Трюбле, то он, конечно, не склонен был относиться к собственному отродью строже, чем остальные малуанцы. Вот почему он весьма усердно черпал терпение в кружках доброго испанского вина, которым был отныне полон его погреб, – он совершенно безмятежно услышал, как кукушка прокричала шесть часов, и не рассердился, что Тома все еще нет.
Гильемета же встала и, нарочно шаркая ногами, чтобы обратить на себя внимание, отправилась посмотреть поближе часовые стрелки резного дерева, как бы желая подчеркнуть, что настало время ужина. Но старый Мало становился глуховат, когда ему того хотелось, и отвернулся, смотря в другую сторону. Затем вдруг позвал дочь:
– Гильемета! Пойди-ка сюда! Прочитай мне пергамент.
Пальцем он показывал на висевшую в рамке на стене дворянскую грамоту, пожалованную Тома королем. По нраву было Мало Трюбле поглядывать на эту грамоту, украсившую его дом столь великой и заслуженной славой, и слушать чтение ее, до которого он был великий охотник.
Так что, волей или неволей, а пришлось Гильемете прочитать ее от начала до конца.
«Людовик, Божией милостью, король Франции и Наварры, всем, ныне и присно, желает здравствовать.
Как последние войны, кои вести нам пришлось, явили свету высокие достоинства и доблести господина Тома Трюбле, капитана-корсара славного и верного нашего города Сен-Мало; каковой господин Трюбле, посвятив себя морскому делу, захватил в вест-индских водах и прочих местах более ста торговых и корсарских судов, ходивших под неприятельским флагом, захватил также немало военных кораблей голландских и испанских, и, наконец, спас честь нашего оружия, сражаясь один против троих противников в бою, данном в первый день Рождества лета Господня 1677-е под Гавром де Грас, бою, выигранном отвагой и умелым маневрированием упомянутого Трюбле.
То, желая особо выразить свое удовлетворение его знатной и честной службой и явить всему свету нашу любовь и уважение к таким подданным, почли мы за благо возвести, и настоящей грамотой возводим, упомянутого господина Тома Трюбле в дворянское достоинство, со всеми прерогативами, связанными с этим званием, включая все сеньориальные права и обязанности, право суда по гражданским, уголовным и опекунским делам, и прочая, и прочая… И повелеваем упомянутому Тома Трюбле именоваться отныне: сеньор де л’Аньеле 6161
Ягненок.
[Закрыть] – согласно прозвищу, которое он снискал и заслужил редкостными кротостью и человечностью, не менее, нежели отвага, отличавшими его в боях.Гербом упомянутому Тома Трюбле, сеньору де л’Аньеле, иметь: червленый щит, окаймленный картушью, в коем три отделанных золотом корабля, идущих с попутным ветром по лазурному морю, и над ними золотой ягненок рядом с двумя лилиями; щитодержатели: два американских туземца, опирающихся на лазурные палицы, усеянные золотыми лилиями; щит увенчан короной из лазурной, золотой, зеленой, серебряной и червленой пернаток, с нашлемником в виде золотой лилии.
Итак, препоручаем возлюбленным и верным нашим советникам, членам парижского Парламента, распорядиться сие прочесть, обнародовать и занести в книги, в точности хранить и соблюдать, дословно и по существу, в отмену всех прочих, несогласных с сим, указов, постановлений, распоряжений и иных грамот. Ибо такова наша воля.
И дабы быть сему прочным и неизменным вовеки, повелели мы скрепить сие нашей печатью.
Дано в Сен-Жермене, в Генваре месяце, в лето Господне тысяча шестьсот семьдесят восьмое, царствования же нашего тридцатое».
Подпись:
«Людовик».
И пониже: «скрепил – Филиппо».
И рядом: «засвидетельствовал – Бушера».
И внизу: «читано в совете – Филиппо».
И скреплено большой печатью зеленого воска.
Гильемета замолчала.
– Ты ничего не пропустила? – спросил внимательно слушавший отец.
– Ничего! – сухо ответила она.
Мало Трюбле снова развалился в кресле. Кукушка пробила половину седьмого.
– Те, кто добивался таких грамот, – сказал старик, кулаками ударяя по резным дубовым ручкам кресла, – имеют право ужинать хоть на час позже, если им заблагорассудится!
II
Во всяком случае те, кто представлял себе Тома Трюбле, сеньора де л’Аньеле, – не видя его и не зная, где его найти, – кутилой, пьяницей и бабником, непомерно возлюбившим все малуанские кабаки, начиная с «Пьющей Сороки» и кончая «Оловянной Кружкой», те ни черта не видели и попадали пальцем в небо.
Впрочем, находились и другие люди, которые лучше себе рисовали положение вещей и не полагались на болтовню разных кумушек. Они лучше были осведомлены, – через самих матросов сошедшей на берег команды, – для них не было тайной, что в ночь по приходе «Горностая» в Доброе Море, от фрегата отвалил весьма таинственный вельбот и пристал к берегу у Равелина. Предупрежденные, очевидно, заранее часовые не чинили судну препятствий и открыли ему Большие Ворота. И Тома, – это он возвращался таким образом в город, – провел за собою, держа за руку, молчаливую и замаскированную даму; дама же эта, опять-таки по словам матроса, была не кто иная, как некая испанская или мавританская девица, которую корсар похитил некогда неведомо где и сделал своей подругой, столь горячо любимой подругой, что никогда с ней не расставался, таская ее повсюду за собою, даже в самой гуще сражения под смертоносным градом ядер и пуль, и под конец дошел до того, что привез ее с собой в Сен-Мало.
Что же касается остального, – а именно того, что сталось с упомянутой испанкой или мавританкой, где удалось Тома ее поселить, что намерен он был с ней делать теперь или, скажем, позже, в этом городе, достаточно неприязненно настроенном к иностранцам и кичившимся своей недоступностью и строгой нравственностью, – об этом никто не имел ни малейшего понятия.
Не подлежало, во всяком случае, сомнению, что, вопреки распространенному мнению, Тома отнюдь не пропадал во всех злачных местах Большой улицы, являвшихся некогда предметом его вожделений, и, несмотря на это, не менее часто уходил из родительского дома, расположенного, как известно, на Дубильной улице, отправляясь затем гулять в одиночестве вдоль городских стен, задерживаясь в самых пустынных местах, как-то: у Низких Стен, – между Билуанской башней и башней Богоматери, – и у Асьеты, – в конце улицы Белого Коня, что на полпути между упомянутой Бидуаной и Кик-ан-Груанем. Там он бродил с самым мрачным видом. И никто еще не решался беспокоить там его своим непрошеным присутствием.
Да, конечно, сеньор де л’Аньеле совсем уже не был похож на Тома Трюбле былых времен…
Тот, правда, грубоватый, но хороший товарищ и веселого нрава, оставил в Сен-Мало много верных друзей. Этот, резкий, мрачный, не желавший сдерживаться, за исключением тех редких часов, которые ему так или иначе приходилось проводить ежедневно в доме на Дубильной улице, пренебрегал всеми теми, кто прежде любил его; пренебрегал даже драгоценными ласками родных и близких, что сначала очень огорчало сестру его Гильемету, затем очень ее опечалило и, наконец, сильно разгневало. Ее всегда связывала с Тома горячая привязанность и взаимное доверие, как в малых, так и в крупных делах. У них с Тома не было тайн друг от друга. И вдруг после этого долгого отсутствия, во время которого сестра вздыхала не меньше, если не больше, чем вздыхают жены и возлюбленные, когда их покидают любовники и мужья, брат, вернувшись домой, коварно забыл свои былые ласки, не желая возобновлять прежней близости.
Этого он решительно не пожелал и притом с первого же дня по возвращении.
Действительно, как только он переступил порог отчего дома, Гильемета не замедлила броситься в объятия своего любимого брата, столь гордо возвратившегося в лоно семьи. И Тома не преминул ответить поцелуем на каждый ее поцелуй, объятием на каждое ее объятие. Но когда дело дошло до рассказов и передачи всех подробностей этой шестилетней кампании, со всеми ее случайностями и удачами, со всеми разнообразными ее приключениями, Тома вдруг уперся и тотчас же как будто воды в рот набрал. Гильемета не могла двух слов из него вытянуть.
Тщетно изощрялась она, требуя рассказов то о сражениях, то о штормах, затем настаивая на подробном повествовании о захвате этого Сиудад-Реаля, столь богатого и знаменитого, что слава о нем докатилась до Сен-Мало; каждый вопрос только усиливал молчаливость корсара. И в довершение всего, когда любопытная Гильемета затронула вопрос о его любовных похождениях и о прекрасных заокеанских дамах, Тома, внезапно разозлившись и почти рассвирепев, вскочил вдруг со стула и выбежал из комнаты, хлопнув дверью и громко проклиная женщин, их дурацкую болтовню и эту их страсть всегда воображать, что мужчине нечем заняться, кроме бабья и всякого вздора. На чем и прекратились окончательно все рассказы и беседы.
И Гильемета все еще не могла утешиться.
Последняя из десяти детей Мало и супруги его Перрины, Гильемета была много моложе своих трех сестер, которые все повыходили замуж, когда она сама была еще совсем маленькой девочкой; моложе также всех своих братьев, среди которых Тома, младший из шестерых, был все же на целых пять лет старше ее, поэтому детство Гильеметы было уныло. Не то, чтобы старики и старшие братья и сестры плохо с ней обращались, – нет, – но, будучи все старше ее, они не забавлялись и не играли с ней. Позже лишь Тома, – и то, только он один, – когда ему исполнилось пятнадцать лет, а ей десять или одиннадцать, обратил внимание на эту не по летам развитую и осторожную уже девочку, умевшую все вокруг себя заметить, вовремя промолчать и не выдать секрета. Тогда он живо обратил ее в свою союзницу и сообщницу, пользуясь ее услугами, которые она с полной готовностью ему оказывала, для того, чтобы ловко скрывать свои мальчишеские проказы. Так родилась между ними нежная дружба. И дружба эта была настолько сильна, насколько деспотична, по крайней мере, у Гильеметы, что та решительно отказывалась от замужества и не раз на коленях умоляла старого Мало не принуждать ее соглашаться на то или иное предложение, хотя бы и выгодное. Она не хотела мужа. Она не хотела, чтобы кто-нибудь заменил Тома в ее горячей привязанности, в ее пламенном доверии…
И вот теперь он сам, Тома, отвергал то и другое и, можно сказать, порывал с братской любовью былого времени. Ей, Гильемете, стукнуло уже двадцать два года. Скоро она станет старой девой. Уже никто из парней за ней не ухаживал…
Дошло до того, что глухая злоба стала мало-помалу наполнять ее сердце, и нередко, когда Тома уходил из дома на свои одинокие прогулки вдоль городских стен, ловила себя на том, что взгляд ее, провожавший брата, полон не только раздражения, но и ненависти…
III
Проглотив наскоро обед, Тома как раз удирал тайком из нижней комнаты. Старый Мало, засидевшись за столом, делал вид, что не замечает поспешного бегства парня; Перрина, быть может, и опечаленная в глубине души, тоже не решалась ничего сказать. Так что одна Гильемета, собравшись с духом, соскочила также со своего стула и живо бросилась к двери, преграждая, как бы невзначай, дорогу брату.
– Ты так торопишься уйти? – тихо сказала она ему. – Кто это каждый день так призывает и притягивает тебя подальше от нас?