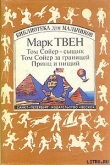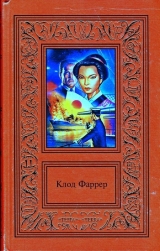
Текст книги "Сочинения в двух томах. том 2"
Автор книги: Клод Фаррер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
СТЕНА
Перевод В. Вальдмана
I
Когда маленькой Нектар минуло десять лет, и она усвоила предметы, преподаваемые в армянской школе в Кади-Кей, родители отдали ее Перуц-Ханум, знаменитой артистке турецкого театра, чтобы Нектар у нее научилась плясать.
И маленькая Нектар, после тяжелых и утомительных лет учения, стала Нектар-Ханум, танцовщицей, певицей и драматической актрисой. Эти три ремесла составляют на Востоке одно целое.
Ее отец сказал: «Для нее это подходящее ремесло, потому что она красива и гибка. Она будет зарабатывать много денег не только в турецких театрах, но и в гаремах, куда ее будут приглашать турецкие дамы в качестве учительницы пения и из желания насладиться ее красотой».
А мать добавила: «Не считая того, что в театре ее смогут видеть во время представления многие мужчины, христиане и турки, и они дадут еще больше денег за право провести с нею ночь».
II
Отец и мать Нектар жили в маленьком деревянном домике, подобном всем домам армян из беднейшей части населения. Они были бедны, но жили, не обременяя себя излишней работой: как ни мало было у них денег, но они отдавали их в рост туркам, обычно уже немолодым и небогатым, но вдруг загорающимся для таких, вне своего дома, удовольствий, за которые в их возрасте «вне своего дома» надо было платить…
У маленькой Нектар были сестра и брат. Сестра была уже большая и имела ребеночка, но не знала, от кого он. Брат был моложе; он бегал по улицам и зарабатывал металлические монетки, сопровождая туристов, посещавших большое кладбище в Скутари Азиатском.
Они жили все вместе дружно и счастливо.
III
В течение всех лет своего учения и даже позднее, когда, став великой артисткой и звездой, как Перуц-Ханум, она пела и плясала в театре, Нектар всегда, когда только это оказывалось возможным, садилась за стол вместе со всей своей семьей. Она добросовестно приносила домой все заработанные ею деньги. Она выполняла все, чего желали от нее ее родители…
IV
Перуц-Ханум скоро горячо привязалась к своей ученице.
Перуц-Ханум было сорок лет. Это была очень полная армянка, когда-то бывшая красавицей. Она и сейчас еще обладала своеобразной прелестью и обаянием, и публика в театре встречала ее восторженно. В Турции, как и в странах, населенных франками, артисток ценят особенно тогда, когда они вполне созреют. Их красота и талант, под угрозой надвигающейся старости, кажутся хрупкими, трогательными и особенно драгоценными.
Нектар-Ханум хотя была молода и стройна, но зато была послушна и старательна, и поэтому она начинала завоевывать себе имя у знатоков. Перуц-Ханум гордилась свое ученицей и, кроме того, находя ее красивой, обучала с удовольствием всему, что любят дамы, живущие в гаремах. За этими уроками обычно происходили длинные беседы. Обе они были одинакового происхождения и получили одинаковое воспитание, и мысли, которыми они с обоюдным удовольствием обменивались, были почти тождественными у обеих женщин.
V
Театр Гассана-Эффенди, где выступала Перуц-Ханум, представлял собой красивый круглый балаган, сколоченный из полированных досок, с рядом решетчатых лож для турецких дам. На сцене представлялись веселые комедии, а в качестве интермедий ставились танцы. Танцовщицы медленно покачивались, держась то вдвоем, то одна за другой, усиливая сладостную прелесть пляски страстными напевами, то жалобными, то дикими.
VI
Нектар-Ханум вызывала уже восхищение своей поразительной красотой раньше, чем оценили ее развивающийся талант. Зрители выражали свое одобрение, каждый по обычаю своей страны. Турки громко смеялись и хлопали в ладоши. Греки связывали вместе двух белых голубей и бросали их на сцену. Франки, когда бывали в театре, стоя, кричали «браво» и, вырвав из петлицы цветы, бросали их к ногам артистки. Часто те, кто были особенно сильно увлечены, мусульмане и христиане, ждали у маленькой выходной дверки. Но наученная Перуц-Ханум и всегда осторожная Нектар-Ханум, не слушая никого, спешила к своей арбе 3636
Арба – турецкий экипаж.
[Закрыть] или каику 3737
Каик – лодка.
[Закрыть]: потому что лишь жены какого-нибудь паши не имели права следить за своими мужьями… К тому же, не она, великая Нектар-Ханум, а ее брат, знающий, несмотря на свои небольшие годы о том, как часто самоуверенность мужчины не в ладу с содержанием его кошелька, охлаждал ее поклонников ценой и названием дорогой гостиницы…
VII
Дело происходило иначе, когда приглашение исходило от турецких дам, видевших Нектар-Ханум из глубины своих решетчатых лож и увлекшихся ею.
Турецкие дамы открыто посылали прислужницу постучать в дверь армянского домика в Кади-Кей. И прислужница, вполне официально, передавала поклоны от гаремных дам и приглашение явиться завтра или послезавтра в такой-то час в гарем и дать урок танцев.
Турецкие гаремы тщательно закрыты решеточками, сделанными из перекрывающихся деревянных пластинок. Ни вы, ни я никогда не узнаем, что там происходит.
VIII
И понемногу Нектар-Ханум стала знаменитостью, хотя ей было всего девятнадцать лет. Не покидая театра Гассана-Эффенди, в котором она была второй звездой, уступая только своей возлюбленной учительнице, Перуц-Ханум, Нектар-Ханум иногда плясала и пела и в других театрах, чтобы заработать побольше денег, и возбуждала соревнование антрепренеров.
IX
Однажды вечером она плясала в Пере, в театре, посещаемом иностранцами. Здесь все, было иначе, чем в Скутари или Стамбуле. Во время антракта женщина, прислуживающая при артистических уборных, пришла сообщить ей, что один из зрителей пожелал обладать ею:
– Он не стар. Он – из Франции. Он заплатит столько, сколько ты захочешь.
Нектар-Ханум подумала, что франки лучше турок, потому что их женщины не так ревнивы, и опасность не так велика.
– Он говорит по-турецки, знаешь… – настойчиво говорила женщина, хотевшая заработать бакшиш. – Он отлично говорит по-турецки.
X
Нектар-Ханум назначила свидание иностранцу в турецком доме на улице Абдула. Это был дом, полный таинственности, которым посетители пользовались для своих самых секретных похождений. У него было два выхода, дававшие возможность выйти на два различных темных перекрестка. С другой стороны, здесь мог проходить мимо каждый, не обратив на себя ничье внимание, так как через эти перекрестки вел кратчайший путь, соединявший две самые шикарные улицы: улицу Сира-Сельви и улицы Перы.
Нектар-Ханум вовсе не нуждалась в таких предосторожностях, чтобы встретиться с иностранцем. Но Перуц-Ханум говорила ей не раз, что влюбленные больше всего любят таинственность, хотя бы и совершенно излишнюю.
XI
В комнате, устланной циновками и увешанной коврами, переходящими в низкие тахты, Нектар-Ханум и иностранец пытались беседовать…
Иностранец действительно прекрасно говорил по-турецки.
– Когда вы танцевали, – сказал он галантно, – мне казалось, что передо мной вьется бабочка или стрекоза.
И он наговорил ей много любезностей, на которые Нектар-Ханум ответила тоже комплиментами. Но он захотел потом объяснить ей, почему он находил ее красивой и считал большой артисткой, и Нектар-Ханум не могла никак понять его: похвалы были совершенно невпопад, он восхищался совсем не тем, чем надо, и умалчивал о главных достоинствах. Впрочем, она не испытывала удивления, зная по опыту, что все иностранцы таковы, и вежливо благодарила его, кланяясь по-турецки и прикладывая руку к груди, к губам и ко лбу.
XII
…Они сплелись в объятиях на низком диване, подарили друг другу наслаждение, но в пароксизме страсти она восклицала: «Аман, аман, аман», как шепчут все анатолийские женщины, а он шептал непонятные слова на незнакомом ей языке.
XIII
Они отдыхали. Он попросил ее остаться обнаженной и принять позу, принимаемую ею во время одного танца. Она согласилась, хотя ей была непонятна эта прихоть.
«К чему это теперь? – думала она. – Ведь он не нуждается в возбуждающих средствах, он не старик…»
XIV
И вдруг иностранец заплакал.
Маленькая девочка, – говорил он сквозь слезы, – между твоим телом и моим нет сейчас даже самой легкой преграды, и несколько минут тому назад мы слились воедино, опьяненные лаской. Между тем, наши души есть и будут всегда бесконечно чужды и никогда не поймут друг друга. Между нами нет ничего общего, и эта мысль наполняет меня печалью.
– Ах, маленькая моя… – говорил он. – Только потому, что наши матери зачали нас на разных берегах океана и убаюкивали нас разными колыбельными песнями, только потому, что нам выдумали богов, непохожих друг на друга, только поэтому между нами выросла стена во сто раз более неприступная, высокая и страшная, чем все стены Китая.
XV
Нектар-Ханум слушала очень внимательно. Но поняла она только, что у иностранца на душе какая-то печаль. Тогда, чтобы утешить его, она обняла его снова своими гибкими и стройными руками.
XVI
Дни уходили за днями, и Нектар-Ханум плясала в разных театрах. Несколько раз иностранец приглашал ее в турецкий дом на улице Абдула. Она охотно соглашалась, не чувствуя к нему отвращения. Да, кроме того, он хорошо платил.
Но теперь они обменивались только коротенькими, вежливыми фразами. И их ласки были безмолвны. Иногда, снисходя к его просьбе, она оставалась обнаженной и принимала свои красиво-изогнутые позы. А он смотрел на нее с грустью.
XVII
Однажды иностранец прислал к ней старуху, прислуживающую при артистических уборных:
– Ханум-Эффенди, твой друг, франк, просит тебя прийти к нему петь и плясать в присутствии каких-то важных господ, приехавших из его родной страны и навестивших его в Стамбуле.
Нектар-Ханум часто плясала в гаремах перед турецкими дамами. Но танцевать в гостинице перед франками – это нечто новое… Она забеспокоилась.
Но как раз к этому времени дожди попортили деревянный домик в Кади-Кей, и родители Нектар-Ханум горько жаловались на свою бедность. Нектар-Ханум назначила цену и потребовала, чтобы ей было уплачено вперед. Отец Нектар-Ханум на другой день велел заново покрасить свой дом красной и желтой краской.
XVIII
В назначенный час Нектар-Ханум, одетая в свой самый лучший и пестрый костюм, вошла в залу, где ее ожидали франкские господа.
Их было четверо, нет, восемь человек: с франками были их дамы. Франкские дамы были красивы и не носили покрывал.
Одна из них взглянула на Нектар-Ханум странно спокойными черными глазами… И Нектар-Ханум почудилось, точно глаза эти пронзают ее, как мечи: наверное, эта чужестранка была давней дамой ее, Нектар-Ханум, франкского друга…
Она вздрогнула, но все же постаралась совладать со своим волнением и отвесила самые церемонные поклоны. Потом, согласно обычаю, царствующему в гаремах, подошла к этим дамам, не носившим покрывал, и протянула им руку. Но сердце ее замерло, когда она коснулась руки той, глаза которой все глубже проникали в нее и точно ранили ее душу… И она ощутила странное удивление, почувствовав, что эта рука, такая нежная, горячая и живая, подобна ее собственной руке.
XIX
Нектар-Ханум плясала.
Она пустила в ход весь свой талант, всю свою грацию. Сама не понимая почему, она хотела принести в дар чужестранке свое искусство и свою красоту!
Ее пляски были красивы и казались дикими. Этим пляскам ее научила Перуц-Ханум, и каждая деталь в них была тщательно продумана, рассчитана и заучена. Но это так резко отличалось от всех тех танцев, которые танцуют в стране франков, что казалось импровизацией.
Она, в неудержимом порыве, бросалась вперед и внезапно, точно оборвав движение вперед, замирала в позе, полной красоты и неги, а через мгновенье уже снова уносилась куда-то. Она кружилась в неудержимом вихре и вдруг останавливалась, упираясь руками в бедра, и ее гибкие бедра плавным покачиванием дополняли прерванный ритм… Она останавливалась неподвижная, точно высеченная из мрамора от ног и до пояса, и только верхняя часть туловища извивалась и выгибалась, потом одни только груди, потом шея и, наконец, головка с лукавой улыбкой на устах. И вдруг, точно оживая, она, вся охваченная ритмичным движением, уносилась в бурной пляске.
Она пела, танцуя. Она пела какие-то безумные чувственные и волнующие песни. Она пела мягким, точно слегка охрипшим голосом, похожим на голос женщины, истомленной ласками. И в этих песнях были поцелуи, ласки, страстные объятия. Но это не казалось бесстыдным, потому что каждый звук был исполнен страстью, почти торжественной и таившей в себе нечто мистическое.
XX
Нектар-Ханум плясала очень долго. Перед этой чужестранкой она готова была плясать целую ночь, плясать целую жизнь!..
Вдруг она вспомнила о том, что так нравилось ее другу, франку, во время их любовных свиданий. Тогда, не раздумывая, в инстинктивном и неудержимом порыве, она повернулась лицом к чужестранке и замерла в своей самой красивой чарующей позе, точно вся принося себя в дар.
XXI
Ей было очень жарко. Мелкие капельки, точно жемчужинки, блестели на ее висках.
Французские господа осыпали ее похвалами, выражавшимися в самых любезных словах.
Чужестранка, в свою очередь, заговорила, улыбаясь, на своем непонятном языке.
– Что она говорит? – спросила Нектар-Ханум, замирая.
Ее друг, франк, перевел:
– Она говорит, что Нектар-Ханум прекрасно танцует и очень красива, что она очень нравится ей…
– Но почему… Она не говорит – почему?
Иностранец тихонько покачал головой:
– Маленькая девочка, маленькая девочка, существует высокая стена…
XXII
Когда ее друг, франк, провожал ее до выхода на улицу, он спросил, согласна ли она встретиться с ним сегодня вечером.
– Нет, – ответила она. – Завтра только, если вы хотите…
И она побежала к своей арбе и, рыдая, поспешила в объятия Перуц-Ханум, которая убаюкала ее, лаская и шепча нежные армянские слова…
КОГДА РУКИ ГРУБЕЮТ…
Перевод Г. Павлова
I
В парке великобританского посольства в Терапии, летней резиденции всех европейских посольств в Турции, супруга посла леди Грей, давала большой ночной праздник. Весь дипломатический корпус был там, все знатные европейцы, а также – офицерский состав всех военных миссий.
Под скалой, увенчанной кипарисами и зонтичными соснами, была устроена украшенная цветами сцена, – и дипломатические секретари, офицеры и их жены, с удовольствием задиравшие ноги, сыграли «Сон в летнюю ночь», с балетом, – сыграли прескверно. Но освещенный луной парк был такой чудесной декорацией, что, по мнению всех, игра была превосходна.
И очевидно, так было суждено, чтобы в этот вечер кресла госпожи де Ромэн и лейтенанта флота Пьера Вилье оказались рядом.
II
У нее были волосы цвета чистого золота и глаза креолки, глубокие, как колодцы. Пьер Вилье в лунном свете не разглядел больше ничего. Сам он был обыкновенным крепким тридцатилетним мужчиной, в хорошо сшитом платье. Когда «Сон в летнюю ночь» окончился и они пошли гулять вдвоем по парку при свете звезд, я готов был бы держать пари на сто против одного, что эта прогулка не окажет никакого влияния на их судьбу.
И я проиграл бы…
III
– Не правда ли, – начал Пьер Вилье, чтобы прервать молчание, – не правда ли, эта старая мадам Каймак была сейчас очень комична в своей розовой и голубой кисее?
– О, – прошептала госпожа де Ромэн, – как вы могли даже вспомнить об этой бедной женщине в такую ночь?
Он тотчас же замолчал, очарованный тем, что она освобождала его от шаблонных слов и что она умела любить молчание. Рука об руку они поднялись на самую высокую террасу. Теперь, когда на сцене погасили лампионы, ночной парк был гораздо красивее.
Она указала рукой по направлению к Босфору, слабо светившемуся, похожему на неподвижную реку.
– Сейчас ваш каик пересечет эту зеркальную гладь, чтобы отвезти вас на корабль.
Он указал на топовый огонь вдалеке.
– Вон там… И как это часто со мной бывает, я вернусь сегодня печальный.
Она боялась услышать банальность. Но, случайно, он был очень искренним человеком.
– Печальный, – повторил он, – потому что я снова буду один, после того как видел здесь столько плеч, прильнуть к которым было бы наслаждением, и слышал биение стольких сердец, разгадать которые так бы хотелось.
Она была удивлена. В первый раз мужчина говорил ей о нежности, не называя ее имени в качестве прямого дополнения к своим нежным словам. Но она была и тронута вместе с тем, потому что этот человек, не разыгрывавший влюбленного в нее с первого взгляда, быть может, не лгал, жалуясь на свое одиночество.
Она не удержалась и ответила:
– У других больше причин быть печальными. Сейчас они возвратятся домой не одни, но не найдут там ничего, кроме ледяного равнодушия, худшего, чем одиночество. Вам, по крайней мере… Вам никто не помешает, когда вам захочется плакать.
IV
Госпожа де Ромэн была женой богатого старика. У нее были роскошные бриллианты, платья от Дусе, великолепный автомобиль, вилла на Босфоре и особняк в Париже, на авеню Анри Мартен. Все это, впрочем, было собственностью ее супруга, за которого она вышла совсем нищей.
Родители ее были знатны, с большими связями, но бедны, как Иов. И в день свадьбы, расходясь из церкви, все друзья говорили в один голос, что эта малютка устроилась как нельзя более ловко.
На самом же деле ловким оказался господин де Ромэн. В пятьдесят лет он сделался обладателем девятнадцатилетней женщины, прекрасной, как заря, мягкой, как шелк, чистой, как дитя, и нежной, как свежая булочка.
Впрочем, все эти ценности не упоминались в брачном контракте, и потому госпожа де Ромэн не чванилась ими. Задача мужа, который попытался бы внушить ей любовь к себе, оказалась бы очень легкой.
Господин де Ромэн об этом не думал.
Вначале он грубо третировал жену, восстановил ее против себя; затем, пресытившись ощущениями, в которых ему не хватало красного перца, он обратился к другим… Но другие нас не касаются.
У госпожи де Ромэн, конечно, не оказалось бы недостатка в утешителях, если бы муж не внушил ей надолго отвращения к так называемой любви. Она жила в своем особняке на авеню Анри Мартен или в своей вилле на Босфоре действительно в большем одиночестве, чем лейтенант Пьер Вилье на своем корабле.
V
Вначале, как водится, Пьер Вилье и госпожа де Ромэн были самыми идеальными друзьями, – и только.
Дружба их была восхитительна. В силу романтического исключения, случай свел два существа, скроенных по одной мерке. Она и он были людьми в тысячу раз более благородными, чистыми и пылкими, чем огромное большинство дам, проживающих в особняках на авеню Анри Мартен, и господ, которые обычно встречаются на борту броненосцев Республики.
VI
Но очевидно и то, что в один прекрасный вечер Пьер Вилье и госпожа де Ромэн перестали быть идеальными друзьями.
Это случилось на Босфоре, точнее говоря, в каике. Каик – это очень длинная турецкая лодка; управляемая двумя или тремя гребцами, она скользит по воде быстрее полета чайки. Два пассажира могут поместиться в ней, если они прижмутся друг к другу. В каюте, представляющей собой нечто вроде постели, они ложатся рядом на персидские ковры и подушки; но постель эта самая безгрешная в мире, потому что на ней нельзя пошевельнуться без риска опрокинуть каик, переворачивающийся при самом слабом толчке.
Однажды большое общество обедало на вилле в Буюк-Дере. Буюк-Дере находится недалеко от Терапии, но дорога, огибающая очень глубокий залив, бесконечно длинна. Каики же пробегают это расстояние морем по прямой линии менее чем в полчаса.
В полночь де Ромэн приказал подать свою карету. Он любезно предложил в ней место Пьеру Вилье.
– Мы довезем вас до места, откуда вам будет рукой подать до вашего корабля.
– Благодарю вас, – отвечал Вилье. – У меня есть каик.
Он указал на тонкий нос лодки, протянувшийся вдоль набережной.
– Вы доедете гораздо скорее нас, – тихо сказала госпожа де Ромэн. – И как должно быть хорошо дышать ночным воздухом на Босфоре!
– Сударыня, – предложил Пьер после некоторого колебания, – у меня двухместный каик; если вы не боитесь…
Господин де Ромэн подумал, что сможет выкурить сигару, если будет в карете один.
– Разумеется, – поддержал он, – если это вам доставит удовольствие, моя дорогая…
Он помог жене сойти по ступеням пристани. Пьер Вилье, который уже сел, принял ее на руки и осторожно уложил на цветной ширазский ковер, – осторожно, потому что бывали случаи, когда каики перевертывались у самой набережной от неловкого движения пассажирки.
Гребцы (их здесь называли «каикджи») в белых кителях и красных фесках – еле шевельнули длинными веслами, и каик стрелой полетел по черной воде, усеянной отражениями звезд.
Пьер Вилье и госпожа де Ромэн не обменялись ни единым словом. Но на полдороге голова госпожи де Ромэн, наклонившаяся под влиянием загадочного импульса, оказалась возле плеча Пьера Вилье и прикоснулась к нему.
Aman!.. dikat ediniz!.. effendim!.. – произнес, напоминая об осторожности, один из каикджи.
Чтобы восстановить равновесие, Пьер Вилье также наклонил голову к своей спутнице, и так как он был выше ее ростом, его губы коснулись волос цвета чистого золота.
Так они плыли две долгие минуты. Ночь была интимнее, чем альков. Наконец голова побежденной госпожи де Ромэн запрокинулась, горячими взорами призывая взоры друга. И голова Пьера Вилье неосторожно приподнялась навстречу этому взору. Каик снова затрепетал.
Aman!.. effendim!.. – еще раз сказал каикджи.
Но на этот раз ни она, ни он не услыхали…
VII
Сходя в Терапии, она дрожала так, что споткнулась о ступени, и ее ослабевшие колени подогнулись.
Никогда больше вы меня не увидите, – сказала она на прощание. – Я умираю от стыда!
Разумеется, на следующий день он постучал у ее дверей и был принят.
VIII
Пятнадцать дней спустя они стали любовниками. Как это случилось? Ни он, ни она этого не знали.
IX
Целый месяц они жили, как влюбленные во времена легенд. В лесу, принадлежавшем некогда великому визирю Сулеймана, их свидания напоминали сказки фей.
Не знаю, сколько часов они провели на маленьком островке среди пруда, созерцая в зеркальной воде свои лица, прильнувшие одно к другому.
Они отрывались от этого зрелища, только когда в них поднималось желание. И потом приходили в себя, на турецкой траве, которая пахнет розами, в тени фисташковых деревьев, благоухающих ароматом воска.
X
Однажды вечером, когда они сидели на своем островке и она давала ему целовать ладони, он вспомнил гимны Хризиды…
«Твои руки, – сказал он, – две лилии, и пальцы твои как пять лепестков…»
Руки у нее в самом деле были нежные и прозрачные, жизнь сохранила их от грубой работы, от которой руки грубеют, делаются жесткими и уродливыми.
«Твои руки, – продолжал он, – отражение твоей души, чистой и пламенной…»
XI
В то время в Константинополе жила одна особа, посредственная во всех отношениях, кроме злости. Ее звали мадемуазель Гютен. Ей было двадцать девять лет, она не была замужем. Выходя из себя при виде того, что приближается четвертый десяток, а мужьями обзаводятся молодые, она утешалась тем, что подсматривала за другими женщинами и была счастлива, если ей удавалось поймать их на каких-нибудь шашнях.
Окно ее дома выходило на Босфор. Целые часы простаивала она перед ним, зоркая, как паук в своей паутине, и эти часы летели незаметно, если хоть раз в день ей удавалось поймать в поле зрения своего бинокля каик, в котором пара любовников считала себя скрытой от всех посторонних взглядов.
Скоро мадемуазель Гютен установила, что госпожа де Ромэн выходит очень рано из своей виллы, уезжает одна в каике и возвращается домой очень поздно.
«Гм, гм!» – подумала мадемуазель Гютен.
Бинокля оказалось достаточно для того, чтобы уследить за этими таинственными прогулками; мадемуазель Гютен заменила его густой вуалью, зонтиком и четырехвесельным каиком, гребцам которого были даны инструкции следовать на некотором расстоянии за каиком госпожи де Ромэн.
По дороге мадемуазель Гютен заметила издали каик Пьера Вилье, по-видимому, направлявшийся параллельным путем.
«Гм, гм!» – подумала мадемуазель Гютен.
Едва успев вернуться домой, мадемуазель Гютен занялась устройством маленького, совсем маленького пикника: она предполагала пригласить всего четырех подруг с их четырьмя поклонниками.
Себе самой она, в качестве устроительницы, выбрала солидного кавалера, вполне достойного быть предводителем этой компании, – пятидесятилетнего господина де Ромэна.
– Главное, никому ни слова! – предупреждала она. – Вы понимаете, слишком многим захотелось бы участвовать. Мы будем веселиться, как сумасшедшие.
– Куда же мы поедем? – спросил кто-то.
– К принцу Персинэ и принцессе Грации.
XIII
На островке посреди пруда Пьер Вилье сидел на дерновой скамейке. Его любовница лежала у его ног, прильнув к ним головой, и ее распущенные волосы цвета золота широкими волнами лились на траву.
Внезапно с противоположного берега прямо в лицо им раздался насмешливый голос:
– Ах, боже мой, мы нарушили покой этой пары!
Мадемуазель Гютен со своей свитой появилась у мостика, перекинутого на остров. Дерзкие девицы смеялись. Господин де Ромэн, покраснев, счел хорошим тоном смеяться тоже.
Любовники, захваченные, как солдаты в засаде, не сделали ни одного жеста, который был бы их недостоин. Поднявшись, выпрямившись во весь рост, они глядели прямо в глаза шпионам. Она, гордая и дикая, обняла его за плечи и прижалась к нему, он вынул записную книжку и стал вносить в нее имена, называя их вслух.
– Господин де Ромэн – один, господин д’Эпернон – два. Князь Чернович – три, капитан Форестье… А, вот это жаль: мне, очевидно, придется подать в отставку! И господин Жак Бриан – пять. Кажется, все? А теперь не угодно ли вам удалиться, господа? До скорого свиданья!
Оставшись одни, связанные отныне на жизнь и на смерть, они обнялись и слили свои уста так крепко, что из-за стиснутых зубов проступила кровь.
XIV
В тот вечер госпожа де Ромэн не вернулась в свою виллу в Терапии.
А на третий день в Константинополе состоялось пять дуэлей, причем, хотя и дрались на шпагах, ни одна из них не была до первой крови.
Та, из-за которой дрались, ждала до вечера в своем номере гостиницы, стоя у окна, прижимаясь лбом к стеклу, окаменевшая и смертельно бледная, но без единой слезы, без малейшего признака страха. Несмотря на то что шестьдесят раз в минуту ей чудилось, будто во двор вносят носилки…
Ночью он возвратился с рукой на перевязи. Он получил три царапины и нанес четыре удара шпагой, таких удачных, что двое из его противников были убиты.
Господин де Ромэн, единственный уцелевший, немного времени спустя добился развода – «по вине супруги, преступно нарушившей свою клятву»…
И так как скандал был слишком велик, то Пьер Вилье, уже не лейтенант флота – он испросил отставку по телеграфу, чтобы скорее иметь право драться, – и госпожа де Ромэн, уже не носившая более этого имени, покинули Константинополь, не думая вернуться туда.
XV
Сидя плечом к плечу в купе поезда, который уносил их к новой жизни, они составляли планы своего будущего.
– Не забывайте, дорогая, – сказал он для начала, – что я очень беден и что нам придется вести очень скромную жизнь.
Она улыбалась… Со времени опьяняющего торжества, охватившего ее в вечер пяти дуэлей, когда он вернулся к ней победителем, ничто на свете не могло, разумеется, затуманить сверкающей стали ее счастья. Она только сказала:
– Любимый, я думала, что хоть вы и не богаты, но совершенно независимы. Там вы вели шикарную жизнь.
Он усмехнулся:
– Жизнь, которая казалась такой… Роскошь для моряка – дешевый товар. Вспомните, я жил на корабле. У меня не было ни виллы, ни другой квартиры, а каик заменял мне карету и лошадей. Несколько счетов от портного, из магазина белья и ресторана – вот и все мои расходы. Я жил, не вынимая кошелька; все это было, конечно, очень скромно, – моя каюта была длиной в семь футов, а стол на корабле более чем прост. Но солдат в походе имеет право на минимальное излишество, а в глазах общества я и был не чем иным, как солдатом в походе.
Она кивнула головой:
– То же было и со мной: казалось, что я богата, на самом же деле я была бедна. Когда люди видели на моей шее жемчужное ожерелье, они не знали, что это ошейник рабыни и что он еще более, чем я сама, принадлежит моему господину. Теперь в ваших объятиях я оказалась голой, как нищая. Но вы все-таки любите меня и без жемчуга?
В этот вечер они не считали более.
XVI
Выяснилось, что у Пьера Вилье было всего полторы тысячи франков ренты. Жалованье офицера увеличивало его доходы вчетверо, но теперь жалованья не было. Он объяснил ей свое положение. Он рассчитывал, что вскоре найдет место, которое обеспечит им жизнь – очень, очень скромную.
– Быть богатым… – сказала она, пожимая плечами, – что это значит? Слуги, туалеты, свой дом! Мой любимый, за всю мою жизнь я знала только одну радость – радость наших свиданий в лесу. А туда… от берега моря… я приходила одна, пешком, в полотняном платье.
Она была так мужественна, что он перестал видеть препятствия, стоявшие на их пути.
XVII
Она оказалась права. Он получил в провинции место инженера. Они поселились в Вильфранше на Соне; в четырехэтажном сером доме сняли квартиру из четырех маленьких комнат: гостиной, столовой, кухни и спальни. Два окна выходили на улицу, два других – во двор, заключенный между четырьмя стенами, высокими, как в церкви.
Он работал по одиннадцать часов в день на заводе, где хрипели огромные машины. Завод находился так далеко от Вильфранша, что у него не было времени возвращаться к обеду домой. Они могли только ужинать вместе и спать.
Спать – только когда наступала ночь, когда нельзя было не спать из-за усталости. Прислуга была для них недоступной роскошью. Приходила только поденщица помогать в самой тяжелой работе. И та, которая прежде была госпожой де Ромэн, подметала комнаты и стряпала.
Их любовь была деревом с крепкими корнями: в этом узком церковном дворе она не зачахла.
XVIII
Прошел год.
Они уже не были похожи на двух романтических влюбленных, соединившихся так бурно там, в феерических декорациях Босфора, среди громких сцен, орошенных кровью. Обыватели маленького городка, они, как и все прочие, имели обывательский вид; им пришлось отказаться от замкнутого образа жизни. Господин Вилье, инженер-электротехник на заводе «Шаррьюэ и К0», не мог гнушаться рукопожатием господина Дюрана, старшего бухгалтера, или поклоном инспектора колледжа господина Мартена.
– Как поживает ваша жена, господин Вилье?
Понятно, никто не сомневался, что они повенчаны. Однажды госпожа Дюран постучала в дверь.
– Вы позволите, по-соседски? Бедняжка, вы, должно быть, скучаете целый день, пока ваш муж на заводе…
Первым посетительницам госпожа де Ромэн – виноват, госпожа Вилье – инстинктивно отвечала:
– Очень любезно с вашей стороны, сударыня.
Но годом позже, под влиянием улицы, госпожа Вилье отвечала уже:
– Ах, голубушка, какая вы милая!
В канун Рождества госпожа Мартен, считавшая госпожу Вилье достойной дамой хорошего тона, и ее супруг, всегда помнящий о высоте своего положения, пригласили ее на семейный ужин!