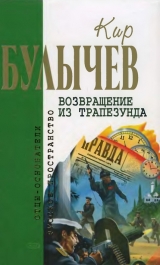
Текст книги "Кир Булычев. Собрание сочинений в 18 томах. Т.7"
Автор книги: Кир Булычев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 59 страниц)
Глава 4. МАРТ-АПРЕЛЬ 1917 г.
Формально переговоры вел Фриц Платтен. Он был респектабельным швейцарцем. Германский советник в Берне мог принимать его, не привлекая особого интереса корреспондентов и не рискуя потерять лицо. Впрочем, опасения дипломата были не столь уж обоснованны. Притом что сделка, которую они с Платтеном готовы были совершить, призвана была перевернуть судьбы мира, мало кто ожидал, что перемены в мире могут походить именно отсюда – от русских социалистов, которые, числом несколько десятков, давно уже жили на подачки сочувствующих, проводя дни по тихим библиотекам Женевы и Базеля, либо так же спокойно и аккуратно, подчиняясь швейцарскому воздуху, вели дискуссии о судьбах революции в России. Журналисты полагали, что судьбы революции решатся именно в России, а судьбы Европы – на полях Бельгии и Франции, в крайнем случае на Дарданеллах, – но уж никак не в Швейцарии.
Журналисты ошибались. Будь Александр Васильевич Колчак чуть более везуч, а секретные агенты Германии чуть менее прозорливы, все могло бы произойти иначе.
До Цюриха сведения о революции дошли лишь на третий день. Владимир Ильич Ленин узнал обо всем, когда собирался после обеда в библиотеку. Он уже надел пальто и потянулся за мягкой серой шляпой, как в дверь зазвонили отчаянно и нервно, отчего Владимир Ильич поморщился – он знал, насколько это было неприятно хозяйке, обладавшей обостренным слухом.
Ворвался Бронский. Бронский без шляпы и растрепан, будто спал на бульваре. Не вытерев ног, он закричал с порога:
– Вы ничего не знаете? В России революция!
– Голубчик, – оборвал его Ленин, – прихожая не место для политических бесед. Давайте пройдем в комнату, и вы мне все расскажете.
Бронский был потрясен столь спокойной реакцией Ленина на новости. Но Владимир Ильич умел владеть собой, и лишь слишком крепкая хватка пальцев, сжавших тонкие косточки локтя Бронского, выдавала волнение Ленина.
Ленин не дал Бронскому долго разглагольствовать. Он спросил, вычитал ли тот новости из газет либо получил их иным путем.
– Ну каким же иным? – удивился Бронский. – Ко мне почтовые голуби еще не летают.
– Тогда дайте мне сюда газету и помолчите, пока я ее прочту, – сказал Ленин.
И когда он кончил читать – дважды, но быстро, мгновенно скользнул взглядом по скупым строкам – сообщениям различных агентств и корреспондентов – более домыслы, нежели знание обстановки, – когда Ленин кончил читать, впитал в себя всю информацию, он кинул взгляд на замершую у дверей Надежду Константиновну – точно знал, где она должна находиться именно в эту секунду, и сказал ей – не Бронскому же, который не пользовался доверием и уважением:
– Я давно предупреждал об этой революции. Наши социал-демократы проморгали момент. Мы должны немедленно, повторяю, немедленно вернуться в Россию.
– Это невозможно, Владимир Ильич! – воскликнул Бронский.
– Это так опасно, Володя, – сказала Надежда Константиновна.
– Революционер не должен бояться опасностей, – сказал Владимир Ильич.
– В конце концов, сделаем себе парики, сбреем бороды и проникнем прямо в центр! В центр событий! – И Владимир Ильич показал указательным пальцем направление к центру событий.
Эмигранты еще не покинули пределов законопослушной нейтральной Швейцарии, но мысленно они уже неслись к беззаконной России. Сначала возник проект Мартова – ехать домой через Германию, обещав Германии и Австро-Венгрии передать за пропуск через их территорию нужное, может, даже грандиозное число пленных немцев. Совещание, где выступил со своим проектом велеречивый Мартов, было 19 марта – Мартова никто не поддержал. Все полагали, что на родине у власти находятся в большинстве своем политические противники эмигрантов, и не в их интересах выменивать себе врагов, вступая в сомнительные отношения с другими врагами.
Лишь Ленин поддержал эту идею – сначала безуспешно, на собрании, потом у Мартова дома, где пытался влить в него уверенность. Но тот уже потерял кураж – через всю Германию ехать было страшно.
Давно уже Ленин не был столь энергичен и боевит. За двое суток он побывал у всех мало-мальски достойных внимания эмигрантов, встретился с деятелями немецкими и швейцарскими – отыскал Платтена и Гримма – и даже добился негласного постановления эмигрантской группы уполномочить Гримма на переговоры со швейцарским правительством.
Швейцарское правительство не пожелало вести переговоры, потому что не видело в них никакого смысла. Парвус подключил вездесущего Ганевского – тот начал нажимать кнопки в Берлине. Его люди дошли до Генерального штаба: неужели не ясно, что прибытие в Россию группы влиятельных пацифистов, противников войны и врагов престола, еще более нарушит баланс сил в России и толкнет ее к поискам выхода из войны, а может, и капитуляции? Так что когда Фриц Платтен начал переговоры с германским посольством в Швейцарии, то уже имелись негласные инструкции способствовать переговорам, однако не было инструкций принимать решения. Решения будет принимать Берлин. Там еще оставались сомневающиеся, и чем выше, тем больше, – в провозе русских пацифистов через Германию было нечто постыдное, до чего не опускаются тевтонские рыцари. Кронпринц полагал, что воевать надо честно, а не засылая в тыл противника чуму или бунтовщиков, готовых на любую сделку ради того, чтобы прорваться к власти. Кронпринц не любил революционеров, даже в тех случаях, когда их можно было использовать в интересах державы. Кайзер, занятый проблемами более важными, не был поставлен о переговорах в известность.
Переговоры тянулись до конца марта. Ленин потерял терпение.
Утром в пятницу произошел разговор с Надеждой Константиновной.
Владимир Ильич буквально ворвался на кухню, где Крупская жарила омлет.
– Все! – воскликнул он с порога, терзая в крепкой руке смятую газету.
– Больше терпеть нельзя ни часу – промедление смерти подобно! Надюша, пойми, они укрепляют свои позиции. Не сегодня-завтра эсеры раздадут крестьянам землю и полностью одурачат пролетариат. Где мы тогда будем? На задворках истории?
– Но ты же знаешь, Володичка, – ответила Надежда Константиновна, – что тебе нельзя волноваться.
– Я больше волнуюсь от безделья! Мы должны ехать. Ехать!
– Фриц сказал, что со дня на день он ждет решения из Берлина.
– Фриц может и не дождаться. Его-то ничего не торопит.
– И что же делать? – Надежда сняла сковородку с плиты.
– Я знаю. Надо достать паспорт шведа. Или норвежца. Да, лучше всего норвежца. Никто не знает норвежского языка…
– Володя, ты руки вымыл? Ты же с улицы пришел.
– Иду, иду…
Ленин бросил газеты на стол и кинулся в туалет к умывальнику.
– Наденька! – донесся оттуда его голос. – Наденька, ты не знаешь, у исландцев есть заграничные паспорта или они ездят по датским?
– Иди в комнату. Я ничего не слышу.
За столом Владимир Ильич разъяснил жене свой план:
– Первое – мы достаем паспорт. Норвежца или шведа. И по этому паспорту мы едем через Германию.
– И как только к тебе кто-то обращается по-шведски, все проваливается, – сказала Надежда Константиновна. – Омлет не соленый?
– Чудесно, чудесно. Тогда это будет глухонемой швед. Да! Великолепно.
– Ленин бросил вилку, вскочил и подошел к окну. – Это будет глухонемой швед или даже глухонемой норвежец. Тебе приходилось встречать глухонемого норвежца?
– Володя, не волнуйся, – сказала Крупская. – Садись за стол. Омлет остынет.
– Господи! – Ленин опустился на стул, руки бессильно упали на скатерть. – Сколько лет я ждал этого момента, я положил жизнь ради того, чтобы приблизить его, и, смею тебе сказать, без моей деятельности эта революция могла бы произойти на десять лет позже или не произойти совсем.
– Я это знаю лучше всех, – печально ответила Крупская.
– Да, милая. – Владимир Ильич протянул руку через стол и дотронулся до пальцев жены. – Я знаю и потому именно с тобой могу поделиться своей тревогой. Если я не попаду в Россию в течение двух недель, мое место займут другие люди.
– Другие люди в партии? – спросила Надежда Константиновна. – У тебя в партии нет соперников.
– Я не хуже тебя это знаю. Но при благоприятных обстоятельствах и в мое отсутствие некоторые постараются стать моими соперниками, претендовать на место наверху и, может быть, оттеснить меня.
– Лев Давыдович?
– Он не в партии. Но ради этого вступит. Но есть и Зиновьев, и Каменев. Ты всех знаешь. Пока я жив, они не посмеют поднять головы.
– Но могут прийти другие, молодые, наглые, которых ты сейчас не учитываешь, – сказала разумная Надежда Константиновна.
– Кто? Мне известны тысячи функционеров партии. Они не успеют вырасти за несколько недель. Нет, я имею в виду не мою партию – партия погибнет, потеряет значение, как только потеряет меня. Власть уже захватили и теперь консолидируют эсеры и псевдосоциалисты, демагоги вроде Керенского. В России опасен не Гучков, нет, бойся Чернова – оратора, крикуна!
– Значит, ты не имеешь шансов?
– А я – демагог, – сказал Ленин и рассмеялся.
Он смеялся высоким голосом, откинув голову, рыжая с проседью бородка выпятилась вперед, как острие меча.
– Ты меня позабавила! – сказал он.
Ленин начал быстро есть омлет, заедая его хлебом, – он ломал булку, забрасывал в рот маленькие кусочки хлеба. Он думал о том, что с годами Надежда стала его «alter ego», она произносит вслух те его мысли, которые он не смеет или не хочет произнести сам. И она, конечно же, не сможет жить без него. Если с ним что-то случится, она тут же умрет, тут же… ему стало жалко Надежду, как будто смерть, о которой он рассуждал, относилась вовсе не к нему…
– Омлет совсем остыл, – сказал Ленин.
– Я принесу кофе, – сказала Надежда Константиновна.
Идея с глухонемым шведом при всей ее авантюрности и нереальности начала приобретать конкретные формы. Недаром Мартов как-то говорил, что под личиной доктринера и начетчика в Ульянове скрывается авантюрист, гимназист, начитавшийся Густава Эмара и стремящийся на Амазонку. И это опасно, потому что стремление к авантюрам он переносит на всю Россию, и не дай Бог ему дорваться до истинной власти – он может вылепить из России настоящего монстра.
Многие смеялись, но те, кто знал Ленина многие годы, даже не улыбались. Человеческой привязанности к нему не испытывал почти никто, потому что трудно привязаться к человеку, который не только может, но и готов пожертвовать любой привязанностью ради власти. Впрочем, это отличительная черта многих больших политиков, иначе они не становятся большими политиками.
В конце марта 1917 года стремившемуся в Петербург Ленину помог случай, что неудивительно, так как Ленин именно его и искал. Некто Нильс Андерссон, шведский социал-демократ, близкий знакомый Гримма, оказался в Женеве. Он был из тех сытых, вскормленных на хорошем молоке и доброй пище, в чистоте и уюте молодых людей, которых так тянет отведать дерьма для внутреннего равновесия, что они готовы устроить кровавую революцию на Мадагаскаре, только бы выдраться из скорлупы респектабельности. Нильс Андерссон мечтал побывать в России и с винтовкой в руке, по колено в грязи и крови, насаждать там социальную справедливость. Гримм обещал ему место в первых рядах бойцов, но ранее он должен совершить для русской революции благородный поступок – принести жертву, которая, в сущности, даже и не является жертвой, – одолжить свой паспорт товарищу Ленину, одному из вождей русской социал-демократии, ее левого крыла – да вы видели его, товарищ Андерссон, в Стокгольме! О да, я, конечно, имел счастье видеть одного из вождей русской социал-демократии. И пока что я буду ждать нового паспорта вместо мнимоутерянного, я буду собирать деньги для России.
Так и вышло, что совершенно нереальный план удался – Ленин отправился через всю Германию под видом глухонемого шведа.
Но прежде чем отправиться, по крайней мере неделю, весь конец марта, Владимир Ильич с увлечением и тщательностью, с которой он всегда приступал к новым занятиям, изучал язык глухонемых, правда, не шведских, а немецких, так как уроки немецких глухонемых были доступнее. Тем временем и Нильс Андерссон давал Владимиру Ильичу уроки шведского языка.
Надежда требовала, умоляла разрешить ей поехать вместе с Лениным, но тот был неумолим. Он полагал, что риск узнавания при таком варианте удваивается. Он предпочел ехать с братом Фрица Платтена Карлом Платтеном, невероятно отважным, правда, рассеянным молодым человеком, швейцарский паспорт которого вызывал доверие. А Надежда должна была отправиться с остальной группой в закрытом вагоне, который, судя по сведениям Фрица, немцы все же готовы были предоставить, – правда, еще неизвестно, когда и с какой скоростью он будет добираться до Дании.
31 марта – всего месяц миновал с начала русской революции, и еще не все было потеряно для Ленина и большевиков – Владимир Ильич в котелке, синих очках, без бороды, в пальто с поднятым бархатным воротничком вошел в вагон второго класса. За ним шла, сдерживая слезы, Надежда Константиновна. Бронский нес чемодан, а Карл Платтен шагал последним, держа в одной руке русско-немецкий словарь, в другой – книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», по которой намерен был в дороге изучить русский язык.
Незамеченным остался стоявший на перроне агент русского охранного отделения Петров, не изменивший долгу по случаю революции и надеявшийся, что его услуги будут нужны любому режиму в России. После отправления поезда, дождавшись ухода Крупской и Платтена-старшего, Петров прошел на телеграф и послал невинно звучащую телеграмму в Петербург, где говорилось, как и положено в шпионских телеграммах, о тюках с хлопком и игрушках из миндальных косточек. В самом же деле получатели должны были понять, что известный и опасный социалист Ульянов-Ленин возвращается в Россию под видом глухонемого шведа и едет таким-то поездом. Так что можно принять меры.
Полковник Ряшенцев, оставшийся на своем месте и в своем кабинете, хоть правительство и сменилось, счел своим долгом сообщить о донесении тому из министров, кто, по мнению полковника Ряшенцева, был наиболее толковым и перспективным в этом сборище старых говорливых баб из Думы.
Министр юстиции, стриженный под бобрик Александр Керенский, получив донесение, не испугался так, как ему следовало бы испугаться, потому что недооценивал силу и ум Ленина. Поэтому он, поблагодарив полковника Ряшенцева, передал его секретное донесение господину Чхеидзе, состоявшему председателем Петроградского Совета, который, будучи социалистом и политическим соперником Ленина, должен был принять меры. Господин Чхеидзе не любил Ленина, но отдавал ему должное как умелому тактику и мастеру политической интриги. Ленин был соратником Чхеидзе, вложившим немало сил и принесшим жертвы (как и все семейство Ульяновых) на алтарь революции. Мог ли Чхеидзе возражать против возвращения Ленина, как и прочих социалистов, из Швейцарии? Разумеется, нет.
Так что агент Петров остался в Женеве наблюдать за приготовлениями к отъезду остальных революционеров, полагая, что авторитетные лица в Петербурге заготовят кандалы для Ленина, в чем он глубоко ошибся.
Основные опасности для глухонемого шведа лежали на территории Германии. Путь этот был относительно недолог, он должен был занять не более суток, если, конечно, не вмешаются трудности военного времени, которые, к крайнему раздражению Владимира Ильича, горячего поклонника немецкого железнодорожного порядка, уже чувствовались по всему пути. На некоторые станции, в частности в Кельн, поезд прибывал с опозданием до пяти минут.
До Франкфурта ничего достойного интереса не произошло. Помимо Ленина и Платтена-младшего в купе был лишь один пассажир из Женевы, швейцарский вице-консул в Стокгольме, который был удручен тем, что вынужден ехать, сидя целые сутки во втором классе. Он был относительно молод, но нес на себе вневозрастную печать чиновника из министерства иностранных дел, которые изготавливаются, как подумал с улыбкой Владимир Ильич, во всем мире по одной выкройке.
Платтен выбегал на каждой станции за газетами – и не зря, потому что новые газеты – новые вести из России. И хоть Германия была от России оторвана и своих корреспондентов там не имела, могучая сила телеграфа и радиоволн позволяла получать новости даже из враждебных стран в тот же день. Так что утренние газеты в Штутгарте несли информацию о намерениях русского Черноморского флота выйти в море и совершить демонстрацию в сторону Босфора. Прочтя это, Ленин фыркнул, засмеялся и чуть было не сказал Карлу: «Нет, вы только посмотрите, до чего докатились эти газетчики». Но спохватился, в последний момент кинул взгляд на севшего во Франкфурте плотного глазастенького бюргера, сопровождаемого плотной и тоже глазастенькой женой, – впрочем, она могла быть и его сестрой.
Бывают моменты обоюдного недоброжелательства – такое случилось в купе: с первого взгляда бюргерская парочка невзлюбила Ленина, а тот почувствовал к ним ту глухую, глубокую, темную ненависть, которая охватывала его при упоминании фамилии Романовых – убийц, бездарностей, ничтожеств, держащихся цепкими пальцами за престол и потому низвергавших Россию в бездну. И надо же, надо же так случиться, что свержение их произошло без участия Ленина! Впрочем, он понимал, что настоящего свержения еще не было – Романовы, убийцы его брата, убийцы многих святых, благородных людей, еще живы и готовы к реваншу. Его, Ленина, исторический долг – вырвать с корнем всю эту кровавую камарилью! А для этого надо оказаться в Петрограде, изгнать железной метлой Керенских, Церетели, Гучковых и прочих говорунов. И самому взять власть.
Бюргеры глядели на Владимира Ильича одинаковыми голубыми глазками, будто им более некуда было глядеть, а Ильич вынужден был смотреть в окно, чтобы не сталкиваться с ними взглядом.
Не исключено, что шпики, думал он, не успокаиваясь вовсе, хоть за окном проплывали столь милые его сердцу аккуратные и чистые немецкие деревни и кирхи. Очередной Мариендорф возник за округлым холмом, выверенным для гармонии пейзажа белыми домиками, стянутыми темными деревянными помочами. Вот и станция со слишком начищенным колоколом на перроне и слишком чистым начальником у колокола. Когда еще удастся увидеть снова эти места, столь чуждые русскому сердцу и столь милые сердцу Владимира Ильича! Окончательным осуществлением жизненной цели и мечты была не революция в России, а переход ее сюда, возможность отыскать сплоченные социалистические силы, мирно дремлющие сегодня под красными черепичными крышами Мариендорфа, олицетворением которых был Карл, Карлуша, углубившийся в Ленина так, что можно из пушки стрелять над самым ухом, – внутренне чистый, организованный, порядочный человечек. Именно здесь – в Германии, в Швейцарии – и будет построен настоящий социализм. России, несмотря на кажущуюся легкость переворотов и революций, да и склонности народа к мятежу, до настоящего социализма не дорасти. Нет, не дорасти.
– Нет, – сказал Ленин по-русски, – не дорасти! Вот так-то!
И рука его потянулась к блокноту и карандашу, что лежали у него на коленях, чтобы занести на бумагу некоторые мысли, что могут оказаться полезными в предстоящих дискуссиях с соратниками по революционной борьбе.
И он не увидел, как усмехнулся вице-консул, как сузились глазки бюргера, как сжала его кисть цепкими крестьянскими пальцами его жена. Но это все увидел и услышал, несмотря на чтение, Карлуша Платтен. Он отложил, даже отбросил в отчаянии книгу и, толкнув Ленина в плечо, начал изображать пальцами язык глухонемых, а губами стараясь передать испуганно обернувшемуся Ленину всю опасность их положения. Швейцарский дипломат обернул к ним злое холеное лицо и с некоторой усмешкой наблюдал за соседями, в которых угадал жуликов и мошенников, хотя, впрочем, не знал пока целей их мошенничества.
Владимир Ильич, уже углубленный в нужную и срочную работу, лишь отмахнулся от нелепых и непонятных знаков Карла Платтена, так как в авантюрах его интересовала лишь разработка плана и самое начало действия – рутина поддержания авантюры его обычно тяготила. Он мог сбрить бородку, чтобы обмануть этих самых шпиков, но затем забывал брить ее ежедневно. Начисто упустив из памяти, что он – глухонемой, Владимир Ильич счел жесты Карлуши не более как нелепой игрой и отмахнулся от игры.
Карл, бросив опасливый взгляд на соседей по купе – никто из них не скрывал своего интереса к ним с Лениным, счел за лучшее сделать вид, будто ничего не произошло, а Ленин между тем, вовсе увлекшись работой, начал напевать, не размыкая губ, танец маленьких лебедей из «Лебединого озера».
Более до самого Кельна событий не произошло. В Кельне была стоянка двадцать минут, но кондуктор, проходя по вагону, объявил с нескрываемой скорбью человека, который привык к неизменной точности немецкого айсбана, что отправление поезда задерживается еще на пятнадцать минут.
Вокзал в Кельне расположен близко от центра, над ним буквально нависает серая громада Кельнского собора.
Ленин выразительно ткнул пальцем в пачку газет, лежащую на сиденье между ним и Платтеном, быстро поднялся, как только поезд замер у перрона, и принялся одеваться. Платтен последовал его примеру.
На перроне было ветрено. Ленин застегнул верхнюю пуговицу и надвинул пониже шляпу. Платтен принялся упрекать его за поведение в купе.
– Ничего подобного! – Ленин, как и все великие люди, не любил признавать мелких житейских ошибок. – И если я даже что-то произнес, гарантируемо, что никто в купе этого не услышал.
– Вы забываете, что Германия охвачена шпиономанией, – возразил Платтен. – Вас могли принять за английского шпиона.
– Пускай они это только докажут! – возмутился Ленин, которому была отвратительна мысль о принадлежности к английской секретной службе – Англию, в отличие от Германии, он никогда не любил, в англичанах было много темного, тупого, и главное, они, по мнению Владимира Ильича, и были тайно нечистоплотны и склонны к содомии.
Полицейский агент, который уже шел за ними в достаточной близости, чтобы слышать их слова, мысленно улыбнулся, так как каждому агенту приятно сознавать, что он вышел на настоящего шпиона. Агента послал следом за Лениным и Платтеном голубоглазенький бюргер, в действительности же криминальный советник Ганс Фридрих Розенфельд, уже во Франкфурте заподозривший в шпионаже транзитных пассажиров из Женевы.
Криминальный советник из Франкфурта, ехавший в купе со своей женой Гертрудой, а также агент в Кельне, который спешил по перрону вслед за социалистами, и знать не знали об Ульянове-Ленине и мало представляли себе значение российской революции. Зато были уверены в том, что английские агенты буквально наводнили Германию, и потому были на страже и следили – не попадется ли агент в их поле зрения.
Ленин и Платтен подошли к газетному киоску. Платтен расплатился за газеты – сюда уже поступили газеты с севера Германии и даже из Голландии и Дании. Не отходя от киоска, Владимир Ильич разворачивал газеты, отыскивая сообщения из России. Одно из сообщений заставило его выругаться понемецки сквозь стиснутые зубы.
– Тише! – прошипел Платтен, оборачиваясь и с недовольством замечая совсем рядом молодого человека в сером пальто и с определенным наклоном головы, что выдавало его принадлежность к секретной полиции.
– Что тише? – ответил Владимир Ильич. – Что тише? Знаете ли вы, что Керенский назначен военным министром? Не сегодня-завтра он объявит себя диктатором!
– О, камрад Ленин, – сказал Платтен громким шепотом. – Вы же – глухонемой швед!
– Я – глупый швед! – ответил Ленин, игнорируя предупреждение Карла. – Если не случится чуда, я опоздал! К тому же нас никто не слышит.
– Простите, – сказал кельнский агент, подходя ближе и давая рукой сигнал Гансу Фридриху Розенфельду, чтобы тот возвращался к поезду. – Но вы ошибаетесь. Я вас слышал. И вам придется снять вещи с поезда и проследовать за мной в управление.
Ленин взмахнул руками, пытаясь изобразить речь глухонемого, но агент лишь устало улыбнулся, как положено улыбаться героям, завершившим трудную и опасную операцию по обезвреживанию группы английских шпионов.
x x x
16 марта 1917 года Ялтинский совет направил телеграмму в Севастопольский Центральный Военный исполнительный комитет (ЦВИК), в котором говорилось, в частности, следующее:
…Имеются также сведения, что великий князь Николай Николаевич, подавший в отставку с поста главнокомандующего, на который он был назначен Временным правительством, и поселившийся вновь в своем имении Чаир, а также бывшая императрица Мария Федоровна ведут совещания с великими князьями. Агентами Совета установлено, что совещания проходят, в частности, в комнате, не имеющей окон, в имении гражданки бывшей императрицы, о чем нам сообщил убежавший из имения лакей Иванов Петр. Позавчера состоялся съезд заговорщиков на даче предводителя дворянства Попова, где находится скрытый радиотелеграф, которым великие князья подают сигнал крейсеру «Гебен». Гражданка бывшая императрица вместе с подозрительными лицами совершает таинственные поездки в черном автомобиле. Связь с германским военным командованием поддерживает житель Ялты граф Тышкевич…
Александр Васильевич Колчак положил это донесение, переданное ему из ЦВИКа полковником Верховским, на стол в адмиральской каюте «Императрицы Екатерины», где он держал свой флаг. Сам же Александр Васильевич быстро ходил по каюте – шаги съедались толстым ворсом ковра, останавливался на секунду у раскрытого иллюминатора, резко поворачивался – кидал издали убийственный взгляд на бумагу, лежавшую на столе. Подходил к ней, намереваясь разорвать, но не рвал, а замирал у двери, где рядом с Верховским стоял Коля Беккер, он же мичман Берестов.
– Ну ведь идиоты? – вкрадчиво, будто и в самом деле хотел узнать, так ли это, спросил Колчак у Верховского. – Мария Федоровна во главе заговора! Как вам это нравится?
Верховский сочувственно склонил голову. Но не более. Он знал, что положение адмирала шатко – неизвестно было, что решат в Петрограде. Севастопольский совет был адмиралом недоволен, потому что тот никак не желал признавать революцию. То есть формально он ее признавал и присягнул Временному правительству, но не скрывал того, что на первом плане для него остается победа над германскими варварами и их турецкими союзниками, а это может быть достигнуто лишь путем укрепления боевого духа войск и флота, то есть строжайшей дисциплиной, которой, оказывается, мешают митинги и шествия. Совет же, независимо от того, что думал каждый член его в отдельности, зависел от настроений береговых частей и матросов экипажей. А те с каждым днем все менее желали побеждать Германию и соблюдать дисциплину и все менее любили строгого учителя. Полковник же Верховский хотел сберечь голову и желательно пост, даже если это было связано с нелояльностью к Колчаку.
Коля Беккер в отличие от Верховского глубоким искренним вздохом выразил полное согласие с Колчаком. Беккеру было нечего терять, зато он был многим обязан Александру Васильевичу. И только ему. Ведь именно вице-адмирал, умевший ценить преданность и еще более находчивость, после инцидента во время митинга вызвал к себе прапорщика Берестова и предложил ему перейти на флот с повышением в чине и пребывать далее для особых поручений при особе командующего. Карьера Беккера, сделавшая столь скорый и неожиданный скачок, приобрела новые очертания. Ведь за три года прозябания в Феодосии в крепостной артиллерии он поднялся всего-навсего от вольноопределяющегося до прапорщика. Здесь же за неделю он стал мичманом флота, сшил себе мундир у хорошего портного, и, когда Колчак увидел его впервые в штабе, он несколько секунд, несмотря на свою замечательную зрительную память, никак не мог сообразить – кто же этот знакомый ему высокий, стройный мичман.
– Берестов? – сказал он, с некоторым вопросом, потом уже без вопроса.
– Берестов Андрей Сергеевич! Вы рождены для морской формы.
За прошедшие дни Беккер пытался вжиться в структуру морского штаба, что было нелегко сделать, а Колчак ему ничем не помогал, полагая, что щенки учатся плавать, только будучи скинуты в воду. В ином случае пловца не получится. Разумеется, у новых коллег Беккера не было к нему никакого расположения. Беккер попал в свиту, которую его новый знакомец капитан-лейтенант Сидоренко, человек, принадлежавший к обидчивой породе украинских националистов, называл сворой. Он должен был ждать поручений, тогда как каждый из прочих людей, окружавших Колчака, имел свое дело, занятие или основания для безделья. Впрочем, последних было мало – они быстро пропадали, если острый взгляд адмирала выхватывал их из толпы, как трутня из роя пчел.
– Мы не можем игнорировать этот глупейший донос, – сказал Александр Васильевич, совершив еще один круг по каюте. – Потому что от нас именно этого и ждут. Мы игнорируем донос, копия его летит, если уже не улетела, в Петроград, где у нас с вами немало врагов.
Верховский кивнул, соглашаясь с тем, что у адмирала много врагов, а Коля вскинул голову, изящно устроенную на высокой шее, потому что оценил слово «мы», сказанное адмиралом.
– И это именно сейчас, когда наша настоящая работа идет полным ходом и достаточно мелочи, чтобы все погубить.
Верховский кивнул, показывая, какая работа их объединяет с адмиралом, но Коля кивнуть не посмел, потому что в святая святых его не допускали.
– Не сегодня-завтра из Петрограда посыплются панические телеграммы, – уверенно сказал Колчак. – У них тоже на шее сидит совет, и они еще больше нас боятся потерять власть. Меня в худшем случае отправят в Соединенные Штаты закупать оружие или консультировать по минному делу, а им придется идти в отставку… если не на эшафот.
– Достаточно послать туда доверенного человека, – сказал Верховский,
– чтобы он установил на месте, кто лжет.
– Вот это, господин полковник, – Колчак остановился напротив Верховского и кончиками сухих пальцев взял его за пуговицу на груди, – было бы роковой ошибкой. Мы должны откликнуться на этот грязный и глупый донос, словно свято верим в каждое его слово. Мы соберем, причем гласно, все возможные комиссии, советы и союзы! Бейте в барабаны, полковник!
– Слушаюсь, – неуверенно отозвался полковник и совершил незаконченное движение плечами, будто собирался уйти, не двигаясь с места.
– Сегодня же с копией письма делегировать представителей Совета и ЦВИКа в Петроград к Керенскому! Включить в комиссию самых серьезных дураков Севастополя. Остальные должны создать грандиозную комиссию. Грандиозную. Но совершенно секретную. Эта комиссия совершенно тайно должна будет обследовать резиденции всех Романовых и близких к ним лиц. Секретно, Верховский. Так, чтобы весь Крым знал и смеялся. Теперь вы все поняли?








