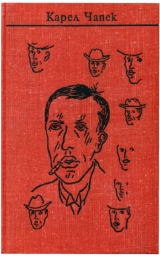
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 1. Рассказы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 48 страниц)
О последних делах человека
© Перевод И. Ивановой
Трамвай звенит и с грохотом несется вверх к Ольшанскому кладбищу.
– Гляди, – обращается низенький мужчина к молодому парню в кроличьем тулупчике, – опять здесь чего-то строят, школу, наверное, какую или кино… Знаешь, я ужасно рад, что увидел его еще раз. «А, это ты», – сказал он. Оно, конечно, ему от этого не стало легче, но всегда важно проявить дружеское участие. «Так я еще приду, – пообещал я, – к тому времени ты уже бегать будешь, – говорю, – и на тебе…»
Парень в кроличьем тулупчике уныло закивал головой.
– Я медаль надел, пускай, думаю, он порадуется, – продолжал низенький, – а он и говорит: «Здорово, неужто это ты?» Узнал, значит. Я утешаю: «Иозеф, это пройдет». А он на это: «Маничка, дай мне кусочек потрошков». Она дала, он откусил немножко – откусил только, а съесть ничего не съел. «Маничка, дай мне кусочек потрошков», – с чувством повторил низенький.
Парень в тулупчике шмыгнул носом.
– Конечно, он тебе все же брат был, – утешал его низенький. – Она-то говорила, что он уж и себя не помнит, а он только посмотрел на меня и говорит: «Тоник, это ты, значит?» У, – воскликнул вдруг низенький, радостно потирая руки, – а венков сколько у бедняги будет! Я зашел спросить, во что обойдется венок с лентой, отвечают – восемьдесят пять крон. Тогда, говорю я, никаких лент не надо, лучше я визитную карточку вложу, и написал на ней: «Спи сладко – твой Тоник». Это ведь одно и то же, правда? Надо проявлять дружеское участие, но с какой стати выбрасывать двадцатку на ленту? Все равно ее на кладбище своруют.
– Мне сказали, – слабым голосом отозвался парень в тулупчике, – что венок с лентой стоит девяносто крон, а я говорю: «Сколько бы ни стоил, пускай хоть сто, только сделайте как следует».
– Так это ж для брата, – возразил низенький, – зато венок прекрасный. И на ленте золотыми буквами: «Прости-прощай, Енда и Лидушка», – я тебе говорю, очень красиво. «Прости-прощай, Енда и Лидушка», – повторил он проникновенно. – Скоро доедем, еще две остановки. А на погоду нам повезло, правда! Красивые у него будут похороны.
Парень слабо кивнул.
– А ей ничего не оставляй, – наущал низенький. – Что она, мерзавка, со всем делать будет, сама ведь недолго протянет. Пускай отдаст столик его и одежду, какая осталась. И про часы скажи. Я ей, паскуде, ничего бы не дал. Да и сундук чтоб непременно отдала, скажи, что он еще от отца с матерью.
– Не доехали? – тоскливо спросил парень.
– Еще одна остановка, – ответил низенький, – а потом немного пройти до часовни. Я думаю, Франта тоже придет, да и другие друзья, славно все будет. Раз он с ней не оформлен, так у нее ни на что прав нет. Ты дурак, что ли, вещи ей оставлять? И доктору не плати, он небось и забудет. Если тебе сундук без надобности, возьми да продай. А венок до чего хорош! Только ленту потом домой забери, жалко ее там бросать, повесишь дома на зеркало, понимаешь? А Ладислав умрет, лента и пригодится… Ах, как он обрадовался, бедняга, что я его тогда навестил…
Трамвай затормозил перед кладбищенскими воротами.
– Не прыгай, что ты, погоди, пока остановится, – удержал низенький парня, – еще упадешь, а ты сегодня такой нарядный. Все похороны для тебя были бы испорчены.
И, заботливо поддерживая парня в кроличьем тулупчике, скорбящий друг повернул к кладбищенским воротам.
Чудо на стадионе
© Перевод И. Ивановой
Это случилось на товарищеском матче между спортклубом городской жижковской школы и четвертым классом гимназии Одиннадцатого района Праги. Несмотря на самоотверженную защиту, в которой особенно отличился Ярда Запотоцкий, к концу второго тайма жижковцы проигрывали со счетом два – ноль, их ворота подвергались все более настойчивым атакам. И вот, в тот самый момент, когда в ворота жижковцев гимназист Зденек Попр, по прозвищу Кадя, послал очередной мяч, предвещавший неминуемый гол, случилось нечто странное: мяч остановился в воздухе, затем, раскрутившись с бешеной скоростью, после некоторого колебания понесся в обратном направлении и метеором влетел в сетку ворот гимназистов. До окончания второго тайма оставалось четыре минуты. Никто даже толком не разглядел, как это произошло, и игра продолжалась; блестящий нападающий Зденек Попр снова овладел мячом и, обойдя защитников почти у самых ворот, пушечным ударом послал мяч в нижний угол. Тридцать болельщиков за гимназию взревели от счастья, но мяч вдруг исчез; игроки стали его искать, и наконец вратарь гимназии обнаружил его безмятежно лежащим в своих собственных воротах. Однако тут раздался свисток, возвестивший о конце матча. Правда, команда гимназии протестовала против этого не по правилам забитого гола, но – ничего не поделаешь – результат матча остался два – два.
С этого дня футбольная команда спортклуба жижковской городской школы триумфальным маршем шла от победы к победе. Они обставили либенскую школу со счетом три – ноль, разделали команду голешовицкого реального училища четыре – один, побили шестиклассников колинской гимназии на их собственном поле два – один (соотношение раненых – два к двум), а победив и реформированную реальную гимназию Девятнадцатого района Праги, юношескую команду спортклуба «Славия»[206]206
«Славия» – один из наиболее популярных пражских футбольных клубов.
[Закрыть], городскую коширжскую школу и немецкую реальную гимназию Второго района Праги, должны были встретиться со сборной спортклуба «Студенческий спорт». Им сопутствовал беспримерный в истории мирового футбола успех.
Никому, даже членам победоносной команды, не бросилось в глаза, что на всех триумфальных матчах неприметным зрителем присутствовал ученик первого класса их школы Богумил Смутный. С ним вообще никто никогда не разговаривал, поскольку это был благонравный и к тому же набожный мальчик. И никто не обращал на него внимания ни в школе, ни на поле брани. Один лишь упомянутый уже Зденек Попр (из зависти и ревности не пропускавший ни одной игры жижковцев) приметил этого неизменного скромного зрителя; приметил он также, что в критические моменты Богумил Смутный исчезает с трибуны и, укрывшись за ближайшим заборчиком или кустом, падает на колени и, горячо молясь, шепчет:
– Господи милосердный, смилуйся! Сделай так, чтобы наши забили гол!
И в то же мгновение мяч останавливается на пути к воротам жижковцев и влетает в ворота противника, или вдруг исчезает, чтоб появиться в чужих воротах, или же медленно катится по полю, а игроки противника валятся и спотыкаются, словно неведомая сила хватает их за ноги. И Зденек Попр, по прозванию Кадя, рассказал обо всем этом своему старшему брату, студенту-медику Завишу Попру из «Студенческого спорта».
За день до исторической встречи жижковцев с клубом «Студенческий спорт» перед жижковской городской школой молодой мужчина дожидался ученика Богумила Смутного. Он представился ему как Завиш Попр, студент-медик и спортсмен, и обратился к Смутному с такими словами:
– Я слыхал, пан Смутный, вы тоже большой поклонник спорта, наш Зденек говорил мне, что вы очень любите ходить на футбол. Но, боюсь, вы недостаточно хорошо знакомы с его правилами; вам нужно узнать их как следует, если хотите получить истинное удовольствие от игры! У меня случайно выдалась свободная минутка, и я решил рассказать вам кое-что о футболе, чтоб вы знали, что такое игра по правилам.
В тот день студент-медик Завиш Попр три часа проходил с Богумилом Смутным по жижковским улицам, объясняя ему, что такое штрафная площадка, положение вне игры, «рука», нападение и защита, распасовка, угловой, чистая игра, нарушение правил, пенальти, удар «в девятку», грубость, комбинированная атака и тому подобное.
Богумил Смутный только качал головой и приговаривал:
– Да, да, конечно. Я понимаю, разумеется. Да, да, спасибо, я это запомню.
И в заключение беседы он вежливо поблагодарил, потому что был очень воспитанным и примерным мальчиком, не то что какой-нибудь шалопай из этих нынешних молодых людей.
На другой день происходил матч между клубом жижковской городской школы и командой «Студенческого спорта». Во втором тайме «Студенческий спорт» вел уже со счетом шесть – ноль. Среди зрителей сидел потный от ужаса Богумил Смутный; судорожно сжимая руки, он молился:
– Господи, смилуйся и сделай что-нибудь… но только чтоб это было по правилам… чтобы наши забили гол по правилам… сделай чудо, но только честно.
Второй тайм «Студенческий спорт» заканчивал со счетом одиннадцать – ноль, а студент-медик Попр шептал своему брату:
– Вот видишь, когда действуют по правилам, чуда не жди.
Судебный случай
© Перевод И. Ивановой
– …несусь я на скорости восемьдесят километров к повороту и думаю, что за поворотом дорога свободна, – само собой, по дурости так считаю, – убираю немного газ и вылетаю на поворот. И вдруг вижу – через дорогу тянется процессия. Похороны. Как раз заворачивают в ворота на кладбище. Жму на тормоза и такого, скажу вам, дал юза, что и ну! Помню только, четыре парня, что гроб несли, бросили его на землю, а сами – в канаву, и тут – хрясь! – мой шарабан задним бампером наподдал этот самый гроб, который они бросили на дорогу, и гроб отлетел через кювет на поле.
Вылезаю из машины и думаю – пронеси господи, если я еще пана священника и прочую свиту этак зацепил, славненькие будут поминки на мою голову! Благодарение богу, им ничего не сделалось, гляжу – по одну сторону дороги застыл министрант с крестом, по другую – священник и все прочие, и так и стоят столбом – как есть восковые фигурки из паноптикума. И тут священник начинает трястись от страха и прочувствованно лопотать:
– Ах, молодой человек, у вас нет решпекта даже к мертвым.
Мне что, я рад, что никого из живых не убил.
Потом, правда, народ опомнился, кто ругает меня, кто спешит на помощь к покойнику в разбитом гробу – такой уж, видать, инстинкт у людей.
И вдруг все как повалят назад и завыли от страха. Что вы думаете – вылезает из этой кучи щепок живой человек, щупает вокруг себя руками и хочет сесть.
– Что это? Что это? Что это? – говорит он и все хочет сесть.
В общем, наше вам с кисточкой – как сказал парикмахер.
– Дед, – говорю я ему, – а ведь вас чуть не схоронили. – И помогаю выбраться из-под обломков.
А он только глазами хлопает и бормочет:
– Что это? Что это? Что это?
И не может встать. Ну, думаю, перелом, по суставу или еще там по чему его двинуло, когда машина наехала. Рассказывать долго нечего – погрузил я их вдвоем с попом в машину и повез в дом печали, а следом шли скорбящие провожатые и министрант с крестом. Само собой, и музыканты, только, правда, они не играли, потому что неясно было, как теперь будет с оплатой.
– За гроб я заплачу, и за доктора тоже, а в остальном – скажите мне спасибо, что не похоронили живого. – И поехал себе. По правде говоря, я был рад, что все уже позади и что не случилось ничего похуже.
Но теперь-то все только и началось. Первым делом написал мне староста деревни вежливое письмо: дескать, семья этого мнимого покойника, некоего Антонина Бартоша, железнодорожного служащего на пенсии – неимущая, хотели они дедушку похоронить как следует, на последние, с трудом скопленные гроши, а теперь, когда в результате моей неосторожной езды дедушка восстал из мертвых, им придется хоронить его еще раз, чего они, по причине своей бедности, позволить себе не могут. И чтоб я оплатил им теперь испорченные похороны – священника, музыкантов, могильщиков и поминальное угощение.
Потом пришло письмо от адвоката этого деда: что Бартош Антонин, железнодорожный служащий на пенсии, требует возмещения за порванный саван, несколько сот крон на лечение сломанной лодыжки и пять тысяч денежной компенсации за увечье, полученное им по моей вине. Тут мне стало малость не по себе.
Потом новое письмо: что дедушка как железнодорожник получал пенсию, когда же он почил в бозе, пенсию, разумеется, прекратили выплачивать, и министерство, имея заключение районного врача о его смерти, и не думает ее восстанавливать. Поэтому дед собирается требовать с меня по суду пожизненного содержания как возмещения за утраченную пенсию.
И снова письмо: с той поры, как я его воскресил, дедушка прихварывает, и ему приходится варить пищу пожирнее. И еще – что я вообще сделал его калекой, так как, восстав из мертвых, он уже не он и вообще никуда не годится и все знай твердит: «Я свое дело сделал, а теперь наново помирать придется! Уж этого я ему не прощу, он мне за это заплатит, не то я до верховного суда дойду. Так обидеть бедного человека! Да за это полагается наказание, как за убийство!»
И все в том же духе. Хуже всего, что у меня тогда не был уплачен очередной взнос за страховку машины, а страхкасса – поручительская. Что ж теперь будет? Мне самому придется за все платить, как вы думаете?
Черт
© Перевод И. Ивановой
Начиналось третье действие оперы Дворжака[207]207
Дворжак Антонин (1824–1884) – великий чешский композитор.
[Закрыть] «Черт и Кача». Огни в зале притушили, и шум утих, словно завернули кран. Дирижер постучал палочкой и поднял ее. Пани Малая в первом ряду кресел убрала кулечек с конфетами, а пани Гроссманова вздохнула:
– Я обожаю это вступление.
Пан Колман в седьмом ряду закрыл глаза, готовясь насладиться, как он говорил, «своим Дворжаком».
Полились звуки грациозной увертюры.
Тут занавес с правой стороны шевельнулся, и на сцену проскользнуло какое-то маленькое существо; очутившись перед темной пропастью зала, оно в изумлении замерло и тревожно оглянулось в поисках пути к бегству. Но в этот миг его настигли звонкие коготки вступительной польки, и существо задвигало в такт ручками и затопало ногами.
Ростом оно было не выше восьмилетнего ребенка, но грудь его была волосата, все туловище ниже талии тоже покрывала косматая темно-рыжая шерсть; мордочка у него была козья, остренькая, и сквозь курчавые волосы на голове пробивались рожки; существо звонко притопывало копытцами своих козьих ножек. Публика начала тихонько смеяться. Созданьице на рампе в смятении сделало было шаг назад, однако наткнулось на занавес и испуганно оглянулось, но копытца его сами по себе отбивали дробь и кружились в ритме музыки. Казалось, существо на сцене наконец-то преодолело робость: радостно разинув рот, облизнулось длинным розовым язычком и все отдалось танцу – оно подпрыгивало, приседало и с воодушевлением топотало. Ручки его тоже двигались в танце – они взлетали над головой и весело щелкали пальцами, а тонкий, упругий хвост махал из стороны в сторону мерно в такт, как метроном. В этом танце не было большого искусства – по правде говоря, это были просто какие-то скачки, прыжки и топтанье, но все вместе выражало беспредельную радость жизни и движения, это было так же естественно и прелестно, как игры козленка или погоня щенка за собственным хвостом.
Публика размягченно улыбалась и ерзала от удовольствия. Дирижер обеспокоился, почувствовав за спиной какое-то волнение, энергичнее замахал палочкой и строго взглянул в сторону шумовых инструментов – что это там сегодня за странный стук и топот? Но встретил лишь настороженно-преданный взгляд барабанщика с колотушкой в руке, готового к своему вступлению. Оркестр играл старательно и добросовестно, не поднимая глаз от пюпитров, на сцену никто и не глядел.
Там-та-та та-та-там.
«Черт возьми, что-то сегодня не в порядке», – подумал капельмейстер и широкими взмахами погнал оркестр в «форте». Почему в зале смеются? Наверное, что-то случилось. Чтобы отвлечь внимание публики, дирижер повел увертюру все громче, все быстрее.
Созданьице на сцене только обрадовалось этому: оно топало, тряслось, сучило ножками, подскакивало, вскидывало голову и все быстрей мотало хвостом.
…Там-та-та там-там та-та.
Пани Малая, сцепив пальцы на животе, сияла блаженно и растроганно. Она уже слушала однажды «Черта и Качу», четырнадцать лет тому назад, но тогда ничего такого не устраивали.
«Я не сторонница нынешних режиссерских выкрутасов, – подумала она, – однако это мне, пожалуй, нравится». Ей захотелось поделиться с пани Гроссмановой, но та, благоговейно уставившись на сцену, лишь покачивала головой. Пани Гроссманова была страстная меломанка.
Пан Колман в седьмом ряду сидел мрачный. «Еще никто не позволял себе ничего подобного, это попросту неуместно. Чего только не выделывают нынешние режиссеры с Дворжаком – уму непостижимо, это переходит уже всякие границы, – возмущался пан Колман. – И в таком бешеном темпе увертюру тоже никогда не играли. Просто неуважение к Дворжаку, – рассерженно заключил он и решил: – Непременно напишу в газету. И озаглавлю: „Руки прочь от нашего Дворжака!“ – или как-нибудь в этом духе».
Но вот замерли последние звуки увертюры. Дирижер перевел дух и вытер платком вспотевшее лицо. (Что приключилось сегодня с публикой?) Занавес вздрогнул и пополз вверх. Танцующая фигурка смятенно оглянулась и, сдавленно мекнув, скрылась за кулисой, не успел занавес подняться. Пани Малая из первого ряда захлопала, но пан Колман из седьмого сердито зашипел, в результате чего публика смутилась, и редкие хлопки потерянно замолкли. Нервные движения лопаток дирижера выражали явное возмущение.
«Наверно, не надо было хлопать при поднятом занавесе», – подумала пани Малая и, чтобы замять неловкость, зашептала пани Гроссмановой:
– Неправда ли, это было очень мило?
– Великолепно! – выдохнула пани Гроссманова, и пани Малая с облегчением достала из пакетика конфету. «Никто и не заметил, что я аплодировала».
Успокоился и пан Колман. Больше уже ничто не нарушало достойного течения спектакля. «Непременно напишу дирекции театра, чтоб убрали подобные безобразия», – сказал себе пан Колман, но тут же позабыл об этом.
– Странная была нынче публика, – ворчал дирижер после спектакля, – хотел бы я знать, чему все смеялись?
– Сегодня же понедельник, – ответил ему первая скрипка, – а по понедельникам всегда бывает самая ужасная публика.
Вот и все.
Паштет
© Перевод И. Ивановой
«Что же мне купить сегодня на ужин… – задумался пан Михл, – опять что-нибудь копченое… От копченого бывает подагра… А если сыр и бананы? Нет, сыр я покупал вчера. Однообразная пища тоже вредна. А сыр ощущаешь в желудке до самого утра. Боже мой, как это глупо, что человеку надо есть».
– Вы уже выбрали? – прервал его размышления продавец, заворачивая в бумагу розовые ломтики ветчины.
Пан Михл вздрогнул и сделал судорожный глоток. Да, конечно, надо что-то выбрать.
– Дайте мне, пожалуй… паштет, – выпалил он, и во рту у него набежала слюна. Паштет, конечно, вот что ему нужно. – Паштет! – решительно повторил он.
– Паштетик, извольте, – защебетал продавец, – какой прикажете – пражский, с трюфелями, печеночный, гусиный или страсбургский?
– Страсбургский, – без колебаний выбрал пан Михл.
– И огурчики?
– Да… и огурчики, – снисходительно согласился пан Михл. – И булку. – Он энергично оглядел магазин, словно выискивая, что еще взять.
– Чего еще изволите? – застыл в настороженном выжидании продавец.
Пан Михл чуть дернул головой, как бы говоря: нет, к сожалению, больше мне взять у вас нечего, не беспокойтесь.
– Ничего, – сказал он вслух. – Сколько я вам должен?
Цена, названная продавцом за красную консервную банку, слегка испугала его.
«Господи, ну и дороговизна, – сокрушался он по дороге домой, – видно, паштет настоящий страсбургский. А ведь я, честное слово, в жизни его не пробовал, но какие безбожные деньги они за него берут! Что поделаешь, иногда ведь хочется паштетика. И не обязательно съедать его весь сразу, – утешал себя пан Михл. – К тому же паштет – тяжелая пища. Оставлю себе и на завтра».
– Ты еще не знаешь, Эман, – интригующе воскликнул пан Михл, отпирая дверь, – что я нынче несу на ужин!
Кот Эман взмахнул хвостом и замяукал.
– Ах ты, негодник, – проговорил пан Михл, – ты тоже не прочь отведать страсбургского паштетика, а? Нет, друг мой, не выйдет. Паштет – дорогая жратва, дружок, я сам его сроду не пробовал. Страсбургский паштет, это, любезный мой, только для гурманов, но, чтоб ты не обижался, дам тебе понюхать.
Пан Михл достал тарелку и не без труда открыл коробку с паштетом, затем взял вечернюю газету и с каким-то торжественным чувством сел ужинать. Кот Эман, как обычно, вспрыгнул на стол, аккуратно подобрал хвост и в нетерпеливом предвкушении вонзал в скатерть коготки передних лап.
– Понюхать тебе дам, – повторил пан Михл, поддев на вилку маленький кусочек паштета. – Чтоб ты знал, как он пахнет. На.
Эман прижал усы и осторожно, недоверчиво принюхался.
– Что? Не нравится? – раздраженно воскликнул пан Михл. – Такой дорогой паштет, ах ты, олух!
Кот оскалил зубы и, наморщив нос, продолжал обнюхивать паштет.
Пан Михл немного встревожился и сам понюхал паштет.
– Хорошо пахнет, Эман. Ты только принюхайся! Великолепный аромат, чудак.
Эман переступил с лапки на лапку и вонзил когти в скатерть.
– Хочешь кусочек? – спросил пан Михл.
Кот беспокойно дернул хвостом и хрипло мяукнул.
– Что? Что такое? – воскликнул пан Михл. – Ты хочешь сказать, что паштет несвежий?
Он принюхался, но ничего не почувствовал. «Черт его знает, у кота нюх-то получше. А в паштетах бывает, как его, этот… ботулин. Ужасный яд, господи. Без запаха и без всякого вкуса, а человек отравляется». У пана Михла что-то противно сжалось где-то под сердцем. Слава богу, что я еще не взял его в рот. Наверное, кот определил по запаху или инстинктом, что в этом паштете что-то неладно. Лучше я не стану его есть, но уж коли заплачены такие деньги…
– Слушай, Эман, – обратился пан Михл к коту. – Я дам тебе попробовать. Это самый нежный и самый дорогой паштет, настоящий страсбургский. Надо же и тебе попробовать чего-нибудь получше. – Он взял в углу кошачью мисочку и положил в нее кусок паштета. – Кис-кис, поди сюда, Эман!
Эман спрыгнул со стола так, что загудел пол, и, помахивая хвостом, не спеша подошел к своей мисочке, присел и осторожно обнюхал еду.
«Не жрет, – с ужасом подумал пан Михл. – Тухлый».
Хвост Эмана вздрогнул, и понемножку, аккуратно, словно с опаской, кот начал обкусывать паштет.
– Ну вот, видишь, – с облегчением вздохнул пан Михл, – ничего.
Кот доел паштет и стал мыть себе лапкой усы и голову. Пан Михл выжидательно смотрел на кота. «Ну вот, и не отравился, и ничего с ним не случилось».
– Ну, как, – покровительственно воскликнул он. – Вкусно? Ах ты, негодник!
И успокоенный сел за стол. Еще бы, такой дорогой паштет не может быть плохим. Он наклонился над тарелкой и втянул аромат, закрыв глаза от наслаждения. Восхитительный аромат… «А может, отравление ботулином дает себя знать не сразу? – вдруг осенило его. – Того и гляди, у Эмана начнутся судороги…»
Пан Михл отодвинул тарелку и пошел поискать том энциклопедии на Б. «Б… ботулизм, или аллантиазис… проявляется через двадцать четыре или даже через тридцать шесть часов (проклятие!)… следующими признаками: паралич глазных мышц, потеря зрения, сухость в горле, покраснение слизистой, отсутствие выделения слюны (пан Михл непроизвольно проглотил слюну), хриплый голос, отсутствие мочеиспускания и запор, в тяжелых случаях – судороги, паралич и смертельный исход (благодарю покорно!)». У пана Михла как-то отпала охота есть, он спрятал паштет в буфет и стал медленно жевать булку с огурцом. «Бедный Эман, – думал он, – глупое животное, возьмет сожрет испорченный паштет и пропадет как собака».
Со стесненным сердцем он поднял кота и посадил себе на колени. Эман усердно замурлыкал, блаженно жмуря глаза, а пан Михл сидел не двигаясь и гладил его, озабоченно и с сожалением поглядывая на непрочитанную газету.
Этой ночью пан Михл взял Эмана к себе в постель. «Может, завтра его уже не станет, пусть хоть понежится». Всю ночь пан Михл не спал, часто подымался, чтобы потрогать кота рукой. Нет, с ним как будто ничего. И нос холодный. После каждого поглаживания кот начинал мурлыкать чуть ли не в голос.
– Вот видишь, – сказал пан Михл наутро, – паштет-то был хороший, правда? Но вечером я сам его съем, чтоб хоть знать, что это такое. Не думай, пожалуйста, что я буду всю жизнь кормить тебя паштетами.
Эман разинул рот, чтобы издать нежное и хриплое «мяу».
– Погоди-ка, – воскликнул пан Михл строго, – ты не хрипишь? Покажи глаза.
Кот уставился на хозяина неподвижным взглядом золотых глаз.
«Уж не паралич ли это глазных мышц? – ужаснулся пан Михл. – Какое счастье, что я и в рот не взял этого паштета. А какой у него был аромат!»
Когда пан Михл вернулся вечером домой, Эман с урчанием долго терся о его ногу.
– Ну, – спросил пан Михл, – как дела? Покажи глаза.
Эман махнул хвостом и уставился на хозяина золотисто-черными глазами.
– Еще не все позади, – поучал его пан Михл. – Иногда отравление начинается через тридцать шесть часов, понимаешь? А как стул? Нет запора?
Кот снова потерся о его ногу и сладко мяукнул хриплым голосом. Пан Михл поставил на стол паштет, положил рядом газету. Эман прыгнул на стол и стал переминаться, царапая когтями скатерть.
Пан Михл понюхал паштет; пахло приятно, но, черт его знает, вроде по-другому, не как вчера.
– Нюхни, Эманчик, – попросил его пан Михл, – хороший паштет?
Приблизив к банке короткий нос, кот подозрительно принюхался. Пан Михл испугался. Может, выкинуть этот проклятый паштет? Кот чует, что с паштетом что-то неладно. Нет, не буду я его есть. Не хватало еще отравиться. Выкину, и дело с концом.
Пан Михл перегнулся через подоконник, выбирая место, куда закинуть консервную банку. Вон туда, на соседний двор, под акацию. «Жалко паштета, – подумал пан Михл, – такой дорогой… Настоящий страсбургский. И никогда я его не ел. Может, он и не испорчен вовсе, но… Нет, не стану его есть, но уж коли выброшены такие деньги… Хотелось бы когда-нибудь попробовать. Хоть раз в жизни. Страсбургский паштет, это такое лакомство!»
– Господи, жалко-то как! – жалобно приговаривал пан Михл. – Ни с того ни с сего взять да выкинуть…
Пан Михл оглянулся. Эман сидел на столе и мурлыкал. «Мой единственный друг, – растроганно подумал пан Михл. – Ей-богу, мне бы не хотелось его потерять. Но не выбрасывать же паштет совсем, ведь экие деньги заплачены! Настоящий страсбургский, тут так и написано, погляди».
Кот Эман нежно урчал.
Пан Михл схватил красную банку и молча поставил ее на пол. Делай с ним что хочешь, скотина. Слопай все или не знаю что, а выбрасывать у меня рука не подымается. Сам я этой штуки в жизни не едал. Ну, да что я, я обойдусь безо всяких этих штучек, дайте мне кусок хлеба, и ничего мне другого не надо. С какой стати я буду есть этакий дорогущий паштет? Но выбросить его грех. Он стоит кошмарных денег, дружище. Выбрасывать его не годится.
Эман соскочил со стола и подошел к паштету. Он долго обследовал банку и наконец как-то неуверенно съел паштет.
– Видали, – ворчал пан Михл, – живется ли какому коту на свете лучше тебя? Везет же некоторым! Мне вот не везет.
И этой ночью он раз пять вставал к коту и трогал его. Эман урчал, чуть не захлебываясь.
* * *
С тех пор пан Михл нет-нет да и сорвет зло на коте.
– Брысь, – прикрикивал он на Эмана, – сожрал мой паштет – и молчи!








