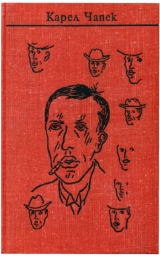
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 1. Рассказы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 48 страниц)
Украденное убийство
© Перевод Т. Аксель и Ю. Молочковского
– Это напоминает мне одно преступление, – сказал Гоудек, – которое было тоже хорошо задумано и подготовлено. Боюсь только, что мой рассказ вам не понравится, так как у него нет конца, и тайна остается нераскрытой. Если будет неинтересно, скажите, я не стану рассказывать.
Вы, кажется, знаете, что я живу на Круцембурской улице на Виноградах. Это одна из тех коротких поперечных улиц, на которых нет ни трактира, ни прачечной, ни даже угольной лавки. Обитатели этой улицы ложатся спать в десять часов, кроме тех прожигателей жизни, которые слушают радио и поэтому залезают в постель около одиннадцати. Живут здесь большей частью тихие налогоплательщики и мелкие чиновники (не выше седьмого класса табеля о рангах), среди них несколько любителей-ихтиологов, один музыкант, играющий на цитре, два филателиста, один вегетарианец, один спирит и один коммивояжер, разумеется, приверженец теософии. Остальное население улицы – это квартирохозяйки, у которых все эти жильцы занимают «чистые, элегантно обставленные комнаты с подачей утреннего завтрака» – как пишется в объявлениях. Раз в неделю, по четвергам, коммивояжер-теософ возвращался домой около полуночи, так как посещал какие-то душеспасительные беседы. По вторникам поздно возвращались два натуралиста – у них бывали собрания кружка «Аквариум» – и обычно, остановившись под фонарем, спорили о живородках и золотых рыбках. Три года назад на нашей улице даже видели пьяного, но, говорят, он был из Коширж и просто заблудился.
Зато ежедневно в четверть двенадцатого возвращался домой какой-то русский, по фамилии не то Коваленко, не то Копытенко, человек небольшого роста, с реденькой бородкой. Снимал он комнату у пани Янской в доме номер семь.
На что жил этот русский, никто не знал, но до пяти часов вечера он обычно валялся дома, потом брал портфель, шел к ближайшей остановке трамвая и ехал в центр города. Вечером, ровно в четверть двенадцатого, он выходил из трамвая на той же остановке и сворачивал на Круцембурскую улицу. Кто-то потом рассказывал, что все это время он просиживал в кафе и ругался с другими русскими. Говорили еще, что это не мог быть русский, потому что русские никогда не возвращаются домой так рано.
В прошлом году, в феврале, я уже дремал, как вдруг слышу за окном пять резких ударов. Сквозь сон мне показалось, будто я еще мальчишка и щелкаю на дворе бичом и радуюсь, что он так здорово хлопает. Потом я вдруг сразу проснулся и осознал, что это стрельба из револьвера. Подбегаю к окну, отворяю его и вижу – внизу, на тротуаре перед домом номер семь, лежит ничком мужчина с портфелем в руке. Тут послышался топот ног, из-за угла появился полицейский, подбежал к лежащему, приподнял его, но, пробормотав: «Эх, черт!» – снова опустил его на землю и засвистел. Из-за другого угла тотчас же показался второй полицейский и поспешил к первому.
Я, конечно, быстро сунул ноги в туфли, накинул пальто и устремился вниз. Из других домов выбежали вегетарианец, музыкант, один из ихтиологов, дворники и филателист. Остальные глядели из окон, стуча от страха зубами и думая: «Ну его к черту, еще впутаешься в историю». Тем временем полицейские перевернули человека навзничь.
– Ведь это тот русский, Копытенко или Коваленко, что живет у пани Янской, – говорю я дрожащим голосом. – Он мертв?
– Не знаю, – мрачно отвечает полицейский. – Надо вызвать врача.
– Н-н-неужели вы оставите его лежать здесь? – возмущенно спросил музыкант, заикаясь. – Отвезите его в больницу.
На улице собралось уже человек двенадцать, все тряслись от холода и страха, а полицейские, опустившись на колени рядом с пострадавшим, зачем-то расстегивали ему воротник. В это время на углу главной улицы остановилось такси, и шофер вышел посмотреть, что случилось. Наверное, думал, что это пьяный и можно заработать, отвезя его домой.
– В чем дело, братцы? – приятельски спрашивает он нас.
– З-з-застрелили человека, – стуча зубами, говорит вегетарианец. – П-п-положите его в машину и отвезите в «Скорую помощь», может, он еще жив.
– Вот чертовщина! – проворчал шофер. – Не очень-то я люблю такие истории. Ну, ладно, погодите, я сюда подъеду.
Он не торопясь пошел к своей машине и подогнал ее к мертвому.
– Кладите его в машину, – сказал он.
Двое полицейских подняли этого русского и с большим трудом погрузили в такси. Он, правда, был не тяжел, но ведь с мертвыми трудно управляться.
– Вы поезжайте с ним, коллега, а я запишу свидетелей, – сказал один полицейский другому. – Шофер, поезжайте в «Скорую помощь», да побыстрее.
– Побыстрее, – проворчал шофер. – А если у меня тормоза не в порядке?
И уехал.
Оставшийся полицейский вынул из кармана блокнот и говорит:
– Сообщите мне свои имена, господа. Это только для свидетельских показаний.
И записал нас одного за другим. Копался он страшно, видно, у него пальцы окоченели, и мы тоже замерзли как проклятые. Когда я вернулся в свою комнату, было двадцать пять минут двенадцатого. Стало быть, все происшествие длилось десять минут.
Я знаю, вы скажете, что во всем этом нет ничего особенного. Но послушайте, пан Тауссиг, в такой тихой улице, как наша, это – великое событие. Соседние улицы греются в лучах нашей славы, ибо могут сказать: «Это случилось здесь, за углом». Жители улиц, которые подальше от нас, прикидываются равнодушными, но это, если хотите знать, только по злобе и от зависти – ведь происшествие было не у них. А живущие еще дальше отмахиваются, говоря: «Кажется, там кого-то пристукнули, да черт его знает, так это или нет». Но это – лишь черная зависть.
Представляете себе, как на другой день все жители нашей улицы накинулись на вечерние газеты? Во-первых, нам хотелось узнать что-нибудь новое о нашем убийстве. Во-вторых, все предвкушали удовольствие читать о происшествии на своей улице. Ведь известно, что люди всего охотнее читают в газетах о том, что они видели, как говорится, собственными глазами. Предположим, на Уезде свалилась лошадь, в результате чего движение было нарушено на десять минут. Если об этом не написано, очевидец сердится и швыряет газету на стол, дескать, там и читать-то нечего. Его почти оскорбляет, что эти журналисты не увидели ничего важного в происшествии, в котором он принял самое непосредственное участие. Я думаю, что отдел происшествий существует специально для таких очевидцев, чтобы они от обиды не перестали покупать газеты.
Мы были просто оскорблены, когда ни в одной из газет не нашли ни слова об убийстве. «Черт возьми, – ворчали мы, – расписывают тут всякие политические события, разные аферы и сообщают даже о том, что трамвай наскочил на ручную тележку, а о нашем убийстве – ни слова. До чего продажны эти газеты!»
Потом филателисту пришло в голову, что, наверное, полиция попросила газеты до окончания расследования не писать об убийстве. Это нас и успокоило, и еще больше взволновало. Мы гордились, что живем на такой улице и, несомненно, будем вызваны свидетелями по этому таинственному делу. Но и на второй день в газетах не было ничего об убийстве и никто из полиции не приходил произвести следствие, а самое удивительное – никто не явился к хозяйке убитого, чтобы осмотреть или опечатать его комнату.
Это уже задело за живое. Музыкант сказал, что, может, полиция хочет замять дело, – бог весть, кто в нем замешан.
Когда и на третий день газеты молчали об убийстве, вся улица начала возмущаться и твердить, что мы этого так не оставим, что в конце концов убитый был наш сосед и мы добьемся того, что все эти махинации будут разоблачены. Нашу улицу и без того явно третируют – у нас и мостовая никуда не годится, и освещение скверное, а небось живи здесь какой-нибудь парламентарий или газетчик, было бы совсем другое дело. Этакая порядочная улица, а за нее некому заступиться.
Короче говоря, возникло стихийное недовольство, и соседи обратились ко мне – как к пожилому, солидному человеку – и попросили пойти в участок и рассказать полицейскому комиссару о безобразном отношении к убийству.
Вот я и пошел к комиссару Бартошеку, которого немного знал. Это такой мрачный человек. Говорят, он все еще страдает из-за какой-то несчастной любви. Будто бы только с горя он и пошел служить в полицию.
– Пан комиссар, – говорю ему, – я пришел спросить у вас, как обстоит дело с убийством на Круцембурской улице? Нас удивляет, что это дело так упорно замалчивают.
– Какое убийство? – спрашивает комиссар. – Там не было никакого убийства. Я точно знаю, ведь это наш район.
– Ну, как же, а этот самый русский, Коваленко или Копытенко, которого застрелили на улице? – напоминаю я. – Там было двое полицейских, и один записал свидетелей, а другой отвез убитого в «Скорую помощь».
– Это невозможно, – объявил комиссар. – У нас никакого убийства не зарегистрировано. Наверное, это ошибка.
– Ах, пан комиссар, – говорю я, начиная сердиться, – очевидцами этого происшествия были по меньшей мере пятьдесят человек, и все могут подтвердить. Мы лояльные граждане, пан комиссар, и если надо держать язык за зубами, вы нам так и скажите. Но игнорировать убийство просто так, за здорово живешь – это никуда не годится. Мы напишем в газеты.
– Постойте! – говорит комиссар, сделав такое серьезное лицо, что мне даже страшно стало. – Расскажите, пожалуйста, все по порядку.
Я принялся рассказывать ему все по порядку, и он так заволновался, что прямо позеленел, но когда я дошел до того места, как один полицейский сказал другому: «Вы с ним поезжайте, коллега, а я запишу свидетелей», – он облегченно вздохнул и воскликнул:
– Господи, да ведь это были не наши люди! Мать честная, почему вы не вызвали полицейских против таких «полицейских»?! Неужели вы не сообразили, что полицейские никогда не говорят друг другу «коллега»? Сыщик еще может так сказать, но полицейский – никогда! Эх вы, наивный шпак, вы, «коллега», почему вы не приняли мер для ареста этих людей?
– А за что же? – пробормотал я сокрушенно.
– За то, что они застрелили вашего соседа! – закричал комиссар. – Или, по крайней мере, были соучастниками убийства. Сколько лет вы живете на Круцембурской улице?
– Девять, – сказал я.
– Так вам следовало бы знать, что в одиннадцать часов пятнадцать минут вечера ближайший полицейский патруль находится около Крытого рынка. Еще один патруль в это время должен быть на углу Силезской и Перуновой улиц, а третий следует строевым шагом мимо дома с порядковым номером тысяча триста восемьдесят восемь. Из-за того угла, откуда выбежал ваш полицейский, наш полицейский может выбежать или в десять часов сорок восемь минут или только в двенадцать часов двадцать три минуты, и ни в какое другое время, потому что в другое время его там нет. Это же, черт возьми, знает каждый вор, а вот честные обыватели не имеют об этом представления! Вы, может, думаете, что мои полицейские торчат за каждым углом? Если бы в то время, о котором вы говорите, выбежал из-за вашего проклятого угла наш полицейский, это бы уже было чрезвычайное происшествие. Прежде всего, потому, что в одиннадцать часов пятнадцать минут он должен был, согласно приказу, шагать у Крытого рынка, а во-вторых, потому, что он нам своевременно не доложил об убийстве. Это был бы, разумеется, весьма серьезный проступок.
– Господи боже мой! – сказал я. – Так как же с убийством?
– Темное дело, – сказал комиссар, явно успокоившись, – это, пан Гоудек, очень неприятный случай. За всем этим кроется ловкий преступник и какая-то крупная афера. Все было хитроумно задумано: во-первых, они знали, в котором часу их жертва приходит домой, во-вторых, знали маршрут и время следования полицейских патрулей, в-третьих, им надо было, чтобы полиция, по крайней мере, два дня не знала об убийстве. Видимо, этот срок был им необходим, чтобы скрыться или замести следы. Теперь вы все понимаете?
– Не совсем, – говорю я.
– Дело было так, – терпеливо объяснял мне полицейский комиссар, – двое преступников оделись полицейскими и подстерегали этого русского за углом. Они застрелили его, или это сделал кто-то третий. Вы же, конечно, успокоились, видя, что наша образцовая полиция немедленно прибыла на место происшествия. Вспомните-ка, как звучал свисток того первого полицейского?
– Как-то глуховато, – сказал я. – Я думал, что это оттого, что он запыхался.
– Ага, – удовлетворенно заметил комиссар. – Короче говоря, они хотели устроить так, чтобы вы не сообщали об этом убийстве в полицию. Таким путем они выиграли время, чтобы скрыться за границу. Понимаете? Шофер тоже явно был из их шайки. Не помните номер машины?
– На номер мы, признаться, не обратили внимания, – смущенно сознался я.
– Не беда, все разно номер был фальшивый… Так что им удалось убрать и труп этого русского. Кстати, он был не русский, а какой-то македонец, и фамилия у него другая, Протасов. Ну, ладно, спасибо вам, сударь. А теперь действительно прошу вас в интересах следствия молчать обо всем этом. Безусловно, это – политическое убийство. Его организатор, наверное, очень ловкий человек, потому что обычно, пан Гоудек, политические убийства совершаются из рук вон плохо. Там, где замешана политика, не жди даже порядочного преступления, там обычно бывает только грубая драка, – заметил комиссар с отвращением.
Позднее дело немного прояснилось. Причина убийства, правда, осталась неизвестной, но имена трех убийц полиция узнала. Все трое к этому времени уже давно были за границей. Так вот и получилось, что у нашей улицы попросту украли убийство. Вроде как вырвали из ее истории славнейшую страницу. Когда к нам иногда забредает чужак, кто-нибудь с проспекта Фоша[186]186
Проспект Фоша – ныне Виноградский проспект, после провозглашения независимости Чехословакии носил имя французского маршала Фердинанда Фоша (1851–1929).
[Закрыть] или из Вршовиц, то небось думает: «Что за скучная улица!»
И никто не верит нам, когда мы говорим, что у нас произошло столь загадочное преступление. Сами понимаете – другие улицы нам завидуют…
Случай с младенцем
© Перевод В. Мартемьяновой
– Уж коли речь зашла о комиссаре Бартошеке, – заметил пан Кратохвил, – то мне припоминается один случай, который тоже не стал достоянием широкой публики; я имею в виду случай с младенцем. Так вот, значит, прибегает однажды к этому Бартошеку в полицейский участок молодая особа, жена пана Ланды, советника из управления государственными имениями, – вся в слезах, едва переводит дыхание. Бартошек пожалел женщину, хотя от рыданий у нее распух нос и все лицо пошло пятнами. Принялся он ее успокаивать – насколько это в силах старого холостяка, да еще полицейского чиновника.
– Бросьте вы, ей-богу, – говорил Бартошек, – он же с вас головы не снимет, проспится, и все снова будет в порядке; ну, а если уж он и впрямь чересчур бедокурит, так я отправлю с вами пана Гохмана, он влепит ему разок-другой и приведет в чувство; а уж вы, милочка, лучше не давайте мужу поводов для ревности, так-то!
Подобным образом – да будет вам известно – в полицейских отделениях улаживают большинство семейных трагедий.
Но дамочка только трясла головой и рыдала так, что страшно было смотреть.
– Ах, черт побери. – Пан Бартошек решил подобраться к делу с другого боку. – Значит, это он от вас сбежал, вот оно что! Послушайте, да ведь он вернется, паршивец несчастный; ну стоит ли этакий мерзавец того, чтобы вы по нем убивались!
– Па-а-н… комиссар, – пролепетала молодая женщина, – у меня… на улице… украли ребенка!
– Бог с вами, – недоверчиво проговорил комиссар. – Зачем жуликам понадобился ребенок? Наверно, убежал куда-нибудь…
– Нет, не убежал… Не могла она убежать! – безутешно рыдала мамаша. – Ведь Руженке всего три месяца!
– Ах, так, – протянул пан Бартошек, который не имел ни малейшего понятия о том, когда дети начинают ходить. – Каким же образом, позвольте узнать, они ее украли?
С трудом, после долгих клятвенных заверений, что ребенок найдется непременно, пану Бартошеку удалось успокоить молодую мамашу и вытянуть из нее, как было дело.
Оказывается, дело было так: пан Ланда только что отбыл в командировку осматривать свои имения, а пани Ландова задумала вышить Руженке красивый нагрудничек. Отправилась она в галантерею выбрать шелк для этого самого нагрудничка, а коляску с Руженкой оставила на улице; когда же возвратилась – ни коляски, ни Руженки уже не было. Вот и все, что за добрых полчаса удалось понять из слов безутешной женщины.
– Стало быть, пани Ландова, – подытожил пан Бартошек, – в общем не так уж все плохо; вы посудите сами, кому придет в голову красть сосунка? Обычно младенцев подкидывают, в моей практике случалось нечто подобное. По-моему, этакая кроха ничего не стоит; в большинстве случаев ее невозможно сбыть; а вот за колясочку кое-что дадут; и перинки – там ведь были перинки? – тоже можно продать. Уж ради них можно решиться на кражу. Я полагаю, кому-то понадобились коляска и перинки. По-моему, тут замешана женщина, потому как верзила с колясочкой сразу обращает на себя внимание. А ребенка она где-нибудь да бросит, – успокаивал пан Бартошек мамашу, – ну скажите на милость, что ей с ним делать? Мне кажется, мы еще сегодня доставим вам вашу птаху, как только она найдется.
– А что, если моя Руженка проголодается? – горевала молоденькая мама, – ее уже давно пора кормить…
– Мы сами ее накормим, – пообещал комиссар, – а теперь идите-ка лучше домой.
И вызвал шпика в штатском, чтобы тот проводил несчастную женщину.
Во второй половине дня сам комиссар позвонил у дверей квартиры пани Ландовой.
– Ну вот, милая пани, – объявил он, – коляска уже нашлась. Теперь недостает лишь младенца. Пустую повозочку мы обнаружили под аркой одного дома, где в детей-то никаких нет. Правда, к дворничихе заходила одна женщина, позвольте, дескать, покормить грудного ребенка, гм-м… и сразу ушла… Черт побери, – заметил он, покачав головой, – выходит, эта особа хотела похитить именно младенца, и ничего другого. Стало быть, голубушка, коли уж так он ей понадобился, похитительница ему не повредит и не проглотит; короче говоря, горевать вам не о чем – и все тут.
– Но я хочу получить свою Руженку обратно! – в отчаянии воскликнула пани Ландова.
– В таком случае, пани, предоставьте нам фотографию или описание вашего ребенка, – объявил комиссар официальным тоном.
– Ах, какой вы, пан комиссар, – расплакалась пани Ландова, – неужели вы не знаете, что детей до года нельзя фотографировать? Говорят, это дурная примета, ребенок потом расти не будет…
– Гм, – буркнул комиссар, – тогда, по крайней мере, дайте нам его точное описание.
Описание мамаша сделала весьма пространное: такие, мол, у ее Руженки хорошенькие волосики, и носик, а глазки какие прекрасные! И весит она четыре килограмма четыреста девяносто граммов. И попка у нее такая розовая, а какие складочки на ножках!
– Какие такие складочки? – насторожился комиссар.
– Такие, что поцеловать хочется! – всхлипывала мамаша. – И такие же сладенькие пальчики! А как она улыбалась маме, если бы вы только знали!
– Но помилуйте, голубушка, – взорвался пан Бартошек, – ведь по такому описанию мы не сможем ее опознать! Нет ли у нее особых примет?
– У нее розовые ленточки на чепчике, – рыдала молодая женщина. – Девочкам всегда пришивают розовые ленточки! Ради всех святых, разыщите мне мою Руженку!
– А какие у нее зубы? – попытался еще уточнить пан Бартошек.
– Никаких, ведь ей всего три месяца! Знали бы вы, как она улыбалась своей мамочке! – Пани Ландова упала на колени: – Пан комиссар, обещайте, что вы ее отыщете!
– Будем стараться, – проворчал пан Бартошек в смущении, – прошу вас, встаньте. Ну, посудите сами, зачем ей было ее красть? Можете вы мне объяснить, какой от него прок, от этого сосунка?
Изумленная пани Ландова широко раскрыла глаза.
– Но ведь прекраснее детей нет ничего на свете! Неужели у вас, пан комиссар, совсем нет материнских чувств?
Пан Бартошек не захотел признаться в этом своем недостатке и поспешно заметил:
– На мой взгляд, такого рода кражу могла совершить только мать, лишившаяся собственного ребенка и очень желавшая его иметь. Это, видите ли, как в трактире: если кто-нибудь по ошибке надел вашу шляпу, вы, уходя домой, выберете себе чью-нибудь чужую. Ио тут я уже предпринял кое-какие шаги: приказал выяснить, где и у кого в Праге померла трехмесячная малютка, чтоб наши люди пошли туда и проверили. Но только по вашему описанию, извините, мы опознать ее не сможем.
– Но я-то ее узнаю, – всхлипнула пани Ландова.
Пан комиссар пожал плечами.
– И все-таки, – произнес он задумчиво, – голову даю на отсечение, что баба эта украла ребенка ради какой-то корысти. Кражи, дорогая моя, очень редко совершают из-за любви; обычно – из-за денег. Да не убивайтесь вы так, черт побери! Мы сделаем все, что от нас зависит.
Вернувшись в участок, пан Бартошек обратился к своим сослуживцам.
– Послушайте, нет ли у кого из вас трехмесячной козявки? Пришлите мне ее сюда!
Жена одного из полицейских принесла ему свою меньшенькую. Пан комиссар приказал развернуть ее и говорит:
– Э, да она вся мокрая! Ну что же – волосенки на голове есть, складочки – тоже… А это ведь нос, правда? И зубов тоже – ни одного… Объясните, голубушка, как же отличить одного младенца от другого?
Супруга полицейского, крепко прижала малютку к груди и гордо этак заявила:
– Да ведь это же моя Маничка! Разве вы не видите, пан комиссар, она же – вылитый папа?
Пан комиссар с сомнением покосился на полицейского Гохмана; ощетинив усы и надувая дряблые щеки, тот строил своему чаду гримасы, делал толстыми пальцами козу-дерезу и лаял собачкой: «Гаф-гаф-гаф!»
– Ну, не знаю, – буркнул комиссар, – по-моему, и нос у нее совсем не такой, разве что вырастет… Пойду-ка я в парк, посмотрю, как выглядят сосунки. Что правда, то правда, всяких там жуликов и бродяг наш брат тотчас распознает, а вот этакую мелюзгу в перинках просто неизвестно, как и разыскивать.
Примерно через час Бартошек вернулся, вконец расстроенный.
– Послушайте, Гохман, – обратился он к своему подчиненному, – ведь это же кошмар какой-то, – все дети на одно лицо! Какое уж тут описание внешности! «Разыскивается трехмесячный младенец, полу женского, с волосиками, носиком, глазками, вся попка в ямочках, весит четыре тысячи четыреста девяносто граммов». Разве этого достаточно?
– Пан комиссар, я бы об этих граммах не упоминал, – серьезно посоветовал Гохман, – ведь он, этот несмышленыш, весит то больше, то меньше, – в зависимости от того, какой у него стул.
– Господи Иисусе, – взмолился пан комиссар, – ну откуда мне все это знать? Сосунки – это ведь не по нашему ведомству! Послушайте, – внезапно с надеждой произнес он, – а что, если взять да и спихнуть это кому-нибудь, скажем, «Охране матери и ребенка»?
– Но ведь кража налицо, – возразил Гохман.
– Конечно, кража налицо, – буркнул комиссар. – Господи, украли бы часы или другую какую полезную вещь – тут я бы знал, что делать; но как разыскивают украденных детей – я понятия не имею, ей-богу!
В это мгновение отворились двери, и один из полицейских ввел плачущую пани Ландову.
– Пан комиссар, – отрапортовал он, – эта дамочка пыталась вырвать младенца из рук другой мамаши, и при том учинила безобразный скандал, чуть ли не драку. Я ее и забрал.
– Бога ради, пани Ландова, – принялся увещевать нарушительницу Бартошек, – что вы с нами делаете?!
– Но ведь это была моя Руженка! – рыдала молодая женщина.
– Никакая не Руженка! – парировал полицейский, – Фамилия этой женщины – Роубалова, живет в Будечской улице, а на руках у нее был трехмесячный мальчик.
– Вот видите, неразумная вы женщина! – вскипел пан Бартошек. – Если вы еще раз впутаетесь не в свое дело, мы перестанем им заниматься, понятно?! Погодите-ка! – вспомнил он вдруг. – А на какое имя откликается ваша дочка?
– Мы называли ее Руженка, – простонала молодая мамаша. – А еще Крошечка, Лапонька, пупсик, золотце, ангелочек, манюнечка, Кутичка, Лялечка, куколка, заинька, кисонька, голубушка, солнышко…
– И на все на это она откликается? – поразился комиссар.
– Она все-все понимает! – уверяла мамаша, заливаясь слезами. – И так смеется, когда мы показываем козу-дерезу, лаем собачкой, лопочем «ти-ти-ти», «бу-бу– бу» или щекочем…
– Нам от этого не легче, пани Ландова. К сожалению, я вынужден признаться, что у нас ничего не вышло.
В семьях, которые заявили о смерти ребенка, вашей Руженки не обнаружено; мои люди уже всех обежали.
Пани Ландова застывшим взглядом тупо смотрела перед собой.
– Пан комиссар, – выпалила она, внезапно озаряясь надеждой, – я десять тысяч дам тому, кто мне отыщет Руженку. Объявите повсюду, что награду… десять тысяч получит… кто наведет вас на след моей девочки.
– Я бы вам не советовал этого делать, милая пани, – с сомнением проговорил пан Бартошек.
– Вы бесчувственный человек! – горестно воскликнула молодая женщина. – Да за свою Руженку я готова весь свет отдать!
– Ну, вам виднее, – мрачно проворчал пан Бартошек. – Объявить я объявлю, только вы уж, бога ради, в это дело больше не вмешивайтесь!
– Тяжелый случай, – вздохнул он, едва за пани Ландовой захлопнулась дверь. – Вот посмотрите, что теперь начнется!
И в самом деле началось: на следующий день три сыскных агента принесли ему по зареванной трехмесячной девчушке каждый, а один – небезызвестный Пиштора – просунул голову в кабинет и осклабился: «Пан комиссар, а парнишка не подойдет? Парнишку я достал бы по дешевке».
– А все эта ваша дурацкая премия, – чертыхался пап Бартошек. – Еще немного – и нам придется открыть сиротский дом. Вот проклятие!
«Вот проклятие! – раздраженно ворчал он, возвращаясь в свою холостяцкую квартиру. – Хотелось бы мне знать, как теперь мы разыщем этого карапуза!»
Дома его встретила прислуга, этакая языкастая бой-баба, но сегодня она прямо так и сияла от удовольствия.
– Вы только подите посмотрите, пан комиссар, – произнесла она вместо приветствия, – на вашу Барину!
А Бариной, да будет вам известно, звали чистокровную боксершу, согрешившую с каким-то немецким волкодавом, – пан Бартошек получил ее от пана Юстица. К слову сказать, я просто диву даюсь, как эти собаки вообще признают друг друга; хоть убей, не могу понять, по каким признакам борзая определяет, что такса – тоже собака. Мы, люди, отличаемся лишь языком да верой, а готовы проглотить друг друга. Ну вот, значит, Барина эта прижила с немецким волкодавом девятерых щенят, и теперь, развалясь подле них, вертела хвостом и блаженно улыбалась.
– Вы только подумайте, – без умолку трещала служанка, – как она ими гордится, как она ими хвастает, стерва! Оно и понятно – мамаша.
Пан Бартошек задумался и спрашивает:
– Мамаша, говорите? И что же, все матери так себя ведут?
– Еще бы! – громко удивилась служанка. – Попробуйте похвалите при какой-никакой маме ее ребенка!
– Любопытно! – буркнул пан Бартошек. – Погодите, я попробую.
Дня через два все мамаши Большой Праги были прямо вне себя от восторга. Стоило им выйти на улицу с колясочкой или с младенцем на руках, как возле них появлялся полицейский в полном параде, либо этакий, знаете ли, обходительный господин в черном котелке; он улыбался их восхитительной деточке и щекотал ее под подбородочком.
– Какое замечательное дитё! – восхищался он. – Сколько же ему?
Словом, для всех мамаш это был самый настоящий радостный праздник.
И уже в одиннадцать утра один из агентов привел к комиссару Бартошеку бледную, дрожащую женщину.
– Это она, пан комиссар, – доложил он Бартошеку, – я встретил ее, когда она прогуливалась с колясочкой, но стоило мне произнести: «Ай-яй-яй, какое у вас замечательное дитё, сколько же ему?» – эта женщина зло стрельнула на меня взглядом и задернула занавесочки. Ну вот я и предложил ей, пойдем, дескать, со мной, только без шума!
– Бегите за пани Ландовой, – приказал комиссар. – А вы, мамзель, объясните, Христа ради, на кой ляд вам понадобился краденый ребенок?
Мамзель недолго отпиралась, ибо тут же запуталась. Это была незамужняя девица, и от какого-то господина родила она девочку. Последние два дня девочка что-то недомогала, у нее болел животик, две ночи подряд она кричала. На третью ночь мать взяла ее к себе, дала грудь да и уснула; а когда проснулась, ребенок уже лежал мертвый. Право, не знаю, возможно ли это, – заметил пан Кратохвил с некоторым сомнением.
– Почему же нет, – вмешался в разговор доктор Витасек. – Во-первых, мать два дня почти не спала; во-вторых, ребенок, скорее всего, перенес катар и несколько дней не брал грудь. От этого грудь была слишком тяжелой; мать задремала и придавила девочку, вот она и задохнулась. Разумеется, так вполне могло получиться. Ну а дальше что?
– Ну, значит, так оно и было, – продолжал прерванный рассказ пан Кратохвил. – Когда эта женщина увидела, что ребенок мертв, она пошла об этом заявить в церковь, да по дороге увидела колясочку пани Ландовой я передумала: ей пришло в голову, что и за чужое дите этот господин будет платить ей алименты, как и прежде. А еще, говорят, – добавил пан Кратохвил, смутившись, и густо покраснел, – у нее страшно болела грудь от избытка молока.
Пан Витасек кивнул, подтверждая.
– Это тоже верно.
– Знаете ли, – оправдывался пан Кратохвил, – я в таких делах не разбираюсь. Так вот, украла она колясочку пани Ландовой, бросила ее в подъезде чужого дома, а Руженку отнесла к себе вместо своей Зденочки. По-видимому, странная это была женщина, с заскоком: свою мертвую дочку она положила в холодильник, ночью, дескать, отнесу и закопаю где-нибудь, – но духу у нее на это не достало.
Между тем явилась пани Ландова.
– Ну мамаша, – говорит ей пан Бартошек, – получайте свою манюнечку.
У пани Ландовой из глаз брызнули слезы.
– Да это же не Руженка! – разрыдалась она. – На Руженке был другой чепчик!
– Черт побери! – взревел комиссар. – Да распакуйте же вы ее!
И когда младенца развязали, положив на письменный стол, пан Бартошек поднял его за ножки и обронил:
– А теперь полюбуйтесь, какие у нее на попочке ямочки!
Но пани Ландова уже упала на колени и облизывала малышку с головы до пят.
– Ах ты, моя Руженочка, – плача, восклицала она, – ах ты, моя птичка, манюнечка, крошечка, мамина доченька, золотце ты мое…
– Пожалуйста, пани Ландова, – попросил ее недовольный этой сценой пан Бартошек, – перестаньте сейчас же, либо я, ей-ей, сам оженюсь. А обещанные десять тысяч отдайте в фонд помощи одиноким матерям, договорились?
– Пан комиссар, – восторженно обратилась к нему пани Ландова. – Подержите немножко Руженку и благословите ее!
– А без этого – нельзя? – ворчал пан Бартошек. – Да как их берут-то? Ах, так. Но смотрите, она вот-вот расплачется. Нате-ка, забирайте ее поскорее!
Тем и закончился случай с младенцем.








