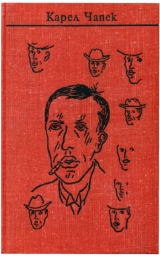
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 1. Рассказы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 48 страниц)
Карел Чапек. Собрание сочинений
Том первый
Рассказы[1]1
В первый том Собрания сочинений Карела Чапека включены его произведения новеллистического жанра. Чапек на протяжении всего своего творческого пути оставался верным новеллистике, в ней он впервые достиг зрелости как писатель.
[Закрыть]
Вступительная статья Б. Сучкова
Карел Чапек
(1890―1938)
Карела Чапека по праву можно назвать одним из самых глубоких умов среди крупнейших писателей двадцатого века. Как художник, он был наделен даром улавливать и предощущать сложнейшие исторические конфликты, сокрытые в потаенных недрах бытия и, подобно залежам руд, обнаруживающие на поверхности лишь собственные выносы.
Внешняя простота его произведений обманчива. Рассказывая о своем пути к художественному творчеству, Чапек любил вспоминать, как много для него – сына провинциального врача, потомка мельника и крестьян – значило и давало наблюдение за работой ремесленников, людей разнообразного труда – кузнецов, красильщиков, ткачей, пекарей, портных, каменотесов, которых он называл великими за их прилежность и искусность. Он и свою писательскую профессию именовал высоко и гордо – ремеслом, уподобляя себя умелым мастеровым – сынам любимого им трудового люда. Но, восхищаясь ими, он никогда не говорил, что дело, которое они делают, – есть легкое дело. Разве обычный кусок древесины не груб и не уродлив? Но если над ним поработают искусные руки краснодеревщика, он раскроет неожиданную красоту и богатство своих узоров и оттенков, которые дадут возможность ощутить неиссякаемую и вечную мощь сотворившей их жизни.
Так и сквозь прозу Чапека – стилистически ясную, свободную от нарочитой отвлеченности, пренебрегающую игрой пустыми формами, сочную, пропитанную запахами и звуками родной земли, шумом ее лесов, многократным эхом ее гор, разноголосым говором городских толп – проступает многосложность жизни, с ее загадочными глубинами, случайностями, неисчерпаемыми возможностями, радостями, веселостью, драматизмом и трагичностью. Проза Чапека насквозь земная, но не приземленная. Она полна раздумий и фантазии, она философична в хорошем смысле этого слова, ибо главным вопросом, который неотступно тревожил и терзал Чапека всю его недолгую жизнь, был вопрос о взаимоотношениях человека с миром, который тот творит собственными руками, насыщая его техникой, научными знаниями, верными и ложными идеями.
Чапеку, очень скромному человеку, органически была чужда поза всеведущего учителя жизни. Но из его произведений не уходила мысль о том, что же станется с миром, если разум, гуманность, чувство ответственности за судьбу всего рода человеческого не возобладают над неразумием, своекорыстием, мифами национализма, жестокостью, социальным злом, копящимися в современной цивилизации и способными обречь ее на невиданные катаклизмы.
Узловые конфликты, исследовавшиеся и затрагивавшиеся Чапеком в его произведениях, еще не разрешены современной историей, и потому его творчество и поныне сохраняет свою жизненность. Оно привлекательно не только содержательностью, но и непередаваемым своеобразием – слитностью серьезности, трезвости и глубины художественной мысли с человечным, доброжелательным юмором. Но там, где нужно было защитить великие гуманистические ценности жизни и культуры, Чапек становился воинствующим и бескомпромиссным сатириком.
Чапек был очень разносторонним художником. Прозаик и драматург, фельетонист и критик, он писал жгучие социальные романы и безмятежно-идиллические книги, как «Год садовода», юморески и сатирические притчи, рассказы – психологические и полудетективные, а также сказки, рецензии и путевые очерки, проникнутые чувством уважения к культуре тех стран, где он побывал.
Лучшие из этих очерков, например «Письма из Италии», напоминают оригинальностью эстетических суждений, взвешенностью раздумий над природой и особенностями искусства стендалевские «Прогулки по Риму и Флоренции» с их почти физически наглядной передачей впечатлений от созданий живописи и архитектуры. При мягкости тона, его «Письма из Англии» драматизмом размышлений над тягостными последствиями сверхурбанизации жизни и подавления человека обездушенной техникой, схожи с «Зимними записками о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского. Разумеется, жесткая саркастичность великого русского писателя далека от юмора Чапека, но характерно, что, подобно Достоевскому, в «Хрустальном дворце» – стеклянном здании, выстроенном на лондонской Всемирной промышленной выставке, провидевшему прообраз бесчеловечности капиталистической цивилизации, Чапека ввергло в крайнюю тревогу все увиденное им во Дворце механики в Уэмбли – центральном павильоне Британской имперской выставки. «Машины великолепны, безукоризненны, но жизнь, которая им служит или которой служат они, вовсе не великолепна, не блестяща, она не самая совершенная и не самая красивая…» – писал Чапек, и, завершая свое изображение владычества техники, пришел к выводу, имеющему принципиальное значение: «Это совершенство материи, из которого не вытекает совершенство человека, эти блестящие орудия тяжелой и неискупленной жизни приводят меня в смятение…» Что же, однако, противостоит этой, неудержимо накатывающейся на мир стихии техники? С угрюмой горечью Чапек противополагает сверкающей никелем, сталью, безликой, чреватой опасностью мощи нечто откровенно слабое и незащищенное – оборванного нищего, продававшего на улице спички. «Он был слеп и изъеден чесоткой; это был плохой и сильно поврежденный механизм: это был всего лишь человек».
Образ этот не случаен в системе воззрений Чапека. Он многозначен и символичен, как многозначна и громадная смятенность, владевшая умом и душой писателя, свойственная всем его значительным произведениям. Без этой тревоги и смятенности они лишились бы своего внутреннего общественно-этического пафоса и смысла.
Тревога, обуревавшая Чапека, была не напрасной или пустой. Ее порождали отнюдь не руссоистские настроения, чуждые Чапеку при всей его любви к природе, ко всему живому, дышащему, растущему и прежде всего к самой жизни. Тревожность и беспокойство раздумий над истоками расхождения нравственного и научно-технического прогресса, подтверждая художническую чуткость Чапека, предопределили внутренний драматизм его произведений.
В отличие от выдающихся революционных писателей своей страны – М. Майеровой, И. Ольбрахта, Я. Гашека, М. Пуймановой, он не изображал социальные противоречия чехословацкой жизни в их открытой обнаженности, но он и не игнорировал исторические причины, их вызывающие. Он обращался к другому виду общественных конфликтов, нежели эти художники.
Чапек выдвинул на первый план и исследовал процесс резкого расхождения и несовпадения морально-духовного и научно-технического прогресса в собственническом обществе и задумался над теми трагическими последствиями, которые вызывает неуправляемое, хаотичное, опирающееся на своекорыстные экономические и националистические интересы, бурное, даже революционное развитие науки и техники, в том числе и в первую очередь средств массового уничтожения и разрушения. И до Чапека искусство и литература вводили в сферу своего внимания и анализа науку, технический прогресс, их завоевания, но относились к ним как к двигателям общественного развития. Но Чапек ощутил катастрофичность столкновения научно-технического прогресса с моральным состоянием общества. Столкновение это он считал следствием несовершенства самого общества, создающего науку и технику и порождающего социальные катаклизмы, определившие облик двадцатого века. Коллизия эта долго была для Чапека основополагающей, что придавало весьма своеобразный колорит его произведениям и во многом определяло ход его художественной мысли.
Сливая воедино социальные антагонизмы современности и крутые конфликты начинавшейся научно-технической революции, Чапек как художник нередко прибегал к методу прогностики. Но поле, на котором он воздвигал свои апокалиптические видения будущего, не охватывало все существующие возможности и реальности исторического развития. Объяснялось это не столько тем, что его могучая фантазия терялась перед сложностями бытия человеческого, сколько особенностями его мировосприятия и духовного опыта.
Несмотря на то, что Чапек провидел и разрабатывал конфликты, имеющие долговременный и исторически новый характер, он всеми своими корнями, образом мышления и чувствования был органически связан и со своей землей, и со своим временем. Его огромное дарование несло на себе неизгладимый отпечаток эпохи, в которую шло его творческое созревание и развитие. Достаточно перелистать его «Картинки родины» с их густотой красок, пластичностью описания чешских и словацких деревень и городков; чудесных творений зодчества, уцелевших в бурных превратностях отечественной истории; крепких, украшенных резьбой, традиционных в своем однообразии словацких изб; сельских трактиров и пражских трущоб, – чтобы ощутить прочность уз, соединявших духовный мир Чапека с историей и миром его отчизны.
В предисловии к английскому изданию «Старинных чешских преданий» Алоиса Ирасека он сам говорил, какое громадное значение для нравственного воспитания народа и самосознания личности имеют прогрессивные народные традиции, особенно традиции национально-освободительной борьбы, пафосом которой были проникнуты сказания Ирасека. Но любовь и уважение к традициям не воспрепятствовали Чапеку выработать критическое отношение к современному ему обществу, реальности которого были весьма далеки от тех мечтаний, которые издавна вынашивал в своем сердце народ. Социальное здание, которое при жизни Чапека было воздвигнуто на фундаменте национально-освободительной борьбы чехов и словаков против австро-германского владычества, было весьма несовершенно.
«Картинки родины» одновременно с блистательным описанием Праги, ее неповторимой красоты – воплощения народного гения – содержат изображение бедных кварталов, где в подвалах, убогих комнатенках ютилась нищета, изголодавшиеся, обовшивевшие дети, люди, потерявшие человеческий образ и подобие, отупевшие, безразличные к жизни, что шумела и громыхала за стенами их жалких жилищ, люди, до которых чехословацкой буржуазии, громогласно провозглашавшей свое наигранное народолюбие, не было никакого дела.
Изображение человеческого унижения исполнено у Чапека не только сострадания и мучительности. Для него очевиден страшный раскол, глубочайшая трещина, разделившая надвое – на тех, кто беден, и тех, кто имеет все, – современное ему общество, единство которого официально утверждали апологеты чехословацкой буржуазной демократии.
Со страстной убежденностью и до конца дней своих Чапек считал: первое и главное в мире, на что обязано ответить и откликнуться общество – это вопль нужды и страдания людские, от которых общество обязано избавить людей. Но откуда им, раздавленным безнадежной и бесконечной бедностью, их детям, вырастающим как попало в трущобах, среди пороков, невежества, почерпнуть силы сопротивляемости, чувство человеческого достоинства, надежду на будущее – без чего не может нормально действовать и развиваться общественный организм? В чем найти человеку опору, чтобы его общественное существование освободилось от роковых аномалий? Вот главенствующие вопросы, которые неостановимо преследовали Чапека на протяжении всей его творческой деятельности как человека и художника, предопределяя гуманистический пафос его произведений.
Чапек одновременно ощущал и красоту и боль своей родины. Он сознавал, что социальный уклад межвоенной, версальской Европы – зыбок, чреват взрывами, неустойчивостью, опасными вспышками агрессивности, остервенелого шовинизма, жестокости. Он чувствовал, что наступила переходная эпоха, несущая, несмотря на периоды временной стабилизации и относительного экономического благополучия, – кризисы, потрясшие самые основы капиталистической цивилизации.
Для него не было также тайной, что в раздираемой множественными социальными и националистическими интересами Европе разнохарактерные амбиции и претензии облекались их поборниками и носителями в форму «непреходящих» морально-этических, политических, национальных, философских ценностей, что вело к возникновению множественности, раздробленности находящихся в обращении разнохарактерных принципов, идей, декларируемых истин, претендующих на всеобщую значимость, а на деле оправдывающих или обосновывающих весьма своекорыстные, узкие цели и интересы.
Механизм формирования подобных «истин» Чапек раскрывал в своих «Побасенках» – собрании сатирических афоризмов и сентенций, которые он влагал в уста различных обобщенных басенных или извлеченных из живой политической жизни персонажей – дипломатов, демагогов, милитаристов, империалистов, диктаторов. Он обнажал в «Побасенках» демагогическую логику и способы сокрытия истинных намерений и взглядов под высокопарной, претендующей на неотразимую достоверность и правдивость, но внутренне насквозь фальшивой фразой или суждением. «Побасенки» были не только остроумны, но и беспощадно критичны и отражали его последовательное неприятие социальной демагогии. В годы, когда мир начинала захлестывать ядовитая, беспардонная, человеконенавистническая ложь, распространяемая «хромым бесом» Геббельсом и различного сорта разносчиками фашистских идеек, в том числе и доморощенными чехословацкими национал-фашистами вроде бывшего колчаковского «генерала», одного из руководителей контрреволюционного мятежа чехословацких легионеров в Советской России – Гайды, или Стршибрного, или Глинки и их присных; когда лидеры буржуазных демократий, в том числе и чехословацкие социал-реформисты, елейно провозглашая себя поборниками прав человека, защитниками свобод и законности, втихомолку вступали в сделку с рвавшимися к власти немецкими национал-социалистами, подталкивали их на агрессию и сознательно закрывали глаза на истребление ими подлинных борцов за свободу, – Чапек написал, в форме предисловия к одной книге о журналистике, памфлет на то, что он называл «фразой». Это понятие он определял не как устойчивое словосочетание – явление повседневного разговорного языка, который, разумеется, часто оперирует отстоявшимися блоками понятий, а как устойчивую ложь, укоренившуюся и автоматическую неискренность, цель которой – фальсифицировать все духовные ценности, изуродовать и извратить человеческое мышление. Ненавидя социальную демагогию, Чапек безоговорочно занимал последовательно антифашистскую позицию.
Естественно, что у писателя возникало критическое отношение к миру, которое он называл скептицизмом. Однако его скептицизм никогда не вырождался в нигилистическое всеотрицание: от этого Чапека уберегало органическое жизнелюбие, жажда приобщения к весомым, исторически значимым ценностям – прочным и неподдельным.
Критицизм и понуждал Чапека внимательно вглядываться в жизнь, отделять истины мнимые от подлинных, исследовать мир людей, без чего художник, по его мнению, вообще не может творить. Искусство Чапек всегда считал особой формой познания реальности, поэтому критицизм не стал для него средством расчленения или раздробления связной картины мира, но был орудием постижения его цельности, совокупности человеческих отношений и действий, называемых историей. Правда, это орудие не всегда служило Чапеку безотказно и верно.
Скептический критицизм возникал в его творчестве не под влиянием модных и влиятельных в пору жизни писателя философских и социологических теорий, с которыми он хорошо был знаком, получив образование на философском факультете пражского Карлова университета, куда он поступил в 1907 году.
Сама жизнь, передуманное, перечувствованное и увиденное Чапеком в годы юности и зрелости, духовный опыт, почерпнутый из громадных исторических потрясений нашего века, свидетелем и участником которых он был, – вот что стало питательной почвой его критицизма, этой неотъемлемой и характерной черты его творческого облика.
Чапек уже в ранней юности столкнулся с обветшавшими общественными порядками усталой и дряхлеющей Австро-Венгерской монархии, продолжавшей, однако, угнетать подвластные ей славянские народы и тормозить их культурное развитие. Его оппозиционность существующему порядку проявилась и в том, что еще в гимназические годы Чапек участвовал в подпольном кружке, вдохновлявшемся идеями национально-освободительного протеста и борьбы. Эпизод этот был для него неслучаен, хотя Чапек не стал революционным борцом: он не обладал ни склонностями, ни способностями к активной политической деятельности. Но и в своих ранних литературных произведениях, которые были написаны им совместно со старшим братом Йозефом, впоследствии крупным живописцем и деятелем художественной жизни в Чехословакии, Чапек тоже отгораживался от господствующей в искусстве Австро-Венгрии атмосферы, окрашенной настроениями декаданса, глубокой меланхолии и пессимизма.
Написанные братьями Чапеками в 1908–1912 годах сборники небольших рассказов, этюдов, лирических зарисовок, сентенций, стилизованных новелл «Сад Краконоша», опубликованный в 1918 году, и «Сияющие глубины», напечатанный в 1916 году, выдержаны в совершенно иной тональности. Исполненные юмора, даже озорства, жизнерадостности, они насмешничали над крайностями тогдашней литературной моды и мелкотравчатым чешским натурализмом. Размытости австрийского символизма, распространенной в литературе начала века эстетской рафинированности они противопоставили оружие пародии, особенно в стилизованных под ренессансную новеллистику рассказах из сборника «Сияющие глубины», писавшихся несколько позже миниатюр, составлявших сборник «Сад Краконоша».
Уже в этих талантливых, но еще незрелых художественных опытах братьев Чапеков давало себя знать их стремление вырваться за пределы регионального провинциализма, чего не чужда была тогдашняя пражская литературно-художественная среда, и шире включить в свои творческие интересы и поиски завоевания европейского искусства и литературы. Для ознакомления с ними братья Чапеки двинулись в Париж, где вели жизнь достаточно скромную, лишенную богемного оттенка, полную общения с великими эстетическими ценностями прошлого, которые раскрывали им парижские музеи, и со всеми злободневными новинками, щедро поставлявшимися современным искусством и литературой.
Годы, предшествующие первой мировой войне, стали для Чапека порой самоопределения в художественных и философских течениях того времени, периодом нахождения собственного места в искусстве и выработки собственной художественной манеры. Он был человеком широко образованным, владевшим серьезными знаниями не только в области философии – его прямой специальности, но и в истории европейской живописи и литературы. Самый пристальный интерес вызывали у него естественные науки, переживавшие революцию, где одно великое открытие следовало за другим, разрушая старую механически-детерминистскую картину мира и заменяя ее новой, основывавшейся на эйнштейновской теории относительности, на новом подходе к структуре материи и атома Резерфорда, Бора и других создателей современной физики, на достижениях радиотехники, биологии, генетики. Чапек жадно впитывал в себя новые идеи, рождавшиеся в естествознании, понимая, что они окажут непредвиденное и весьма значительное воздействие на человеческое существование. Что касается новинок тогдашней европейской прозы и поэзии, то они проглатывались Чапеком незамедлительно, и он до конца жизни неустанно следил за движением мировой художественной мысли. Его переводы французских поэтов от Аполлинера до участников модной тогда группы «Аббатство» стали событием в литературной жизни Чехословакии, открыв непривычный ей вид художественной изобразительности. Но в свою антологию переводов Чапек не включил стихи дадаистов и сюрреалистов. Сделал он это вполне обдуманно.
Несомненно, его творчестве не осталось нейтральным к воздействию крутых перемен, совершавшихся в первые десятилетия нашего века в мировом искусстве порой под знаменем «эстетической революции». Многие сторонники постсимволизма, футуризма, экспрессионизма, зарождавшегося сюрреализма стремились отождествить ее с революцией социальной. Однако те крупные писатели, которые смыкались с авангардистскими направлениями и действительно были настроены оппозиционно, впоследствии, преодолев стихийное бунтарство, отбросили эстетические нормы и догмы нереалистической эстетики и стали ведущими революционными художниками двадцатого века. Но им пришлось отъединить друг от друга несовпадающие понятия и явления – чистый эксперимент в области художественной формы и подлинную революционную борьбу, наполнявшую новым содержанием искусство, обновлявшую его изобразительный язык, менявшую его общественную функцию и ориентированность. Чапек весьма ядовито отозвался о претензиях авангардистов на то, что они, ломая художественную форму и разрушая правила грамматики, тем самым творят мировую революцию, трезво заметив, что пролетариат, вне всякого сомнения, предпочитает, чтобы точки и запятые, которые истреблялись в сочинениях авангардистов, все же стояли на положенных им местах…
Все сторонники зарождавшихся нереалистических художественных течений согласно третировали реализм, объявляли его безнадежно устарелым творческим методом, непреодоленным наследием девятнадцатого века и вообще искусством консервативным. Однако в ту пору реализм не только не утрачивал своей ведущей роли в искусстве, но обретал второе дыхание, расширял свои потенции, эстетически осваивая новую действительность, вошедшую в мир с новым веком. Чапек своим творчеством активно участвовал в обновлении реалистической изобразительности, противостоявшей искусству, субъективизировавшему и мистифицировавшему действительность, рассматривавшему произведение искусства как чистое выражение внутренних состояний личности, якобы ничем не связанной и никак не зависящей от мира объективного.
Весьма критично относился Чапек также к различным философским теориям, стремившимся дискредитировать самое понятие реальности, объявить разум недостоверным орудием постижения действительности, противопоставляя ему интуицию и пытаясь объяснить социальное поведение человека влиянием инстинктов, скрытых в его подсознании. Чапеку никогда не импонировала фрейдистская философия истории и культуры. Для него представление об инстинкте как силе, руководствующей человеческими поступками и мышлением, было претенциозным и неистинным. Высмеивая в одной из заметок из книги «Критика слов» теорию интуитивности художественного творчества, он писал, что «существуют теоретики искусства и критики, которые непоколебимо верят, что художник действительно руководствуется в творчестве чутьем, инстинктом, как жук-наездник, кладущий яичко прямо в глупую гусеницу, или как ласточка, которую инстинкт приводит точнехонько в Италию», и опровергал эти взгляды в свойственной ему манере юмористического снижения понятий. Разум был для него всегда и неизменно водителем в поисках истины и светоносной силой, делающей человека человеком.
Доподлинная жизнь в богатстве ее возможностей, неожиданностей, противоречий, мир объективный, вещный – поле, которое возделывает человек своим трудом, дерзанием, где он, ища и заблуждаясь, борясь и страдая, любя и ненавидя, единоборствуя с природой, создает культуру и цивилизацию, – вот что приковало к себе Чапека-художника и предопределило его непрямое, но неуклонное движение к критическому реализму. Внутренняя ориентированность Чапека на художественное исследование истинной сложности жизни обусловила и его отношение к эстетическим и философским течениям своего времени. Воспаленный субъективизм в искусстве вызывал у него иронию, а в философии он искал теорию, которая помогла бы ему овладеть текучим материалом жизни.
В молодости его привлек прагматизм, который он воспринял как систему, способную соединить мысль и чувства человека с реальностью. В 1918 году Чапек опубликовал работу, озаглавленную весьма знаменательно: «Прагматизм, или Философия практической жизни». Стремление понять практическую жизнь и предопределило характер толкования Чапеком общих посылок этой философской системы. Он акцентировал не субъективистски-идеалистическую и утилитаристскую сторону этой теории, но сосредоточивался на понятии опыта как источнике постижения множественных потенций жизни и развития. Интерес к прагматизму был существенным, но все же моментом в его духовной и творческой эволюции и не определил ни своеобразия, ни содержания художественной мысли Чапека.
Художник всегда принципиально иначе, чем философ, оперирует материалом действительности, который предстает перед ним в полнокровно-чувственном бытии, а не как совокупность отвлеченных категорий и понятий, извлекаемых из него и постулируемых философом. Но самый факт изучения Чапеком прагматизма дал повод многим критикам рассматривать его произведения как своего рода художественные иллюстрации к прагматистской теории познания, утверждавшей релятивность истины. На деле для Чапека высшей инстанцией и высшим носителем истины были не рационалистические философские умозрения, а самое жизнь. Поэтому для его произведений типичен конфликт – порой комический, порой трагический – между утилитаристским, схематизирующим восприятием жизни и ее подлинным содержанием. Штудии в области прагматизма обострили его интерес к исследованию последствий человеческих решений и поступков, а также побудили пристальнее вглядеться в то, что он сам определил как практическую жизнь.
Ее художественный анализ, содержавшийся в ранних произведениях Чапека, показал ему, что жизнь – чрезвычайно сложный и труднообъяснимый феномен. В ней есть тайны, загадки, она обладает свободой внутреннего развития, в ней скрыта случайность, неожиданная способность к изменчивости. То, что Чапек назвал в одной статье «стихийной энергией жизни», неостановимо влечет человека, его культуру и цивилизацию вперед, в не очень ясные для внутреннего взора писателя дали будущего. Движение это, по мнению писателя, имело катастрофический характер.
Умонастроения подобного рода просвечивали уже в сборнике «Сияющие глубины» и отчетливее заявили о себе в первой самостоятельной книге рассказов Чапека – «Распятие» (1916), писавшихся в разгар мировой войны.
Социальные воззрения Чапека имели общедемократический характер и отличались сравнительным постоянством. Круто меняться они стали лишь в начале тридцатых годов, когда грозную реальность обретала фашистская угроза и борьба с ней захватила все его существо. Однако длительное время Чапек не видел иных альтернатив буржуазной демократии и рассматривал ее противоречия и несовершенства как родовые черты всей человеческой цивилизации, а конфликты считал практически неразрешимыми внутри существующей общественной системы. Поэтому столь силен привкус горечи в его пронизанных иронией и юмором произведениях.
Тревожностью и сумеречностью художественной атмосферы веяло и от сборника «Распятие». Жизнь воспринималась и изображалась Чапеком как нечто хаотичное, внутренне драматичное. При бесспорной занимательности и остроте, произведениям, вошедшим в сборник, присуща недосказанность, алогичность, опосредствованно отражавшая алогичность общественных порядков разрушающейся и гибнущей Австро-Венгерской монархии.
По состоянию здоровья Чапек не попал на фронт. Крушение бюрократически-иерархической государственности, вырождение милитаристски-шовинистических догм, лозунгов, верований, требовавших унифицированности человеческих взглядов и мнений, подчинения человека ложным надличностным требованиям обанкротившегося строя, писатель наблюдал изнутри распадающейся монархии.
Разразившуюся мировую войну Чапек воспринял как неслыханную катастрофу, навсегда сдвинувшую ось общественного развития и открывшую полосу труднопредсказуемого по своим последствиям периода в жизни человечества, когда рычаги социального и научно-технического прогресса стали ускользать из его рук, обретая опасную автономию. Чапек ненавидел и не принимал порядки Австро-Венгрии, угнетавшей подчиненные ей чешские земли. Но критицизм «Распятия» имел еще эмоциональный характер, он еще искал собственную цель и границы. В рассказах билось неприятие обезличивающего человека стандартизированного, банального образа мысли, предощущение какого-то чуда, возможности вырваться из плена обыденности, рутины, жажда человеческого общения, милосердия. Сюжеты рассказов заключали в себе некую неразрешенную тайну – неведомо откуда взявшийся след, случайное появление странного незнакомца, непонятное и необычайное убийство… Конфликт их строился на столкновении свободного волеизъявления человека и унифицирующего все человеческое общепринятого образа поведения и действия. Девушка бежит из мещанской среды, ища личной свободы, но ей не хватает воли отстоять свою независимость, и она возвращается в круг обыденности («Лида»). Полицейский комиссар, участвующий в погоне за странным убийцей («Гора»), говорит своему спутнику по погоне, что людьми правят при посредстве организации, руководят при помощи социально-отработанной техники управления, превращающей человека в механизм. Единственное, что остается человеку, – это ждать неизбежной перемены, любой, какой угодно, лишь бы освободиться от мертвенной власти существующих порядков («Зал ожидания»). При достоверности художественных деталей рассказы Чапека были выдержаны не в реалистической, а экспрессионистской манере.
Ориентированное на исследование практической жизни и заинтересованное в нем, творчество Чапека не сразу обрело подлинную реалистичность. Воздействие на его ранние произведения художественных приемов и общественных настроений экспрессионизма довольно ощутимо. Сказалось оно и в «Распятии», отразив душевную смуту и растерянность, которые владели Чапеком в годы войны. Стремление к метафорическому преображению мира средствами искусства, тоска по состраданию к человеку при полном отсутствии представлений о путях и способах избавления его от страдании, заостренная, абстрагирующая обобщенность сюжетов произведений и характеров персонажей, этическое толкование социальных конфликтов соединяло поэтику Чапека с левым экспрессионизмом. Внутренняя борьба реалистических и экспрессионистских тенденций определила некоторые художественные особенности и первой его самостоятельной пьесы «Разбойник» (1920), и написанных совместно с братом Йозефом пьес-притч «Из жизни насекомых» (1921) и «Адам-творец» (1927).
Некоторая затрудненность становления реализма в его творчестве объяснялась в первую очередь мировоззренческими причинами. Прогресс обретал в глазах Чапека чудовищные формы: резиновая маска противогаза; желтый туман и смертоносная роса иприта; изрыгающие огонь и смерть, подобные железным ящерам танки; ночной, несущий гибель и разрушение полет аэроплана в мертвенно-синем свете прожекторов под глухой бой зениток, – вот чем оборачивались завоевания науки и техники и что питало пессимистические настроения Чапека. Но события истории рождали в нем и надежду, укрепляли не покидавшую его веру в стихийную энергию жизни – эту матерь всяческого обновления.









