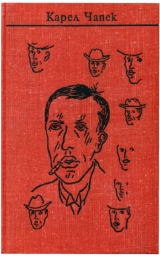
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 1. Рассказы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 48 страниц)
Коллекция марок
© Перевод А. Косорукова
– Да, это, конечно, святая правда, – сказал старый пан Карас. – Как покопаешься в своем прошлом, так и поймешь, что в нем достаточно материала для совсем других жизней. Однажды… по ошибке или по склонности… ты выбираешь одну из них и ведешь ее до конца; но хуже всего, что те, другие, те возможные жизни не совсем отошли в небытие. И порой случается, что ты ощущаешь в них боль, как в отнятой ноге.
Когда мне было лет десять, я начал коллекционировать марки; папе это не нравилось, он думал, что я из-за этого буду плохо учиться; но у меня был товарищ Лойзик Чепелка, с которым мы и предавались филателистической страсти. Лойзик был сыном шарманщика, такой взъерошенный, как воробей, вихрастый и веснушчатый мальчишка, и я любил его, как только дети умеют любить товарища. Знаете, я старый человек, у меня были жена и дети, и я скажу вам – никакое чувство не бывает столь прекрасным, как дружба. Но на это человек способен лишь в молодости; позже он как-то черствеет и думает больше о себе. Такая дружба рождается от чистейшего восторга и восхищения, от избытка жизненных сил, богатства и безмерности чувства; в тебе его столько, что ты должен кому-нибудь его подарить. Мой отец был нотариус, глава местной знати, весьма почтенный и строгий господин; а я всем сердцем привязался к Лойзику, чей отец был пьяным шарманщиком, а мать – забитой прачкой, и этого Лойзу я почитал как святого, преклонялся перед ним за то, что он более ловок, чем я, что он удачливый, самостоятельный и выносливый, что нос у него в веснушках и что он мог бросать камни левой рукой, – в общем, не помню, как много всего я в нем любил; бесспорно, это была самая большая любовь моей жизни.
Так вот этот Лойзик стал хранителем моей тайны, когда я начал собирать марки. Здесь кто-то сказал, что только мужчины понимают, что такое коллекционирование, и это верно; я думаю, в нас живет некий атавизм или инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда мужчина коллекционировал головы врагов, захваченное оружие, медвежьи шкуры, оленьи рога и вообще все, что становилось его добычей. Но коллекция марок – это не просто собственность, это – вечное приключение; ты как бы с трепетом прикасаешься к краешку далекой страны, скажем, Бутана, Боливии или мыса Доброй Надежды; просто у тебя с этими чужедальними землями возникает что– то вроде личной, интимной связи. В общем, есть в коллекционировании марок некий мотив путешествий и мореплавания, короче, этакой всеобщей мужской тяги к приключениям. Это все равно как некогда с крестовыми походами…
Как я уже говорил, моему отцу это не нравилось; отцы обычно не любят, когда их сыновья заняты не тем, чем они сами; я, господа, так же относился к моим сыновьям. Отцовство – вообще некое смешанное чувство; есть в нем великая любовь, но и какая-то предвзятость, недоверие, враждебность – не знаю, как это выразить; чем больше любишь своих детей, тем сильнее это другое чувство. Короче, мне с моей марочной коллекцией приходилось прятаться на чердаке, чтобы отец ни о чем не догадался; на чердаке стоял старый ларь из-под муки, и мы залезали в него, как два мышонка, и показывали друг другу марки: смотри, вот это Нидерланды, это Египет, а тут Swerige, то есть Швеция. И в том, что нам приходилось прятать наши сокровища, было нечто до греховности прекрасное. А добывать эти марки было еще одним приключением; я ходил по знакомым и незнакомым семьям и клянчил марки со старых писем. В некоторых домах, где-нибудь на чердаке или в секретере, хранились полные ящики старых документов; самые блаженные часы я проводил, сидя на полу и перебирая пропыленные кипы бумаг в поисках экземпляра, какого у меня еще не было, – видите ли, по глупости, я не собирал дубликатов; и если мне попадалась старая Ломбардия или какое-нибудь из немецких маленьких княжеств или вольных городов – я испытывал прямо мучительную радость, – ведь всякое безмерное счастье причиняет сладкую боль. А Лойзик поджидал меня на улице, и когда я наконец выходил, то еще с порога шептал ему: «Лойза, Лойзик, там был один Ганновер!» – «Взял?» – «Ага!» И мы мчались с добычей домой, к тайнику.
В нашем городе были текстильные фабрики, выпускавшие низкие сорта джутовых, бязевых, ситцевых тканей и прочую хлопчатобумажную ерунду, все это производилось для цветных племен всего земного шара. И мне разрешили приходить на фабрики и искать марки в корзинах для бумаг; здесь были мои самые богатые охотничьи угодья: тут я находил Сиам и Южную Африку, Китай, Либерию, Афганистан, Борнео, Бразилию, Новую Зеландию, Индию, Конго, – не знаю, звучат ли еще для вас эти названия как нечто таинственное и желанное. Господи, какая радость, какая невероятная радость найти марку хотя бы из Straits Settlements[203]203
Straits Settlmets – Стрейтс-Сетлметс (англ.; поселения у проливов), до 1946 г. английская колония в юго-восточной Азии.
[Закрыть]. Или – Корея, Непал! Новая Гвинея! Сьерра-Леоне![204]204
Сьерра-Леоне – бывшая британская колония в западной Африке, ныне республика, входящая в состав Британского содружества наций.
[Закрыть] Мадагаскар! Послушайте, такой восторг может понять только охотник, искатель кладов или археолог среди своих раскопок. Искать и найти – вот величайшее напряжение и удовлетворение, какое только может дать человеку жизнь. Каждому человеку следовало бы что-нибудь искать; если не марки, то – истину или волшебный цвет папоротника, а то хотя бы каменные наконечники стрел и урны.
Да, это были прекраснейшие годы моей жизни, когда я дружил с Лойзиком и собирал марки. Но вот я заболел скарлатиной, и Лойзика не пускали ко мне, хотя он торчал у нас в коридоре и насвистывал, чтобы я его слышал. Как-то раз за мной не уследили, что ли; в общем, я удрал из постели и – шасть на чердак посмотреть свои марки. Я так ослабел, что с трудом поднял крышку ларя. Но ларь был пуст; коробка с марками исчезла.
Я не в силах описать вам мою боль и ужас. Вероятно, я стоял там, словно окаменев, и не мог даже плакать, так у меня сжалось горло. Во-первых, ужасно было потерять марки, мою величайшую радость; но еще страшнее было сознание, что, воспользовавшись моей болезнью, их, наверное, украл Лойзик, мой единственный друг. То был ужас, разочарование, отчаяние, скорбь, – знаете, просто поразительно, до чего сильны переживания ребенка. Как я спустился с чердака, я уже не помню; только после этого я снова слег, метался в жару, а в минуты облегчения все думал, думал… Ни отцу, ни тете я не сказал ни слова – матери у меня уже не было; я знал, что они совершенно меня не понимают, и это как-то отдаляло меня от них; с того времени я уже никогда не питал к ним горячей детской привязанности. Измена Лойзика оказалась для меня чуть ли не смертельным ударом; это было мое первое и самое страшное разочарование в человеке. Нищий, говорил я себе, Лойзик – нищий и поэтому ворует; вот тебе за то, что ты дружил с нищим. Это ожесточило меня; с тех пор я стал делать различия между людьми – я утратил состояние социальной невинности; однако тогда я не понимал еще, сколь глубоко было потрясение и сколь многое во мне рухнуло.
Пересилив болезнь, я пересилил и боль от потери марочной коллекции. Только еще кольнуло в сердце, когда я увидел, что Лойзик тем временем завел новых товарищей; но, когда он прибежал ко мне, слегка смущенный после долгой разлуки, я сказал ему сухо и по-взрослому: «Катись, я с тобой не разговариваю!» Лойзик покраснел и не сразу ответил: «Ну и ладно!» С того времени он упорно, по-пролетарски ненавидел меня.
Именно это событие и повлияло на всю мою жизнь, на мой выбор жизни, как выразился бы пан Паулюс. Мой мир, если можно так сказать, был осквернен, я перестал доверять людям; научился ненавидеть их и презирать. Больше не было у меня друга; и когда я стал взрослеть, то начал даже гордиться тем, что мне никто не нужен и я никому ничего не прощаю. Потом я стал замечать, что меня никто не любит, и сам тоже стал презирать любовь и всякие сантименты. Так и вышел из меня высокомерный, честолюбивый, педантичный – одним словом, корректный человек; к подчиненным я относился зло, без жалости, женился без любви, детей воспитывал в трепете и страхе и своим прилежанием и добросовестностью добился немалых успехов. Такова была моя жизнь, вся жизнь; я не уделял внимания ничему, кроме своих обязанностей. И когда я почию в бозе, в газетах напишут, какой я был заслуженный работник и примерный человек. Но если бы люди знали, сколько во всем этом одиночества, недоверия и ожесточенности…
Три года назад умерла моя жена. Я не признавался ни себе, ни людям, но мне было невыносимо грустно; и от тоски я начал перебирать семейные реликвии, оставшиеся после отца и матери: фотографии, письма, мои старые тетради… У меня перехватило горло, когда я увидел, как заботливо мой строгий отец все это складывал и сохранял; вероятно, он все-таки любил меня. Этими вещами был забит целый шкаф на чердаке; и на дне одного ящика я нашел шкатулку, запечатанную печатями отца; я открыл ее – в ней лежала та самая коллекция марок, которую я собирал пятьдесят лет назад.
Не буду скрывать – у меня ручьем хлынули слезы, и эту шкатулку я отнес в свою комнату как некое сокровище. Значит, вот как было дело, понял я тогда. Значит, когда я болел, кто-то нашел мою коллекцию, и отец ее конфисковал, чтобы я из-за нее не запускал учебу. Ему не следовало этого делать; но и тут сказалась его строгая забота и любовь; не знаю отчего, но мне стало жаль и его и себя.
А потом пришла мысль: значит, Лойзик не крал этих марок. Господи боже, как я был к нему несправедлив. И встало передо мной лицо этого веснушчатого и вихрастого уличного мальчишки, – бог весть, что с ним случилось, и жив ли он еще! Ах, как мне было мучительно стыдно, когда я все это восстанавливал в памяти. Только из-за несправедливого подозрения я потерял единственного товарища; из-за этого я лишился детства. Стал презирать бедных, вел себя высокомерно; поэтому я уже ни с кем близко не сошелся. По одной только этой причине я всю жизнь не мог смотреть на почтовые марки без неприязни и отвращения и никогда не писал писем своей невесте, а затем жене, маскируясь тем, что стою выше проявления чувств; и моя жена страдала от этого. Вот почему я был так жесток и замкнут. Поэтому, только поэтому я сделал такую карьеру и столь образцово выполнял свои обязанности…
– Я пересмотрел всю свою жизнь, и вдруг она показалась мне пустой и бессмысленной. Ведь я мог жить совершенно иначе – пришло мне в голову. Если бы этого не случилось, – ведь во мне было столько жару и любви и приключениям, столько страсти и благородства, фантазии и доверчивости, столько удивительных и могучих дарований. Боже мой, да я мог быть совсем другим человеком – путешественником, актером или военным! Я мог любить людей, выпивать с ними, понимать их, мало ли что еще! Во мне словно таял некий лед. Я перебирал марку за маркой. Здесь были все они – Ломбардия, Куба, Сиам, Ганновер, Никарагуа, Филиппины, – все страны, в которые я тогда хотел поехать и которых уже не увижу. В каждой марке заключалась частица того, что могло быть и чего не случилось. Я просидел над ними всю ночь и судил свою жизнь. Я видел, что это была какая-то чужая, искусственная, безличная жизнь, а моя настоящая жизнь так и не осуществилась… – Пан Карас махнул рукой. – Как подумаю, чем только я мог стать и как я был несправедлив к Лойзику…
Слушая эту речь, патер Вовес вконец опечалился и разжалобился, – скорее всего, тоже вспомнил что-нибудь из собственной жизни.
– Пан Карас, – сказал он растроганно, – не стоит об этом думать; что толку, теперь уж поправить ничего невозможно, невозможно начать жизнь сызнова…
– Невозможно, – вздохнул пан Карас, слегка покраснев. – Но знаете, по крайней мере – по крайней мере, я снова начал собирать марки!
Обыкновенное убийство
© Перевод А. Косорукова
– Я часто думал, – заметил пан Ганак, – почему несправедливость кажется нам хуже любого зла, которое можно причинить людям. Ну, например, если бы мы узнали, что одного невинного человека посадили в тюрьму – это тревожило бы и мучило нас больше, чем то, что тысячи людей живут в нужде и страданиях. Я видел такую нищету, что всякая тюрьма по сравнению с ней просто роскошь; и все же самая страшная нищета не так ранит нас, как несправедливость. Я бы сказал, что в нас есть некий юридический инстинкт; и виновность и невиновность, право и справедливость – столь же первичные, страшные и глубокие чувства, как любовь и голод.
Возьмите хотя бы такую историю. Четыре года я и кое-кто из вас пробыли на войне; не станем говорить, что мы там видели, но вы согласитесь, что наш брат там ко многому попривык: например, к трупам. Я видел сотни и сотни мертвых молодых людей, порой страшно обезображенных, можете мне поверить; и, признаюсь, к подобным зрелищам стал настолько безразличен, как если бы передо мной разложили старые тряпки, только бы они не воняли. Я лишь одно говорил себе – дружище, если ты выберешься из этой мясорубки цел и невредим, то уж ничто в жизни не сможет тебя потрясти.
Приблизительно через полгода после войны я как-то был дома в Слатине; однажды утром кто-то стучит в мое окно:
– Пан Ганак, идите посмотрите, убили пани Туркову!
У пани Турковой была маленькая лавчонка, где продавались писчебумажные товары и нитки; никто никогда ее не замечал, разве только кто зайдет когда-нибудь купить катушку ниток или рождественскую открытку. Из лавочки стеклянная дверь вела в кухоньку, где панн Туркова и спала; на двери висела занавеска, и когда звякал колокольчик, пани Туркова выглядывала из-за этой занавески, чтобы посмотреть, кто это пришел, вытирала руки фартуком и входила в лавочку. «Что вам угодно?» – спрашивала она недоверчиво; у посетителя возникало ощущение, что он непрошеный гость, и всякий старался поскорее убраться. Похоже на то, будто вы приподняли камень и увидели, как мечется в сырой впадине одинокий перепуганный жук; и вы поскорее опустите этот камень на место, лишь бы противный жук успокоился.
Услышав эту новость, я побежал посмотреть, скорее всего, из обычного любопытства. Перед лавчонкой пани Турковой народу собралось, что пчел у летка; но полицейский впустил меня внутрь – из уважения к образованному человеку. В тишине звякнул колокольчик – как всегда, но сейчас от этого звонкого, четкого звука мороз подрал по коже; очень уж не соответствовал он обстановке. На пороге кухни лежала лицом вниз пани Туркова, и у головы ее застыла почти черная лужа крови; белые волосы слиплись от спекшейся крови. В этот момент я вдруг ощутил то, чего не знал на войне; ужас оттого, что человек мертв.
Странно, о войне я уже почти забыл; человечество о ней тоже понемногу забывает, и, вероятно, поэтому когда-нибудь должна будет разразиться новая война. Но эту убитую старуху, эту никому не нужную мелкую лавочницу, которая не умела толком продать даже открытку, я не забуду никогда. Убитый – это не то, что умерший, в нем какая-то страшная тайна. Я, представьте себе, не мог понять, зачем убили именно пани Туркову, такую обыкновенную, неинтересную личность, на которую никто никогда не обращал внимания; и как же получилось, что поза, в которой она лежит, исполнена такого пафоса, и склоняется над ней полицейский, и снаружи толпится множество народу, только бы увидеть хоть уголком глаза пани Туркову. Если можно так сказать, бедняжка никогда не пользовалась таким вниманием, как теперь, когда она лежала, уткнувшись лицом в черную кровь. Она словно внезапно приобрела странную и страшную значительность. Никогда я не замечал, как она одета и как, собственно, выглядит; но теперь я будто смотрел на нее через стекло, увеличивающее все безмерно и чудовищно. На одной ноге у нее была домашняя туфля; второй туфли не было, и на пятке чулка виднелась штопка – я видел каждый стежок, и мне было страшно, словно и этот жалкий чулок был убит. Пальцы одной руки вцепились в пол – и рука эта была сухая и бессильная, как птичья лапка; но страшнее всего была седая косичка на затылке убитой, потому что она была тщательно заплетена и поблескивала среди дорожек спекшейся крови, как старое олово. У меня было ощущение, что я никогда не видел ничего жалостнее этой окровавленной женской косицы. Струйка крови запеклась за ухом; над ней светилась серебряная сережка с голубым камешком. Это было невыносимо, у меня тряслись ноги.
– Господи! – произнес я.
Полицейский, который искал что-то на полу кухни, выпрямился и посмотрел на меня; он был бледен, как перед обмороком.
– Послушайте, – выдавил я из себя, – вы были на войне?
– Был, – хрипло ответил полицейский. – Но это – совсем не то. Взгляните-ка, – вдруг добавил он, показывая на занавеску двери; она была смята и испачкана; очевидно, убийца вытер ею руки.
– Иисусе Христе! – вырвалось у меня; не знаю, что здесь было так ужасно – представление о руках, липких от крови, или то, что эта занавесочка, чистенькая занавесочка тоже сделалась жертвой преступления. Не знаю, но в эту минуту в кухоньке долгой трелью залилась канарейка. Послушайте, этого я уже не мог выдержать, – в ужасе выбежал вон и, наверное, был бледнее полицейского.
Потом я долго сидел у нас во дворе на оглобле телеги, пытаясь собраться с мыслями. Дуралей, говорил я себе, ведь это – обыкновенное убийство! Ты что, не видел крови? Или не был заляпан собственной кровью, как свинья грязью? Не ты ли кричал своим солдатам, чтобы они быстрее копали яму для ста тридцати убитых? Сто тридцать трупов в ряд занимают немало места, даже если сложить их тесно, как дранку… И ты расхаживал вдоль этого ряда, курил сигареты и орал на команду: «Давай, давай, кончай поскорее!» Разве не ты видел столько мертвых, столько мертвых…
То-то и оно, ответил я себе, я видел множество трупов; но не видел одного-единственного Мертвого; не опускался перед ним на колени, чтобы заглянуть ему в лицо и коснуться его волос. Мертвый страшно тих; с ним надо быть наедине… и даже не дышать… чтобы понять его. И каждый из этих ста тридцати собрал бы все силы и сказал тебе: «Господин лейтенант, они убили меня; посмотрите на мои руки, ведь это руки человека!» Но все мы отворачивались от этих мертвых; если уж пришлось воевать – нельзя слушать убитых. Господи, надо бы, чтобы вокруг каждого погибшего толпились люди, как пчелы у летка, – мужчины, женщины, дети, – чтобы увидеть с содроганием хотя бы часть его тела; хоть ногу в солдатском сапоге или окровавленные волосы… Тогда, пожалуй, всего этого не должно было бы быть. Тогда и не могло бы этого быть!
Я похоронил матушку: она выглядела так торжественно, так примиренно и достойно в красивом гробу. Она была странной, но не страшной. Но это, это – совсем не то, что смерть; убитый – не мертвый; убитый обвиняет, как если бы он кричал от великой, невыносимой боли. Мы это знаем, я и этот полицейский; мы знаем – в этой лавчонке витал призрак. Тогда-то я начал догадываться. Не знаю, может, у нас и нет души; но есть в нас нечто бессмертное, как инстинкт справедливости. Я ничуть не лучше любого другого человека, но есть во мне что-то такое, что принадлежит не мне одному, – некое представление о каком-то строгом и высоком законе. Я знаю, что неточно выразился; но в ту минуту я понял, что такое преступление и что такое оскорбление бога. Знайте: убитый человек – это обесчещенный и разоренный храм.
* * *
– А что, – промолвил пан Добеш, – убийцу поймали?
– Поймали, – ответил пан Ганак, – и я его видел, когда спустя два дня полицейские вели его из лавочки, где он был допрошен, как говорится, на месте преступления. Видел я его, может, всего секунд пять, но опять как бы под некоей чудовищно увеличивающей лупой. Это был молодой парень в наручниках, и он так странно спешил, что полицейские едва поспевали за ним. На носу у него выступил пот, глаза вытаращены, и он так испуганно моргал, – видно было, что он испытывает безмерный страх, словно кролик во время вивисекции. До смерти не забуду его лица. Очень тягостно и скверно было у меня на душе после этой встречи. Теперь его будут судить, думал я, и провозятся несколько месяцев, чтобы приговорить к смерти. В конце концов я понял, что мне, собственно, жаль его и что я, пожалуй, почувствовал бы облегчение, если бы он как-нибудь выпутался. Не то, чтобы у него была симпатичная внешность, скорее, наоборот; но я видел его слишком близко – я видел, как он моргает от страха. Черт побери, я ведь не кисейная барышня, но вблизи – это был не убийца. А просто человек. По совести говоря, я и сам этого не понимаю; не знаю, что бы я сделал, будь я его судьей; но от всего этого мне было так тягостно, словно я сам нуждался в искуплении.








