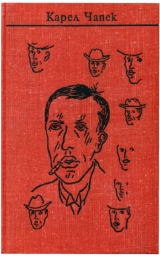
Текст книги "Собрание сочинений в семи томах. Том 1. Рассказы"
Автор книги: Карел Чапек
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц)
Вся эта ночь была отдыхом, будто с плеч свалилась тяжелая ноша; но уже на следующий день Голуба согнуло новое бремя. «Отчего я не могу избавиться от всего этого? Почему Лидино несчастье не идет у меня из головы? Отчего, собственно, меня так заботит ее участь? Откуда взялась во мне эта мания?» Перед его глазами снова возник образ молодой девушки – такой, какой он видел ее в последний раз. Она сидела на кушетке, погруженная в свои думы, сжавшаяся в комок, притихшая и почти безучастная ко всему, – и вдруг вздрогнула всем телом. Казалось, будто она сидит на огромной ладони, и ладонь эта постепенно сжимается. Этот неотступный образ терзал его сердце.
Наконец пришло еще одно письмо от Мартинца: «Дорогой пан Голуб, мне так необходимо поговорить, что я должен хотя бы в письме поделиться с Вами. Лида наверху, в постели, и не спит, плачет, сама не своя. Я все еще на той, второй станции, куда поехал из Праги. Здесь я не нашел их, но мне не сразу удалось выбраться отсюда. И пока я ждал поезда, появились те, ради которых я здесь очутился. Две ночи они провели в Карловых Варах, прежде чем попасть сюда, в этот безлюдный немецкий край. Это единственное обстоятельство, которое Вы не предвидели. Вышеупомянутый человек уже скрылся; мы мало общались, но я с ужасом вспоминаю наше объяснение. Лида молчит, причитает и плачет, и мне ее до боли жаль. В таком состоянии я не могу везти ее обратно. С трудом уговорил послать хотя бы открытки знакомым в Прагу – свидетельство „семейной загородной прогулки“ брата с сестрой.
Ей прямо-таки не терпится вызвать скандал, унизиться до последней степени, – мне это непонятно, но я надеюсь, что со временем она опомнится. Приехать сюда пожелала, разумеется, она; на остановке в Карловых Варах он настоял уже по пути; это была отчаянная неосмотрительность. Не могу Вам описать сцены, свидетелем которой мне пришлось стать; порой мне казалось, будто я на грани ада или помешательства. Лиде я сказал, что разыскать ее мне помог счастливый случай – помните, я говорил Вам о нем; я понимаю, это обман, но я не в силах был признаться, что, в сущности, нашли ее Вы. Напротив, я рассчитываю на Вас, на то, что сразу же после нашего возвращения Вы навестите Лиду и первым убедите ее, что никто ни о чем не догадывается. Мне хочется, чтобы она как можно быстрее успокоилась».
Голуб выронил письмо. Да, ради Лидиного спокойствия. Какое несчастье – Лида!
Гора
Ребенок, который играл возле отвесной скалы, на дне заброшенной каменоломни, возводя плотины из грязи, образовавшийся после вчерашнего ливня, наткнулся на труп мужчины с размозженной головой. И хотя малыш ничего не знал о смерти, он испугался и побежал прятаться в мамкин подол. И вот он уже забавляется с кошкой, и ему непонятно, отчего отец бросил работу и выбежал из дому. Играть с кошкой приятнее, чем возиться в грязи.
Для того, кто поднялся наверх, деревня открылась бы как на ладони. Он увидел бы мальчишку, который, громко крича и всхлипывая, улепетывает домой, дробную фигурку мужчины, что выскочил из дому и теперь, подобно муравью, торопливо семенит через всю деревню. И невесть откуда взявшееся скопище людей, которые размахивают руками и суматошно, один за другим устремляются вниз, на дно каменоломни. Наблюдателю, находящемуся наверху, показалось бы смешным, как эти фигурки суетятся, отыскивая более короткий путь.
Но если бы этот наблюдатель оказался внизу, среди толпы, его охватил бы ужас; благочестиво отводя глаза от трупа, он измерил бы взглядом страшную высоту скалы, от подножия до самой вершины, где, обнесенная низкими перилами, вьется тропка и ползут облака. Здесь, в толпе, он стоял бы притихший, словно скованный странною силой, боясь тронуться с места.
Как раз в это время мимо проходил Славик; он чувствовал себя покинутым между небом и землей, среди откосов и домиков, где ему выпало пережить дождливую пору.
– Барин! – кричали ему. – Тут убитый!
Славик пошел поглядеть.
В задумчивости вернулся он домой; но и дома, встав у окна, продолжал смотреть в сторону каменоломни, зиявшей, словно отверстая рана в боку горы. Каменоломня представлялась ему пугающей и почти загадочной.
Никакими силами мне не стереть из памяти эту картину: грузный человек уткнулся лицом в окровавленный песок; в раскинутых руках и ногах – отчаянное усилие, словно он все еще, даже теперь, силился подняться и смахнуть со лба грязь. О, что за вид! Две руки вопиют из оскверненной разбитой материи, – полные грязи, о господи! – и все же такие человеческие! Эту картину уже никакими силами…
Мне доводилось видеть самых близких людей мертвыми; они словно спали, закрыв глаза и скрестив руки на груди; на лицах у них было такое выражение, словно они благословляли меня. Величавые, покоились они в окружении цветов и свечей и были похожи на святых. Ах, какой другой, более человеческий смысл может быть в смерти, если не прославление человека!
Однако нет ничего страшнее смерти, которая не возвышает ни мертвых, ни живых. Смерть с гримасой движения, мгновения, случайности. Смерть, которая не успевает стереть последние следы жизни. Нет ничего более отталкивающего, чем живой жест мертвеца! Трудно представить себе более наглядный пример осквернения всего святого.
Только спустя несколько томительных часов перед карьером остановился автомобиль, и из него выскочили трое. Славик побежал за ними. Двое склонились над трупом, а третий обследовал откос.
– Он упал лицом вниз, – заметил один и выпрямился, – все фрактуры спереди. Смерть наступила мгновенно. Лицо разбито в… гм, а? Его уже невозможно узнать.
– Невозможно, – как-то по-особому значительно произнес второй. Сидя на корточках, он переворачивал труп. – Сам черт не узнает.
– Чего же вы ищете?
– Ничего, так просто рассматриваю.
– И обнаружили что-нибудь?
Склоненный господин выпрямился.
– Ничего. У меня потухло. Спасибо, – поблагодарил он Славика, который протянул ему спички. – Я – полицейский комиссар Лебеда. Да, – задумался он, – Как вы считаете, доктор, давно он тут лежит?
– День, может, два.
– Два дня! За два-то дня тот уже далеко уйдет.
– Кто?
– Да убийца, – бросил удивленный комиссар. – Тот, кто его столкнул.
– Быть не может, – возразил доктор, – так уж и убийство! Отчего…
– Так просто, ни отчего. Вот у погибшего шляпа на голове целехонька, не смялась, не запачкалась: странно, а?
– Пожалуй, – весьма неуверенно протянул доктор.
Комиссар пошевелил губами, словно хотел выругаться, и в упор уставился на доктора.
– С одежды пострадавшего срезаны все монограммы, – вдруг сообщил он.
– Накройте его, – пробормотал доктор и с внезапным отвращением посмотрел на свои руки: – Надо вымыть.
– Постойте, – остановил его комиссар. – Предположим, жертва защищается, – представляете, схватка на краю пропасти… – все тщетно; только шляпа осталась там, наверху. Убийца поднимает ее и видит на подкладке монограмму или фирменный знак – впрочем, убедитесь сами, – спохватился комиссар и, взяв в руки шляпу, показал подкладку; кусочек кожаной ленты был вырезан острым ножом. – Тут ему пришло в голову, что монограммы есть на белье, на одежде, в карманах, вот он и спустился по откосу со шляпой в руке… Впрочем, это слишком глупо; он просто мог швырнуть ее.
Тут агент, исследовавший гору, что-то крикнул им.
– Пилбауэр на что-то наткнулся, – сказал комиссар. – Итак, здесь, внизу, он режет, кромсает, рвет и забирает с собой все – монограммы, шнурки от ботинок, фирменные знаки, документы… Все, любые приметы личности или обозначения места. Он ничего не забыл. Потом надел ему на голову шляпу и ушел. А это оставил тут. Обезличенный, безымянный труп. Уничтоженную личность. Тайну. Чересчур молчаливого свидетеля. С какого конца разматывать этот клубок? Пилбауэр, что у вас там?
– Следы, – отозвался третий, спускаясь. – Кто-то стремглав бежал вниз, скользя по размокшей земле.
– Вы думаете, это было вчера после полудня?
– Да. У него были туристические ботинки номера на три больше моих.
– Великан. Турист. В самом деле, – удивился комиссар, погружаясь в задумчивость.
– Очень мне это не нравится, – ворчал доктор. – Терпеть не могу убийств. Накройте же его наконец!
Славик подошел к комиссару и хмуро сказал:
– Это ведь просто бессмыслица.
– Что бессмыслица?
– Да эти монограммы. Зачем убийце их срывать? Если бы он их не трогал, все бы поверили, что произошел обыкновенный несчастный случай. А не убийство. Просто кто-то разбился. И против преступника не было бы никаких улик. Зачем ему понадобилось это делать?
– Не имею понятия.
– Во-вторых. Какая глупость – нести шляпу в руках. Очевидно, он растерялся. А тут, внизу, рассудительности… у него было хоть отбавляй. Он ни о чем не забыл. Судя по всему, голова у него отлично работала… Нет ли здесь противоречия?
– Не имею понятия.
– В-третьих, с шоссе и из деревни все хорошо просматривается. Убийца подвергал себя страшному риску и тем не менее действовал обдуманно, просто-таки методически, не торопясь. Ничего не пропустил. Это – прямо парадоксально.
– Мерзкая история, – проворчал доктор.
– Мерзкая и нелепая. Для объяснения такого поступка вам либо придется допустить таинственные и необыкновенные мотивы, либо предположить существование таинственной и необыкновенной личности, совершившей преступление. Дело более странное, чем представляется на первый взгляд. Видимо, вам предстоит его разрешить, и я хотел бы обратить ваше внимание…
– Благодарю, – отозвался прилежно слушавший комиссар, – это весьма любопытно; но простите, вы меня не поняли. Мне тут разгадывать нечего.
Славик тщетно пытался возразить.
– Я ничего не решаю. Я – представитель исполнительной власти. Если вам интересно, могу взять вас с собой.
«Он ничего не решает, – сверлило у Славика в мозгу, – гм, тогда, собственно, зачем он здесь?»
Спустя некоторое время он спросил и об этом.
– Я ничего не решаю, – ответил комиссар, – просто потому… Послушайте, я ведь действую не от своего имени и ничего решать не могу. Я действую от имени власти, которая не решает, а приказывает. Любая власть лишь выносит постановления; в этом ее сила и сущность. Приказ – вот единственное и неопровержимое доказательство. Это – логика власти. Нет, дружище, нам решать не приходится.
Со скучающим видом комиссар приступил к расследованию. Постепенно все больше объявлялось людей, которые накануне там или сям видели «незнакомца». То он оказывался высокий, худой бородач; то – могучий, чисто выбритый, рыжий иностранец, погруженный в себя, а то – необыкновенной силы рослый турист, лица которого не видел никто. Вот этот последний, по-видимому, и впрямь бежал от кого-то, оставляя после себя следы паники и разрушения.
За день до того, как был обнаружен труп, лил проливной дождь, тогда-то старичок-возница, ехавший на станцию, обогнал огромного незнакомца в гольфах.
– Полезайте под брезент, – крикнул ему возница.
– Нет, не хочу, – отказался незнакомец.
Дед двинулся было дальше, но ему стало жаль промокшего до нитки пешехода, и он пригласил его во второй раз.
– Не хочу, – зло огрызнулся незнакомец и рысью помчался на станцию. «Странным» казалось то, что он «был такой огромный и что все-таки его было страшно жалко». (Свидетельское показание старика-возницы.)
Несколько позже этот огромный детина в спортивном костюме появился на станции; поджидая вечерний поезд, он расхаживал по перрону невзирая на дождь. Начальник станции пригласил его в зал ожидания, но незнакомец поднял воротник и промолчал. Немного погодя начальник подошел к нему сообщить, что поезд сегодня вообще не пойдет, поскольку на сорок пятом километре дождем подмыло скалу и засыпало путь. Тут верзила-незнакомец громко чертыхнулся и спросил, когда следующий поезд. «Примерно через сутки», – предположил начальник станции и прямо-таки испугался ярости и отчаяния, промелькнувших в глазах собеседника.
– Вы можете переночевать в местечке, – участливо посоветовал железнодорожник.
– Не ваша забота, – грубо оборвал его путешественник и ушел. Лица его не было видно, однако возникало странное и «мучительное» ощущение, «словно это было лицо человека, которому грозит смертельная опасность». (Показания начальника станции.)
Тот же иностранец объявился вечером в местном трактире, приказал протопить комнату и принести еду.
Спустя некоторое время трактирщик постучал к нему.
– Что такое? – испуганно вскрикнул гость.
– Вы не турист? – решился спросить трактирщик. – Я бы рекомендовал вам толкового возницу; его даже прозвали «С божьей помощью»; может, господин…
– Я подумаю, – ответил гость и захлопнул дверь. Однако тут же выскочил на лестницу и крикнул вслед: – Закажите мне этого извозчика на пять утра, на целый день.
– Рано утром он, стало быть, уехал; клиент был огромный, страшный, в туристском костюме, а лицо – как-то занавешено. «Мы все его боялись. И ходили здесь, внизу, как в воду опущенные». (Показания трактирщика.)
«Он стоял у окна, словно статуя, голова чуть ли не касалась потолка. Ничего не говорил, только хрипел. Не пойму, отчего меня вдруг разобрал страх». (Из допроса кельнера.)
– Ну, что теперь? – спросил Славик комиссара.
Комиссар пожал плечами, затем приказал позвать супругу извозчика «С божьей помощью», а сам погрузился в изучение карты окрестностей.
Славик все более приходил в замешательство. «Боже мой, – терзался он в мучительной тоске, – что же это за след, удивительно! Что тут приключилось? Неужели всего-навсего убийство? Непонятно. Бессмысленно. Поразительная нелепость».
Между тем комиссар допрашивал жену извозчика; она ни о чем не подозревала, и на всякий случай, руководствуясь нехитрым, чисто народным инстинктом, ото всего отпиралась. Пилбауэр спокойно изучал старый прейскурант, который нашел на окне.
«Все это непонятно и ужасно, – горевал Славик. – Свершилось нечто необъяснимое. Мы можем расследовать разыгравшуюся здесь трагедию, а все чего-то ждем. Ждем бесконечно…»
Над сонным, тупым полднем городишка непрерывной чередой тянулись тучи и барабанил непрекращавшийся, назойливый дождь. Через вымершую городскую площадь спешит комиссар – на телеграф. По водосточному желобу журчит вода, и Славику мерещится, будто аппарат Морзе выстукивает бесконечные и странные рапорты и приказы об аресте. Разобраться тут невозможно.
Дело выглядит все более будничным и запутанным. Славиком овладело угрюмое нетерпение. Поздно, уже поздно.
Наконец-то прибежал с телеграфа комиссар. Из соседнего городка только что телеграфировали, будто там в кабаке сидит возница «С божьей помощью», пьяный вдребезги; рассказывает посетителям, что утром вез какого-то верзилу, а тот всю дорогу прикрывал лицо платком и не вымолвил ни единого слова. Насмерть перепуганный извозчик не мог этого выдержать, высадил пассажира на полпути и удрал. Где это произошло – он понятия не имеет.
Теперь, по крайней мере, известно, в каком направлении искать. Словно соскальзывая с извивающейся ленты дороги, автомобиль комиссара помчался к ближайшему городку. У Славика не было критерия определения скорости. Лишь физическое ощущение страха, вроде позыва к плачу или тошноте, и тоскливое чувство, будто холодную струю воздуха через рот протолкнули в грудь, где она застряла меж мучительно трепещущих легких, – позволяли думать, что автомобиль мчится на предельной скорости. Уносимый этим движением, судорожно вцепившись в дверцы, Славик чувствовал, как в душе поднимаются два великих, примитивных и безотчетных чувства: восторг и ужас.
И вдруг – стоп! Взмах платка: «Остановитесь!» «Я узнал вашу машину, – торопливо произносит кто-то, – и как раз бегу за жандармами; у нас в „Святой Анежке“ стряслась беда». Утром туда вроде бы примчалась повозка с перепуганными лошадьми и без пассажира; за ним пешком приплелся какой-то гигант и, «словно мешок, рухнул на лавку», потом велел протопить комнату и заперся там. В полдень к нему постучали – спросить, не нужно ли чего. А он стал орать, дескать, сбросит всякого, кто вздумает подняться к нему наверх. И теперь все боятся. Он стоял на лестнице с обвязанной полотенцами головой и грозил собравшимся кулаком. Пришли лесники и тоже не знают, что делать; он наводит на всех безмерный ужас.
Автомобиль понесся к «Святой Анежке»; это – небольшой курорт у подножия самой высокой горы в этих краях, славящихся чудодейственными непрекращающимися все лето дождями. Не успел еще автомобиль подкатить к «Святой Анежке», а полицейским уже стало известно, что чужеземец-великан примерно час назад спустился в холл, спросил счет и ушел по тропинке, которая ведет к одинокой хижине на вершине горы, а девять мужчин, запершись в комнате, совещались, каким путем до него добраться. Горничная видела, как он уходил, но теперь где-то спряталась.
Девять мужчин окружили комиссара; среди них были лесники, дачники, местный люд и какой-то маленький человечек в очках, – он тут же бросился Славику на шею; это был скрипач и композитор Евишек; музыкант приехал на лето в родные места, где ему по наследству достался дом, и умирал со скуки.
– Как же вы его проглядели! – возмущался комиссар.
– Не успели…
– Как-то не смогли договориться…
– Боялись, – откровенно признался Евишек.
– Словом, не хватило организованности, – шепнул Славику комиссар.
Гора, у подножья которой они теперь очутились, представляла собой отвесную с плоской вершиной скалу, тонувшую среди лесов; на вершину ее вели лишь два пути: тропа и неприметная стежка. Наверху – небольшое поле и одинокая хижина, а вокруг – гладкий отвес голой, скалистой стены.
Теперь гора смутной массой проступала сквозь туман.
Комиссар вышел из дома и бросил взгляд на огромный массив скалы, словно вызывая ее на бой.
Славику предстояло сделаться очевидцем операции, которая поражала его не только отдельными своими эпизодами, но и неповторимым своим характером.
Очутившись среди толпы, Славик стал участником коллективных действий. У него на глазах внезапно родилась и начала почти по-военному работать небольшая организация; несмотря на это, у него не исчезало впечатление хаоса и бессмысленности происходящего.
Лишь позднее он признал, что, очевидно, иначе и быть не могло; но в самый момент действия, когда ему тоже пришлось войти в состав ведомого комиссаром отряда, он невыносимо страдал от этой топорной неповоротливости, напрасной траты времени, выжидания и бесконечных проволочек; в не меньшей степени его раздражал и резкий, с места в карьер, переход к действиям, неудержимая быстрота совершившегося и нескладная поспешность проведения всей операции. Почти с удивлением вспоминал он о той поре, когда осуществлял свои замыслы в одиночку; в своих поступках он обнаруживал столько особого, ему только свойственного и осмысленного ритма, что с трудом узнавал сам себя в суматошливом, лишенном ритмичности коллективном действии, участником которого он являлся. На душе у него было тягостно и смутно.
Как-то, в один из самых напряженных моментов преследования, спотыкаясь на каждом шагу в ночной темноте, Славик осознал всю безнадежность создавшегося положения; в голову приходили мысли о солдатах, о бесчисленном войске, о сторожевом посту, ожидающем приказа, о небольшом отряде, преследующем в горах преступника, человека одинокого и странного, который именно в своем одиночество черпает бог знает какое превосходство, – и о себе самом; Славик присел на камень и, несмотря на темень, своим мелким, убористым, скучным почерком занес в записную книжку:
«Сущность организации: сотворить из тебя материю. Ты послушное орудие власти, направляемое чужой волей, ты часть целого – а следовательно, нечто зависимое по самой своей сути. Признав над собой вождя, ты на него переложил ответственность за мотивы и цель поступков, ему передал свою волю и право решать; и у тебя не остается ничего, кроме совершенно пассивной души, бездеятельность которой ты воспринимаешь как страдание».
– Ладно, – сказал наконец комиссар, – гору придется окружить. Нас двенадцать, кроме того, я посылаю за жандармами, тогда нас станет двадцать. Четверо займут проезжую дорогу, поведете их вы, дружище. Четверо останутся сторожить стежку. Вы, дорогой мой, позаботитесь об этом. Ни в каком другом месте ночью убийца пройти не отважится. Сам я поднимусь по тропе наверх. Со мною пойдет кто-нибудь еще.
– Я, – вызвался Славик.
– Ладно. Встретимся у хижины. Когда подойдут жандармы. Пусть двое останутся внизу – караулят дороги. Вместе со всеми вы подыметесь на вершину горы к хижине. Исполняйте, друзья.
И гора была окружена.
Уже смеркалось, когда комиссар Лебеда и Славик подобрались к вершине. Хотя моросил дождь и было темно и промозгло, комиссар тоненько насвистывал, словно беззаботная пташка. «Что вы скажете на это?» – неожиданно спросил он.
– Я не перестаю удивляться, – ответил Славик, – я думал… представлял себе все иначе. Меня занимало решение, во всем мне чудилась тайна… А оказалось – это только охота. Охота на медведя. Преследование преступника.
– А чего же вы ждали?
– Решения. Происшествие остается непонятным с начала до конца. В нем есть нечто необычное. Уже сам безымянный мертвец – разве вы не отметили этого сразу, еще стоя над ним?
– Да, – согласился комиссар, – да, хотя, собственно, не знаю отчего, но… тут есть какая-то загадка. Но я не хочу ломать над ней голову.
– Эта тайна мучит меня с утра, – продолжал Славик, – всякая тайна – как задача, и уже поэтому я должен в ней разобраться. Меня не волнует – преступление это или не преступление; но интересно, почему все это так непостижимо? Уже поэтому я обязан идти по его следу.
– Пока мы его не схватим, – заметил комиссар.
– Да, вместо того чтоб разгадать тайну, – возразил Славик, – мы хотим дознаться, попросту – устроить допрос. Как раз это мне и не нравится. Весьма неинтеллигентно. Наверное, мы его поймаем, но в этом уже останется только грубая занимательность факта. А таинство – это область духа; любая загадка словно овеяна его дыханием. Лишь столкнувшись с тайной, человек ощущает в себе присутствие духа и чувствует трепет восторга и страх. Timor Dei —…Смятение духа. Материализм вообще обходится без таинства. Без страха. Без мужества испытать страх. Словом, я ждал более глубокого решения.
– У вас, наверное, нет с собой револьвера? – спросил комиссар.
– Нет, – раздраженно отозвался Славик.
– Жаль. У меня тоже.
– Вот видите, – не унимался Славик, – все это – сплошная романтика. Ночь! Горы! А ко всему прочему еще и револьвер! Кстати, мы сбились с пути. Как все это поверхностно!
– Нет, голубчик, вы не правы, – миролюбиво возразил комиссар, – мы, сыщики, конечно, никак не философы. Для нас это чисто техническая задача, дело практики. Но поверьте мне, всякая практическая деятельность издали выглядит романтично. А револьвер – всего лишь орудие труда, совершенно такое же, как клещи или плуг. К тому же с пути мы не сбились.
Они в молчании шагали вверх по неровной тропе, призрачно белевшей под темным пологом леса; она казалась ненастоящей и опережала их шаги, смутно, словно предчувствие.
– Вы ждали более глубокого решения? – внезапно раздался голос комиссара. – Но наше ремесло не признает проникновенных решений. Вероятно, можно сделать землю плодородной одной лишь молитвой, но с технической стороны это никуда не годится. Наверное, глубокие решения обеспечивают самый прямой и короткий путь, но технически они несостоятельны. По-видимому, можно разгадать преступление исключительно нравственным чувством, но интуиция – это любительщина. В романах все детективы обнаруживают крайнюю техническую несостоятельность. Слишком своеобразно, слишком изобретательно они работают. Их метода – метода преступников, а не детективов. Настоящий путь – иной.
– Какой?
– Социально отработанные приемы. Организация. Вы только посмотрите – ведь существует техника управления людьми, именно техника, поскольку с человеком обращаются как с неким инструментом. И тут наблюдается прогресс: то, что прежде было индивидуальным мастерством, делается техникой. Все, к чему бы мы ни прикоснулись, превращается в некий инструмент. В том числе человек. И вы тоже. И только тот, там, наверху, ускользает от нас.
– Бог?
– Нет, человек. Преступник, спасающийся бегством. И, значит, я – не что иное, как рука властей. Я ничего не решаю, я только сжимаю кулак, и чем сильнее я его сжимаю, тем больше осознаю в себе власть, которая осуществляется через меня. Я – только рука, пусть так, но я, по крайней мере, чувствую ту страшную и непреклонную силу, которая мною наносит удар, которая нынче ударит опять. Я чувствую силу закона.
Комиссар умолк; наступила ночь, и было тяжко подниматься вверх, пробираясь через корни и каменья. Они и впрямь потеряли тропку и вслепую взбирались по откосу, ломая мокрый, колючий кустарник, цепляясь за землю исцарапанными руками. Потом наткнулись на какой– то навес, под которым лесники, наверное, подкармливали лесных животных. Место не роскошное, но тут можно было хотя бы закурить посреди немолчного гула мокнувших под дождем гор… Среди необъятных просторов ночи шумели темные струи дождя; порой слышался треск сломанной ветки да изредка срывался вниз камень и летел, подскакивая, по склону, грохоча будто гигантскими сапогами; все остальные звуки поглощал непрерывный шум дождя.
Славик прислушивался к звукам с тоской человека, затерявшегося во всеобъемлющей и непроницаемой тьме, поглотившей мир. Комиссар, стоявший возле него, словно окаменел. Но вдруг по спине его пробежала слабая, словно электрическая дрожь; дрожь повторялась, все усиливаясь и делаясь продолжительнее; тело комиссара бил непрекращающийся судорожный озноб.
– Что с вами? – воскликнул Славик.
– Ничего, – стуча зубами, проговорил полицейский, – ничего… Только страх… Это сейчас пройдет! Сию минуту!
– Отчего вам страшно?
– Не могу понять… Верно, от всего того, что о нем наговорили… Я ведь не хотел об этом думать. Вы ничего подобного не испытываете?
– Нет. Только смятение духа.
– Нет, не то. Что-то хуже, страх… Я не вынесу!
– Пойдемте-ка лучше, – настаивал Славик, которому становилось не по себе.
– Сейчас… Вы идите вперед. Только тихо. Пошли!
Идти между скалами было нельзя – они с трудом ползли на четвереньках. Очевидно, подняться выше было уже невозможно. «Идите!» – выдавил комиссар сквозь зубы. Обдирая руки и колени, Славик карабкался вверх; и лишь когда снова наткнулся на тропку, у него от ужаса похолодела спина: ведь стоило поскользнуться…
Комиссар молча обогнал его и быстро взбежал на вершину. В хижине горел свет. Комиссар тихонько постучал, дверь приоткрылась чуть-чуть, на полглаза. «Полиция», – шепнул комиссар, и дверь распахнулась, словно от вздоха облегчения.
– Благодарение богу, – загадочно прошептал хозяин, откладывая в сторону ружье, – благодарение богу.
– Когда он пришел? – поспешно спросил комиссар.
– Час назад. Хотел переночевать. На чердаке.
– Я сейчас спущусь, – раздался сверху громкий хриплый голос. – Только накину на себя что-нибудь.
Комиссар одним махом очутился на лестнице, словно подброшенный неведомой силой.
– Именем закона.
– Сейчас, – проговорил голос, удаляясь вглубь, – я, знаете, простудился… немного…
– Эй вы там, сторожите окно! – крикнул комиссар вниз, – ловите беглеца! Скорее!
Славик и хозяин с ружьем бросились вон.
Чердачное окно распахнуто настежь. Тишина. Ни шороха. Комиссар вышел с зажженным фонарем; и тут Славик, едва разбирая смысл, прочитал на щипце крыши давнюю надпись:
Дай бог счастья дому сему,
Который я выстроил, не зная кому.
Между тем Пилбауэр с Евишеком поднимались в гору по проезжей дороге. Евишек ничего не видел в двух шагах от себя и боялся сбиться с пути. Детектив Пилбауэр молча и невозмутимо шагал впереди.
– Вы знаете эту дорогу? – выдохнул Евишек.
– Никогда здесь не бывал, – ответил Пилбауэр.
– А как попадете на место?
– Согласно приказу.
Снова воцарилась тишина. Евишек начал было напевать, но перестал: ему импонировало, что он идет бок о бок с сыщиком, – и проникся важностью момента.
– А усы у вас – фальшивые? – неожиданно сорвалось у него с языка.
– Нет, зачем же? – удивился невозмутимый полицейский.
– Значит, вы не переодеты?
– Нет, это я сам и есть, – скромно ответил сыскной агент.
Евишек тотчас проникся симпатией к этому печальному и тихому человеку.
– Это трудно – быть детективом?
– Нет, все зависит от характера. Вы, наверное, музыкант? Это куда более легкое занятие.
– О нет, не верьте, – воскликнул Евишек. – Вот нынче, например… писал я, что называется, большую вещь… квартет… И зашел в тупик. Не знаю, что писать дальше. Мелодия ускользнула.
– Надо идти по следу, – заметил детектив.
– О, художники идут по следу, они вечно ищут. Всю жизнь. А я вот выдохся. Оттого и пошел с вами, чтоб немножко забыться, отдохнуть.
– А я думал: вы из любопытства, как тот, другой.
– Да нет, я, собственно, пошел безо всякого интереса. Надеялся увидеть что-нибудь этакое необыкновенное, волнующее. Иногда необходимо потрясение… Ах, берите меня с собой почаще!
– С моим удовольствием, – серьезно сказал детектив, – но только если будет приказано. Без приказа лучше не ходить. Это нехорошо – преследовать человека.
У Евишека заговорила совесть.
– Но ведь это убийца, – защищался он.
Детектив кивнул.
– Да, нехорошо упустить такого человека.
– Что же хорошо?
– Ничего. Все одинаково нехорошо. Плохо бить и не бить, осуждать и прощать. На всякое добро есть столько же худа.
Евишек задумался.
– А что, собственно, вы делаете?
– Только то, что обязан. Самое разумное – слушаться. Подчиняться приказу.
– А тот, кто приказывает?
– Плохо делает, сударь. Приказывать нехорошо, это самое страшное из всех заблуждений.
– И все же – подчиняться необходимо?
– Разумеется. Что это за приказ, если ему не подчиняются.
– Вы, верно, не могли бы заниматься искусством, – удивился Евишек.
– Нет, – ответил детектив. – Искусство чересчур своевольно.
– О нет, искусство тоже имеет правила, которые надо соблюдать.
– Приказы?
– Нет, это не приказы.
– Ну вот видите, – буркнул Пилбауэр.
Евишек был в замешательстве; ему пришли на память неуверенность, сомнения, что мучили его в творческих поисках; несравненно легче стало бы на душе, если бы некий высший глас просто приказал – что и как… Отдаленно и мелодично зазвучал вдруг в ушах мотив некоего высшего гласа. Неслышно побрел Евишек за высоким, угрюмым человеком, который абсолютно безошибочно находил в потемках дорогу, незнакомую прежде, в то время как он, Евишек, местный житель, без конца путался, спотыкался, отыскивая поворот, которого тут не было, либо тропу в тех местах, где первый же шаг грозил падением со скалы.
«Как они в себе уверены, – думал он. – Славик, с его жаждой познания, комиссар, который имеет право приказывать, – какою уверенностью наделяет человека власть! И Пилбауэр, исполненный покорности. Как они уверены в себе, один я все не обрету покоя… Красота гонит от меня сон и лишает спокойствия; никогда, никому не сообщает она уверенности…»








