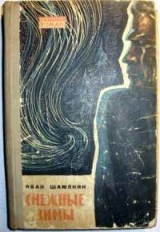
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
– Нашли?
– Счастье? Нашел. А что вы думаете? Что еще человеку нужно, кроме того, что у меня есть? Может, у вас оно другое, другие требования. А мне теперь разве одного не хватает – рабочих рук на винограднике. Да удобрений.
Антонюк сразу почувствовал симпатию к человеку, для которого счастье в работе.
– Я вас понимаю. Я тоже от земли не отрывался, где бы ни работал. Я – агроном.
Сказал и с горечью подумал: «И все же меня оторвали». Однако успокоил себя и пригрозил своим недоброжелателям: «Ничего. Вернусь. В совхоз пойду. На болотную станцию». С хозяином сошлись сразу, просто, естественно, как это бывает с людьми, влюбленными в одно дело. Еще до ужина Иван Васильевич с интересом выслушал рассказ о том, как человек научился выращивать новую культуру и, по всему видно, полюбил работу на винограднике. А раньше только слышал об этой сладкой ягоде», до армии даже отведать не довелось. Только в Румынии и Венгрии в сорок четвертом уразумел, «что это за фрукт такой» и какая от него польза. Раньше думал – так, забава, как смородина в огороде: воткнул куст, пускай растет у забора на утеху детям.
Вернулся из армии инвалидом, изо всех сил старался поднять свой смоленский колхоз. Может быть, и не бросил бы дедовское гнездо, если б больше порядка было в колхозе, если б получали хоть что-нибудь, а не одни палочки в табелях. Если б было чем детей кормить. Предложили переселиться сюда, в Крым, – бросил все, поехал, хотя женка неделю голосила. И тут нелегко было. Может, и здесь не удержался бы, некоторые вернулись назад, да очень уж захватила «эта ягода». Прямо привязала своими лозами. С соток начинали на старых татарских виноградниках. А теперь – сотни гектаров. Крупнейший совхоз.
– Это если б сказать там, на Смоленщине, что я, Иван Сухой – кличка у нас, еще от деда, такая, – буду на зиму по триста литров своего вина ставить, так буду размачивать сухость свою, – брехуном назвали бы. И сейчас не поверили, ездил я позапрошлый год туда, хотя и привез вина этого пуда два. Выпили своячки-односельчане, а все равно ухмылялись: заливает, мол, Иван. Да не в вине радость. Если ты агроном, так понимаешь. Главное, чтоб человек видел плоды своего труда, что не зря спину гнет. А что польза от его стараний и ему, и людям, и государству…
Трезвый хвалил все. А пропустил чарку – стал ругать. Мало порядка в совхозе, не все делается по-хозяйски. Но всего злее ругал курортников. Разбаловали людей здешних, разожгли жадность к деньгам, от работы на земле отбивают. Зачем иному поле пахать или лозы окапывать, если можно больше заработать на курортниках. Сам все лето в хлеву живет со свиньями, а в доме, как сельди в бочке, «дикари» по рублику за диванчик или раскладушку да сорочки постирать.
– Меня бабы тоже грызут: почему и нам не выжимать рублики у «дикарей»? Денег их, говорят, тебе жалко, что ли? Нет, денег их мне не жалко. Из иного сукиного сына их таки надо вытянуть, потому сразу видно, что не мозолью их заработал и не мозгой… Вас, говорю я бабам, вас, дуры, жалко. Что из вас станет, если привыкнете легко деньги огребать?
– Поехал уж, поехал, опять двадцать пять, – упрекнула мужа хозяйка.
– Одна вон болтается, эта самая, на которую твой моряк поглядывает, кончила десятилетку, просил, как человека: подавай, дочка, в сельскохозяйственный, на виноградаря учись, совхоз рекомендацию давал. Так, ты думаешь, послушалась? Черта с два. Полетела в Харьков, в железнодорожный. Такая уж у нее любовь к поездам объявилась! Провалила, конечно… Много их там таких! Два года на почте марки продавала, думала, за это ее сразу в радиоинститут возьмут. Опять срезалась. Теперь возненавидела связь эту самую. Начальник жалуется: плохо работать стала, людям грубит… Что ты меня дергаешь, – накинулся вдруг хозяин на жену. – Ее ведь еще не сватают, что я должен ее хвалить, цацу такую.
– Тьфу на тебя, старый дурень, – рассердилась женщина и, ткнув пальцем себя в лоб – мол, не хватает у тебя тут– ушла на кухню.
– Вот бабья порода! Только и думает, как бы замуж сплавить. А того не ведает, что не те нынче времена.
Иван Васильевич тактично молчал, когда охмелевший хозяин касался семейных дел или переводил опять разговор на землю, на виноград: его вдруг заинтересовали сорта, он решил, что непременно купит в Симферополе книгу по виноградарству. Во время их застольной беседы в комнату вошел морской офицер. Хозяин встретил его радушно:
– Прошу за стол, товарищ капитан.
– Нет. Спасибо. У меня еще служебные дела. А я хотел бы с вами поговорить, – сказал он Антонюку, познакомившись.
У Ивана Васильевича тревожно екнуло сердце.
– Что-нибудь с сыном?
– Нет. Все в порядке. Но мне хотелось бы вас кой о чем попросить. Может, выйдем? Простите нас, пожалуйста, Иван Трофимович. Я оторву вашего гостя ровно на десять минут.
На улице капитан сказал по-военному коротко:
– Командование части довольно вашим сыном, Иван Васильевич. Отличник боевой подготовки. Спортсмен. Одно нас беспокоит: он единственный у нас не комсомолец. Понимаете, неудобно как-то…
– Он был в комсомоле. – Иван Васильевич не знал, что он так и не восстановился, и это взволновало: значит, затаил обиду.
– Да. – сказал капитан. – Он рассказывал. Чего не случается в юности!
– Признаюсь, мы дома не знали, что и до сих пор…
– Я хотел написать вам, но потом решил, что неудобно. Я сегодня дал нагоняй своим, что вас не пригласили в часть. Простите.
– Ничего. Я поговорил с сыном под шум моря.
– Вы могли бы продолжить разговор? И как-нибудь повлиять…
Иван Васильевич задумался.
– Что вас удерживает?
– Думаю, что я отвечу, если Василь спросит: «Тебя, отец, просил наш замполит?»
– Я не делаю тайны из своего разговора с вами.
– Дело не в том, скажу я или не скажу о нашей беседе. Все это сложнее. Даже родного сына я не хочу уговаривать вступить в комсомол. Должна явиться душевная потребность…
– Вы не были политработником, – вздохнул офицер.
– Я был всем, дорогой капитан. Командиром и комиссаром. Знаете что? Давайте я поговорю со всеми вашими подчиненными, если уж мне, грешному, дозволено будет к вам прийти.
– Пожалуйста. Мы будем рады.
—…Я знал эту женщину еще до войны. Я работал заведующим райзо – районного земельного отдела. А она была лучшей льноводной одного из колхозов. Мы ее представили к ордену, но она его получить не успела – началась война. Фамилия ее Казюра. Марина. Марина Алексеевна, из деревни Казюры на Гомелыцине. Там у них половина деревни – Казюры.
Мы возвращались после небольшого рейда, и нас захватила в дороге метель. Мартовская. Последняя предвесенняя. Кто из средней полосы, тот знает последние метели. Когда, как говорится, три дня зима едет туда, а три обратно. Только уже после такой «свадьбы» можно ожидать весны. Мы ее здорово-таки ждали. Здорово ждали в ту первую партизанскую зиму. Все-таки летом воевать легче. Хотя и врагу легче. Но летний лес лучше укрывает. Мы совсем не собирались останавливаться в этих Казюрах. Там стоял полицейский гарнизон – мы это знали. Завязывать бой, даже с небольшой группой, после такого рейда нам было невыгодно: мало патронов, люди и лошади падали от усталости. Мы просто заблудились в завирухе. Полночи ехали по снежному полю и никак не могли добраться до леса, хотя у нашего начальника штаба был хороший армейский компас.
Догадались потом, что лошади чуяли близкое жилье, хлевы и, как мы их ни направляли, снова поворачивали к деревне. Мне пришлось скомандовать – дать волю коням, пускай они нас выведут хоть куда-нибудь. Помню, я еще пошутил над начштаба. что лошади умнее его компаса. Кони действительно скоро привели нас к хате. К крайней хате села. Я сам постучал. В войну люди были напуганные и отворяли ночью с опаской. Отвечали нехотя, покуда не доведывались, кто же их ночные гости – партизаны или полицейские. Долго в хате шуршали, чиркали кресалом… Наконец вышла старуха:
«Бабуся, что за деревня?»
«Казюры».
Я чертыхнулся: мы и в самом деле полночи кружили вокруг этих Казюр, потому что, по нашим расчетам, должны были проехать мимо них часа три назад. На мой голос выглянул из своего укрытия в сенцах сам хозяин, не старый еще человек, и сразу шепотом предупредил:
«Товарищ Антонюк, гарнизон у нас. В школе».
«Знаю. Но нам надо переночевать. Лошади не тянут. Думаю, спят они, ваши полицейские. Мы откуда заехали?»
Село большое, и от школы мы были не близко – на дальнем конце села. А что, если заночевать под боком у полицаев? Вряд ли кто нас мог видеть в такую завируху. А если и увидели соседи, так не выдадут же, не поднимут тревоги. Помимо всего прочего, кому охота, чтоб бой завязался в их селе?! Переночевать там, где стоит полицейский гарнизон, – недурная демонстрация нашей партизанской силы. Ей-богу, мне нравилась эта идея. Но хозяин охладил:
«Сосед ненадежный. Опасно».
Сказал он от души, заботясь о нас или, может, больше о том, чтоб не накликать беды на свою семью, неизвестно. В конце концов с нашей стороны тоже неразумно – ставить людей под удар. Лишняя осторожность никому не вредила в то время. К тому же в одной хате не разместиться – нас ехало человек семнадцать.
«Что ж нам делать?»
«Добирайтесь до Стригунов».
Стригуны – соседняя деревня, небольшая, ближе к лесу, до нее еще километра четыре.
«Боюсь, что снова будем кружить. Видишь, как разгулялась?»
«Я провожу».
Конь – умнейшее животное! Он сразу почувствовал, что правит им человек, хорошо знающий дорогу. Без приключений, довольно быстро мы добрались к месту ночлега. Провожатый наш ночевать не остался, как ни уговаривали его партизаны, зная, что слишком опасно в такую метель сбиться в поле с пути. Между прочим, я предложил тому дядьке:
«Иди к нам, разведчиком будешь».
«Не могу, товарищ Антонюк, легкие больные».
И правда – кашлял человек всю дорогу. Что ж, не может, так не может, никого силком не тащим.
А под утро, часа этак через четыре, не больше, часовой привел в хату, где я спал, Марину Казюру. Оказалось, что наш провожатый – ее брат. Его я не знал по довоенной работе. А ее знал хорошо. Я говорил уже, что она была лучшая льноводка… до войны… И сейчас работает. Года два назад я заезжал в Казюры. Марина – на ферме дояркой, учит молодых. Разбудили меня тогда – увидел ее, залепленную снегом, и испугался.
«Что случилось, Марина?»
«Ничего, Иван Васильевич. Поговорить пришла». «В такой час?»
Улыбается. Шепотом, чтоб не разбудить партизан:
«А как же еще поговорить с вами могу? В район не поедешь. В райзо не зайдешь». «Что ж, давай поговорим».
Накинул я кожух, присел к столу. Она развязала платок, осторожно, у порога, отряхнула снег, тихонько обмела бурки, сшитые из старой шинели. Шепчет:
«Иван Васильевич, хочу посоветоваться с вами насчет хлопцев своих».
Сыновей ее я тоже знал. И что муж ее в первый день войны ушел в армию.
«А что с ними, с твоими хлопцами?»
«Да покуда ничего. Но страшно мне за них. Рвутся немцев бить. В партизаны собираются. Оружие всякое в хату тащат. Чего доброго, накличут беду. С полицаями заедаются. И ругала я, и лупцевать пробовала. Да где там! Чует сердце – не удержать мне их. Но куда они пойдут, к кому угодят… Вон, говорят, и полицаи иной раз партизанами прикидываются. И бандиты всякие… Я уж думала: если б где свой человек был. А тут брат мой, Савка, постучался середь ночи и рассказывает новость: «Марина, говорит, ко мне только что партизаны заезжали. И знаешь, кто ими командует? Антонюк…»
Короче говоря, попросила она взять ее сыновей в отряд. А хлопцы, в сущности, дети еще: одному неполных семнадцать, другому – пятнадцатый. Одного старшего нельзя, младший все равно из дома сбежит. Нелегко матери самой отправлять детей на войну. Больше у нее никого. Муж на фронте, неведомо, жив ли иль, может, давно уже в земле. Одна остается в пустой хате. Да еще, наверное, полиция привяжется: куда девались сыновья? Дознаются, что в партизанах, добра не жди. Она не говорила об этой своей материнской боли, о страхе. Но я понимал. Она лишь попросила:
«Будьте им за отца, Иван Васильевич. Вам доверяю…»
Я мог бы гордиться: нет выше на свете доверия, чем это – когда мать отдает тебе своих детей. Но ведь она, конечно, надеется, что я сберегу их и верну возмужавшими, героями. Да понимает ли женщина, что ни ей, ни себе, никому не могу сказать: да, я сберегу их, твоих детей, не горюй, не тревожься… В отряде были уже дети. И я отвечал за них… А это – поверьте – самая тяжелая ответственность. Откровенно скажу, мне совсем не хотелось добавлять к ней ответ еще за двоих. Хотя я подумал, что мы, партизаны, так же как солдаты и офицеры на фронте, отвечаем за всех детей. Легче ли мне будет, если эти подростки, рвущиеся в бой, погибнут зря, ничего не успев сделать? Прошло столько лет, а я до сих пор помню, что перечувствовал, пережил за те минуты, пока женщина, не сводя глаз, ждала ответа. Помню, как долго я молчал. Дольше, чем это можно в разговоре с глазу на глаз. Но была ночь, на полу спали партизаны. Мы разговаривали шепотом, как заговорщики или влюбленные. А потому молчать можно было дольше, чем в обыкновенной беседе. К тому же я устал и был простужен, не выспался, голова гудела, как котел. Перед глазами стояли ее хлопцы, которых я видел год назад, – помогали матери полоть лен, тот, что потом помяли танки. Остатки выбрали бабы, кто успел.
Марина понимала, что мне нелегко решить. Она не торопила, не повторяла просьбы. Сплела, облокотясь на стол, и смотрела в глаза. На выбившихся прядях волос, на бровях блестели капельки растаявшего снега. Может, показалось ей, что я хочу отказаться от ее хлопцев. Тяжело вздохнула и сказала:
«Все равно не удержать мне их. Пойдут вас искать. А где найдут? К кому попадут?»
«Ну что ж, Марина, давай твоих сынов. Одно обещаю: сделать из них хороших партизан».
Она не обрадовалась. Какая тут радость? Не поблагодарила. А как-то сразу ссутулилась, натянула платок на лоб п от этого постарела. Молчала. Может, не так долго, как я перед тем. Но помню – какое-то время молчала, как бы не зная, о чем еще говорить. Поднимаясь, сказала просто, буднично: «Так подождите здесь. Пришлю их».
О нет, женщина, так не делается! А если кто из недобрых людей видел нас? Донесет властям? И в ту же ночь ушли из дома твои сыновья. Теперь мы в ответе и за твоих сыновей, и за тебя. Я сказал ей об этом. Посоветовал: пусть она распустит слух, что посылает ребят к какому-нибудь родичу в далекое село пли в город. Есть у нее кто-нибудь такой? Есть. В Гомеле. И мужа сестра живет под Рогачевом. А через недельку-другую мы пришлем связного, который приведет хлопцев в отряд.
Поблагодарила. Но – чуял я – не поверила. Подумала: так хитро хочу отвязаться от нее. Может, не очень огорчилась. Может, жила еще в материнском сердце надежда уговорить сыновей остаться дома. Довольно, что батька воюет. Связной Рощихе, которую мы послали в Казюры к Марине, я дал наказ; постараться уговорить младшего остаться с матерью. Пускай подрастет. Рощиха – председатель сельсовета, женщина опытная, сама вырастила детей – бодро уверяла:
«Можешь не беспокоиться, командир. У меня все будет чин чинарем».
Но ничего у нее не получилось. В отряд пришли двое – Володя и Петя.
«Чертенок, а не ребенок, – сказала Рощиха про младшего, про Петю, – ему хоть кол на голове теши».
Старший, Володя, был парень рослый, но тихий, не по возрасту солидный и не по возрасту разумно-осторожный, хотя и смелый. Брат его, Петя, на вид совсем мальчуган, больше двенадцати ему никак не дашь. И по характеру – вьюн, непоседа, озорной насмешник, неудержимый и неутомимый выдумщик. Смел безрассудно, по-детски лез под каждую пулю. Одним словом, хлопот с ним было немало. Комиссар, начштаба, партизаны не раз требовали: отправить его обратно к матери. Но я знал – нельзя, хлопец начнет воевать в одиночку и… погибнет. Однако возмущенные его выходками командиры оттаивали, прощали его, когда Петя возвращался из разведки. Лучшего разведчика у нас, пожалуй, не было. По росту – ребенок, дитя горемычное, попрошайка бездомный, а по хитрости – профессиональный агент разведки.
Петя подал заявление в комсомол. Его не приняли, договорились дать ему понять, что дисциплина есть дисциплина, Он заплакал от обиды, клялся перед всеми, что никогда больше не будет выкидывать никаких «коленцев». И в тот же вечер командиру взвода, который первым высказался против, сунул в котелок с супом лягушку. Когда, как – никто не видел, никто не мог доказать. Комвзвода сам наливал себе суп. Его чуть не вывернуло наизнанку, три дня ничего есть не мог. Командиры возмущались: Петина работа. Партизаны хохотали: «Вот дед Щукарь!»
Позвали Петю.
«Опять ты за свои штуки!»
«Да что вы, товарищ командир, я первым поужинал и уже мыл котелок, когда они пришли, комвзвода и врач».
«Так ты договоришься, что это врач сделал».
Глаза сразу завертелись, что колесики.
«А что? Врач нам рассказывал, что у какого-то народа – забыл, у какого, – лягушка самая вкусная еда.»
Но вышло так, что я сам послал детей Марины на смерть…
В августе сорок второго мы совершили недолгий рейд за Днепр. Цель была – сорвать оккупантам хлебозаготовки, пустить красного петуха на их склады. Где удастся – забрать хлеб и схоронить на зиму. Отряд рос. За полгода вырос чуть ли не втрое. Людей надо кормить.
Появление партизан в безлесном районе, где оккупанты и полицаи чувствовали себя хозяевами, нагнало на них страху и вызвало панику. Первые дни мы жгли склады, раздавали награбленный фашистами хлеб тем, кто его растил – крестьянам, отослали обоз в лес, не встречая серьезного сопротивления. Без боев. Бывало, что бобики, удирая, пальнут – и все. Но через неделю немцы бросили на нас батальон СС. Механизированный. Карателей, которые хвастались, что очистили от партизан не один район. Вступать с ними в бой мы не могли. Силы неравные, да и позиции не те, что в лесу. В таких случаях главное – оторваться от врага. Чтоб обмануть карателей, небольшая группа партизан инсценировала ночью прорыв на запад, в полесские леса, по дороге совершила дерзкий налет на довольно крупный полицейский гарнизон. Казалось, фашисты клюнули на это. Десятки машин, два танка кинулись догонять наших разведчиков. Отряд двинулся в другую сторону. Однако враги не так глупы, они знали, откуда мы пришли и куда можем отойти. На переправе, нашей, партизанской, поджидали в засаде полицаи. Мы, конечно, могли их разбить. Но вряд ли это помогло бы нам переправиться с ходу. Ясно было, что лодки наши и плот захвачены, что на том луговом берегу тоже враг. Кроме того, если здесь – полицейский сброд, слабо обученный и плохо вооруженный, то там наверняка каратели с автоматами и минометами. Не обнаруживая своих сил, своего огня, я бросил отряд вниз по реке. Не шли – бежали. Удирали от врага. Для партизана это не позорное слово – удрать. Цель: пока не рассветет, переправиться любым способом. Нам не много надо. Полдесятка рыбачьих челнов для пулеметов, для тех, кто не умеет плавать, для раненых. Повозками можно пожертвовать, хотя и жалко. Большая часть людей и лошадей переплывут сами. Лето было жаркое, и Днепр обмелел.
Но в каждом селе, где можно было бы достать лодки или бревна, отряд встречали полицаи. Откуда их столько взялось! Они не лезли в бой; они поднимали тревогу. Ясно: давали сигнал, где мы. По этим сигналам за нами шли – заметили хлопцы из группы прикрытия – по тому, луговому и лесному партизанскому берегу каратели. Делалось все, чтобы не дать отряду переправиться, чтоб навязать бой на безлесном берегу среди бела дня. А день наступал. Там, над нашим лесом, таким родным и манящим, светлело небо. Но до него, до наших болот, где и в августе донимали комары, стало уже далеконько. Переправляться нельзя. Неразумно. Зачем бросать людей под пули? Переть на врага в лоб – не партизанская тактика. Меня не так уж пугало то, что мы останемся еще на день здесь, в полевом районе, и что нам предстоит долгий и тяжелый марш, чтобы ввести врага в заблуждение, запутать следы.
Но… поверьте, я человек без предрассудков, со школьных лет не верю ни в какие чудеса, однако, кажется, именно с того времени, с той ночи, я начал верить в предчувствия. В отчаянии кричит мать в тот день, может быть, в ту самую секунду, когда за сотни и тысячи километров гибнет сын. Вероятно, когда-нибудь ученые откроют некие биотоки, объяснят и такое явление. А может быть, все это проще? Такие предчувствия редко посещают молодых, у кого не так много забот. Чаще – тех, кто несет огромную тяжесть ответственности за людей. Может быть, это кульминация или взрыв их беспрестанной тревоги, волнений, что сосут и сосут сердце и накапливаются в нем, как яд, как взрывчатка.
О лагере я не переставал думать. Очень возможно, что жила и тревога – скрытно, заглушённая другими мыслями, заботами. А тут вдруг ударила в самое сердце, скажу я вам, прямо-таки физической болью. Я и теперь помню, чувствую ее. эту боль. Как только стало ясно, что переправиться не удастся, что надо отводить отряд от Днепра, в обход фашистских заслонов, тут же и екнуло: лагерь! Наш лагерь! Кто мог с уверенностью сказать, что немцы не знают, где он? Не потому ли так упорно преграждают нам путь домой, что готовят нападение на лагерь? Вряд ли они надеются разбить нас здесь, в открытом бою. Не очень-то мы пойдем на такой бой. Ищи ветра в поле. А вот обескровить, уничтожить базу, запасы… В лагере немногочисленная охрана, раненые, женщины, дети… Нет, детей тогда еще почти не было, семейные отряды появились поздней, после большой карательной экспедиции, когда немцы пожгли села. Но и тогда уже у нас жила маленькая девочка… Вита, ей было всего восемь месяцев. Она родилась в отряде в декабре сорок первого, в нашу первую партизанскую зиму.
Рассказывая, Иван Васильевич все время смотрел в зал: узкая и длинная комната, залитая ярким светом ламп, с чертежами сложных электросхем на стенах.
Нет, чертежи он заметил вначале, между прочим. А в течение всей беседы видел лишь одно: глаза этих красивых, аккуратно причесанных парней, черноволосых, белокурых, каштановых, в ладно подогнанной флотской форме… Они вплотную сидели за черными столиками, за которыми изучали сложную технику по этим чертежам, и на стульях вдоль стен (за столиками мест не хватило).
Некоторые – в очках, и глаза их нельзя было разглядеть. Иван Васильевич удивился: никогда не видел в армии такого количества людей в очках. Даже в войну.
Слушатели поначалу смотрели на него по-разному: одни – с откровенным любопытством в глазах, другие – с ироническим прищуром: мол, поглядим, что ты нам преподнесешь! Третьи – равнодушно: всё мы уже слышали. Часть устала, это выражалось по-разному: а, все равно, хоть отдохну! Или наоборот: не разводи только бодяги надолго, хватает с нас докладов и без тебя.
Антонюк понимал их. Во всяком случае, после разговора с сыном казалось, что он понимает этих ребят значительно лучше, чем их университетских ровесников – Ладиных друзей. И уважения к матросам чувствовал больше. Любви. Отцовской. Подумал, что это не совсем справедливо по отношению к тем, кто бессонными ночами грызет квантовую теорию. Успокоил себя, что сердцу не прикажешь, кого любить больше, кого – меньше. Наконец, все меняется в зависимости от времени, обстоятельств, настроения. Может случиться, через неделю или месяц такое же умиление – видно, старческое уже чувство – появится перед кем-нибудь другим. Перед Ладой – наверняка. Лада – частица его любви постоянная.
Во всяком случае, чувство, что он догадывается, о чем думают эти парни, помогло ему, говоря лекторским языком, «наладить контакт с аудиторией».
В глазах он вплел разное, пока рассказывал о партизанской войне в общих чертах. Значит, не очень задевало то, что происходило тогда. Когда же заговорил об этом конкретном эпизоде, во всех глазах загорелось одно, даже очки стали поблескивать совсем по-иному. Во всех… кроме… Кроме глаз сына. У Василя все еще таилась – не во взгляде, в складках губ – ироническая ухмылка. Очень знакомая ухмылочка – его, Антонюка; он такой вот усмешкой многих «вышибал из седла».
Не так давно один высокий гость Беловежи, ныне такой же пенсионер, как и он, Антонюк, после охоты, во время обеда, вдруг раскричался: «Мне очень не нравится ваша усмешка! – И показал пальцем: – Ваша! Ваша!! Кто вы такой?» – хотя хорошо знал, кто он такой, – вместе охотились. С того дня началась подготовка к торжественным проводам Антонюка на пенсию. А может быть, проводы того гостя готовились еще раньше?..
Иван Васильевич без раздражения, с любовью мысленно просил сына: «Не надо, Вася… Не надо иронии. Вчера на берегу у обелиска ты был совсем другой. Да, я напросился на выступление. Напросился, уверенный, что это нужно тебе и твоим товарищам. Ты сам подсказал мне, в нашем разговоре у памятника». Ирония Василя, усмешечка эта мигом исчезла, когда он сказал про Виту. Сын застыл, напрягся, вытянул голову вперед, как бы желая приблизиться, чтоб не пропустить не то, что слова, ни единого движения отца. Это почти испугало Ивана Васильевича. «Что он знает? Ничего он не знает. Или, может быть, до него что-то дошло? Когда они с Ладой были маленькие, у матери изредка прорывалась женская обида». Такой неожиданный интерес сына немножко сбил с толку.
– Много людей для защиты лагеря послать мы не могли. Во-первых, нельзя обескровить отряд. А вдруг нам все-таки придется вести бой, прорываться из окружения? Нужна сила. Во-вторых, не каждый партизан с ходу, ночью, уверенно, без риска, решится переплыть Днепр. Не хватало еще – потопить людей. Таких смельчаков набралось тогда сразу человек десять. Казюры, Володя и Петя, были при мне. И я сам послал их. Должно быть, я подумал, что они будут в большей безопасности, чем здесь, с нами. Очень возможно, что нам придется прорываться с боями и Петя полезет под пули, как уже лез не раз. Там же еще неизвестно – нападут на лагерь или нет. Может, тревоги мои напрасны. Если и нападут, группе не ставилась задача защищать лагерь. Прежде всего: вывести из-под удара раненых, женщин. Попытаться, конечно, задержать карателей до прихода отряда. Если же видно будет, что это невозможно, взорвать склад, мастерскую, сжечь землянки. Я нарочно посылал командиром группы человека рассудительного, осторожного – бывшего военного, инженера Будыку. Правда, он боялся воды. Но его успокоили: ничего, мол, товарищ начштаба, с нами не потонете, если вы не топор и хоть немножко умеете держаться – вытянем.
Нельзя сказать, что группа замешкалась в пути, потом мы выяснили все обстоятельства. Течение отнесло одного подальше, другой выбрался ближе – кто как плавал. Людям пришлось потратить час, пока собрались в лозняках в тумане. О сигналах не условились, тут и моя вина – не подсказал, не предусмотрел. Звать боялись: кто ведает, где враг? Свистели по-птичьи. Троих не дождались: одного немолодого партизана и братьев Казюр.
Будыка решил, что они потонули или, испугавшись, повернули назад. До сих пор неизвестно, каким образом Володя и Петя оказались в лагере часа на два раньше группы. Можно только догадываться: то ли бежали всю дорогу, продрогшие, босые, чтоб согреться, то ли – что более вероятно – попались им на лугу кони. На болоте хлопцы заметили, что немцы и полицаи пробираются к лагерю. Обошли карателей, подняли тревогу. Очень своевременно. Передали приказ: раненым, женщинам отходить через болото в Рудыенский лес. А сами вместе с ребятами из лагерной охраны встретили карателей на опушке, на наших «минных полях». Бой был неравный: врагов сотни полторы, хлопцев – горсточка! Они почти все погибли до прихода группы Будыки, которая внезапным налетом с тыла оттянула карателей, заставила их отступить из лесу. Испугались гады, что вернулся отряд. Мы нашли только двух наших раненых – спрятались в кустах. Трупа ни одного. Убитых фашисты забрали с собой, – видимо, как доказательство удачной операции.
Мы провели траурный митинг – символически похоронили своих товарищей, над телами которых где-то глумился враг. О, с какой болью, с какой мукой хоронил я Володю и Петю! Что сказать матери?
А дня через два связные принесли весть: братья Казюры в плену. Думаете, стало легче? Но появилась надежда: может быть, удастся спасти ребят? Их держали в тюрьме, в городе. Тут же связной отправился к подпольщикам: что можно сделать? Через нашего человека в полиции узнали, как братья попали в плен. Когда из группы охраны уже никого не осталось, Петя, маленький Петя, попытался вынести своего тяжело раненного брата. Хотел оттащить в болото, спрятать в лозняках. Там и догнали. Схватили. Вскоре подпольщики передали, что Володя умер от ран. Остался один Петя.
Мы знали – его пытают, хотят выведать: сколько нас, какое оружие? Где запасный лагерь? Где спрятали зерно? Говорят: время залечивает все раны, забываются страдания физические, муки душевные. Нет, я не забыл. Ничего. Тех бессонных ночей, боли от мысли, что там, в городе, за тюремными стенами, бьют, пытают огнем мальчика, ребенка. Он был не только боец отряда, он – мой сын. Меня просила мать. Что я ей скажу? Зачем я послал ее сынов? Однако не кто иной, а они, братья Казюры, спасли других людей – женщин, раненых… Пока бы до лагеря добралась вся группа! А они – как сказочные герои. Словно на крыльях долетели.
Вернуть матери хоть одного сына! Но как вырвать его? Думал я. Думали все командиры. Весь отряд. Подпольная группа в городе. Действовали. Но осуществить планы не удавалось. Пришлось пойти на переговоры с врагом. Впервые. Предложили обменять Петю на полицаев – немцы не ответили. Что им какие-то предатели, холуи!
Снова бессонные ночи, боль и терзания. В одну из таких ночей я не выдержал, Поднял разведчиков, вскочил на коня. Даже комиссару и начштаба ничего не сказал. Далеко было от нашего нового лагеря до Казюр. А августовская ночь не так и долга. Уже светало, когда добрались туда. Хлопцы стали – двое на улице, один на огороде: полицаи, напуганные нашими рейдами, всю ночь несут охрану, не то что зимой.
Я тихонько поскреб по окну, Марина припала лицом к стеклу, узнала и… задохнулась, судорожно скомкала пальцами сорочку на груди и долго так стояла, онемелая. Открывать дверь не пошла – отворила окно, шумно, не остерегаясь, ударив кулаком в раму. Глухо спросила:








