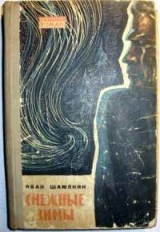
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Понимал, что при таком отношении невозможно работать, однако настроить себя на полное доверие никак не мог. Мучился в душе. Что случилось? Раньше так легко и просто входил в коллектив, срабатывался с разными людьми, а тут сразу нашел общий язык только с хозяином квартиры, учителем-пенсионером, да вот с этим «хранителем клада». Может быть, поэтому и полюбил отдыхать в зернохранилище. Но сегодня, кажется, лед тронулся. Поехали осматривать озимь – Захаревич, он и управляющий отделением Гриц – молодой агроном, скептически настроенный по отношению ко всему на свете и в то же время безжалостный к тем, кто работает не с полной отдачей.
Зима была снежная. Но снег лег на не подмерзшую землю. Кое-где озимые выпрели. Кое-где вымокают: воды – море, все низины залиты. Надо было осмотреть поля, хотя бы на глаз прикинуть площади пересевов, чтоб запланировать семена, технику, людей. «Газик» с передними ведущими далеко от дороги не прошел, как попал у перелеска в глину – едва вырвался. Ходили пешком. Сперва вел Захаревич. Но располневший директор скоро сдал. Взмок весь, распарился. Тогда повел он, Иван Васильевич. В своих высоких охотничьих сапогах лез в грязь чуть не по колени, потом в лощинах обмывал сапоги и шел дальше. И хоть бы что. Скинул фуражку, подставил седую голову солнцу и ветру. Захаревичу и Грицу (один моложе на двадцать, другой чуть не на тридцать лет) стыдно было отставать. Но часа через три директор взмолился:
– Иван Васильевич, помилосердствуй.
Молодой скептик смотрел на главного агронома с откровенным восхищением. Смеялся.
– Казимир Левонович! Задал нам жару старый партизан!
Они стояли на пригорке, где земля уже подсохла, прогрелась и где по-весеннему зеленели всходы. Иван Васильевич по шутливым репликам, по неуловимым мелочам, по тому, как закуривали, как смеялись, почувствовал: изменилось отношение к нему этих двух совхозных руководителей. Словно он выдержал какой-то трудный экзамен. Смешно это. Агроному не крепкие ноги нужны, а хорошая голова. А какова голова – судить можно по урожаю. Но впечатление произвели, должно быть, не ноги охотника, а настойчивость, воля и умение по-хозяйски увидеть посевы – где надо пересеять, сколько гектаров, чем засеять замокшие участки. Предложил посеять кукурузу на силос – Захаревич рассмеялся, довольный:
– А ты не такой уж антикукурузник, Иван Васильевич, как тебя расписывали, – и тут же хорошо, душевно попросил: – Прости. Не к месту старое вспоминать.
Потом, в машине уже, директор, в великолепном настроении, прямо-таки опьяневший от весны, по-комсомольски задорно воскликнул:
– Братки! Давайте поработаем так, чтоб о нас слава пошла!
Гриц хмыкнул – мол, к славе он тоже относится скептически. Это его хмыканье смутило Захаревича. И не понравилось Антонюку, который почувствовал искренность душевного порыва директора: человеку действительно хочется поработать с новой силой, с новым разгоном – и для славы, и для более высокой цели, и он ищет таких союзников, которые помогали бы не за страх и зарплату, а по велению сердца и совести, с таким же светлым горением, как у него. Видно, показалось, что приглашенный им главный агроном по возрасту своему не способен уже загореться. Не тот союзник. И вдруг, в этом походе по полям, увидел: да нет, может еще старик! Они, Захаревич и Антонюк, как бы настраивались на одну волну. А этот скептик мешает. Сказал что-то насчет того, что выше плеча рукава не засучишь, выше головы не прыгнешь…
Антонюк с молодым запалом бросился в бой:
– Руководитель в наше время не рукава должен засучивать, а мозги. Как мы планировали до сих пор? Частенько под нажимом людей, которые в экономике ни бе ни ме. Давайте пригласим ученых, пускай произведут экономический анализ хозяйства, дадут научные прогнозы. Ей-богу, затраты окупятся…
Гриц хмыкнул.
– Меня удивляет, что вы, немолодой, тертый жизнью человек, верите в лысых склеротиков или пижонистых кандидатов, которым только б диссертация да место в городе. Знаю я их.
– Я верю в науку.
– В некоторые науки и я верю. Но не в ту, которая занимается экономикой сельского хозяйства.
– Наука должна исходить из требований практики. Иметь простор. Базу для экспериментов. Разумеется, если там, в институтах, будут высасывать выводы из пальца… Если мы не дадим ни одной комплексной задачи…
Кричали в машине, толкаясь друг о друга. «Газик» швыряло на разбитой дороге. Кое-где он буксовал, мотор выл, грелся. Осмотрев поля, ездили на Березину любоваться разливом. Захаревич предложил: видно, хотелось ему, чтоб старый и молодой агрономы подольше поспорили. А он слушал и, как говорится, мотал на ус. Когда вернулись в село, к совхозной конторе, Захаревич пригласил:
– Приходите вечером ко мне. Весну встретим. У Григорьевны найдется чем угостить. Ее идея.
Захаревич и жена его – люди радушные. У них часто собираются. И он уже побывал у них в гостях. Поэтому приглашение ничего особого не означало. Но все вместе – как ходили по полю, как спорили в машине, как вырвался у директора призыв поработать на славу и как пригласил в гости – давало основание считать, что произошел какой-то перелом, изменилось отношение к нему. От этого поднялось настроение, стало действительно весенним. Может быть, потому и потянуло сюда, где хранятся семена, где готовятся они для сева. Для его сева. Сегодня, кажется, признали, даже молодой скептик этот, что не забавы ради он приехал сюда, не из стариковского чудачества или самолюбия. Что он может еще посеять и вырастить хлеб для людей. Не один раз посеять. И не один раз сжать. Пахнет зерном. Пахнет жизнью. И весной. Солнце бьет в хранилище. Свистит ветер, будто хочет поскорее вынести живую силу зерна в поле»
Глава XV
Позвонила Ольга. Долго расспрашивала о здоровье, о работе, пересказывала письмо сына и как бы между прочим сообщила:
– Телеграмма тебе. Слушай: «Иван, помоги найти Виту». Без подписи. – С иронией и ревностью усомнилась: куда она могла деваться, ваша Вита? Но тут же сомнение сменилось материнской рассудительностью, даже тревогой: – Загубите вы девушку своими тайнами…
Может быть, сама телеграмма без этих слов жены – «загубите вы девушку» – не прозвучала бы, как отчаянный крик о помощи. А тут екнуло сердце: случилась беда. И очень может быть, что виноват он. Надо ехать. Не теряя ни минуты.
9 декабря 1964 г.
Давно не открывала эту тетрадь. Должно быть, с год. И вот снова захотелось вдруг взяться за нее. Почему? Дневники ведут влюбленные. Несчастные. И вероятно, очень счастливые. А я? Бумаге могу открыть тайну: кажется, я влюбилась. Хотя случилась эта «беда» не вчера, однако писать о ней ни разу не захотелось. А об этом… Человек сказал, что он мой отец. Была я сиротой, и вдруг у меня отец – партизанский командир. Ура! Смеяться или плакать? Мать, которая так темнила насчет моего рождения, признала этот факт. А кому, как не ей, знать, чья я дочь. Но все-таки кажется, что и сейчас она чего-то недоговаривает, моя святая мама. Грустно. Обидно. Какие дурацкие предрассудки! Законно рожденная я или незаконно? Что значит законно или незаконно? Ханжество. Идиотизм. Мне все равно, как я рождена, по каким законам. Ой, так ли? Думала ведь, что мне безразлично, кто мой отец, есть он или нет. А выходит, не безразлично. Вот тебе и на!
Подростком я возненавидела этого человека, когда поняла, почему он изредка наведывается. Но постепенно ненависть прошла. Я узнала жизнь и тайная любовь матери показалась мне смешной и наивной. Если б я так не любила маму, наверное, при моем дурацком характере подсмеялась бы над ней. И то, случалось, вырвется, я натура грубая, несдержанная. Как-то спросила: «Почему это твой любимый больше не приезжает?» Она вспыхнула, как девчонка. А потом плакала тайком. Я просила прощения. Ведь это моя мать. Никого у меня ближе ее и дороже не было и нет. Ох, как мне хотелось поиздеваться над ним, когда мать, краснея, шепнула в школьном коридоре, что приехал ее «партизанский товарищ»! Ох, думала, выдам я этому товарищу! Прямо руки чесались. Но она словно почувствовала: «Я прошу тебя, Вита… Я прошу…»
Догадалась, о чем она просит. Пришла домой, а он спит на диване. Как ребенок. Маленький. И старый уже. Разве обидишь такого? Правда, когда он сказал, я чуть не взбунтовалась. Хотелось крикнуть: «А не запоздало ли ваше признание, дорогой И. В.? На кой черт мне теперь ваше отцовство!» Но после его слов у меня язык не повернулся говорить с ним грубо, бестактно. Все всколыхнулось во мне. Выходит: отец все-таки что-то значит. Вот тебе и условности. Точно заворожил. Такая добренькая стала, вежливенькая, что даже противно вспоминать.
У него – семья, дети. У меня – сестры и брат. И смех и грех. Была я без роду, без племени – и на тебе. Сразу разбогатела. Фантасмагория какая-то. Сон. В самом деле будто сон. Неделю хожу как очумелая. Расспрашиваю у матери: как же я все-таки на свет появилась? Смущается, краснеет, как девочка. Жаль мне ее. И злость разбирает. «Да не маленькая же я, мама! Когда-нибудь до тебя дойдет, что я не только взрослая, но и перерослая!» Темнит чего-то моя мамочка. Ой, темнит. Потому и радость моя потускнела. Сомнения пришли. Не сговорились ли они? Нет, мама подтверждает, что правда, он мой отец. Такой сговор невозможно понять. Хотела потребовать у матери «Поклянись!» Побоялась – обидится.
В первые дни так хотелось Олегу сказать, что И. В. мой отец. Расхотелось. Не скажу. Спросила, что он думает об И. В. «Колючий он. Рядом с таким трудно жить. Как ни повернешься – уколешься». – «А ты любишь мягоньких? Как пуховая подушка? Так знай: и я такая же колючая!» Хотелось поссориться. Но с Олегом не поссоришься: очень уж он добрый. Добрый или добренький? Не люблю добреньких! Не люблю мягоньких, ласковеньких! Если И. В. такой, как говорит Олег, то я, несомненно, его дочь.
Спросила у матери: «И. В. был суровым командиром?» – «Со своими, с партизанами? Что отец родной. Любил людей, берег. На глупую смерть ни одного человека не послал». Нашла объективного судью! Мама на него молится. За такую любовь, какую пронесла через всю жизнь мама, можно все простить. Я хотела бы так полюбить, как она. Пускай даже так неудачно – женатого. Выпал снег. Глубокий. А то все дразнил только. Люблю снежную зиму. Все вокруг будто только на свет родилось.
Ходили с Олегом на лыжах. Он не умеет. Странно. Где человек рос? Чем занимался до тридцати лет? Учила его. На речке провалилась. Трамплинчик на берегу мне понравился. Я прыгнула, а ледок слабенький, снегом засыпан. Ничуть не испугалась, потому что знаю: я при желании в нашей речке утонуть нельзя – воды по колено, осень сухая была. Олег перепугался – страх. Растерянный, не знал, как меня спасать. Бегал по берегу бледный, лыжу протянул: «Хватайся!» А зачем хвататься? Воды и правда по колено. И рядом – лед крепкий. Почему-то в одном месте такая проталина. Как будто там горячий источник. Мама и Олег часа три отогревали меня. Как маленькую. Чтоб не захворала. Мать растерла ноги спиртом. Поили чаем с водкой. Фу, какая гадость! Теперь пью чай с малиной. Напиток богов!
Надоели их заботы. Еле выпроводила в кино. Лежу одна. Иногда так необходимо человеку побыть одному. Тишина. По радио Чайковского передают. Хорошо! Даже плакать хочется. Старею, видно. В институте не любила классики – скучно. Эстраду подавай, джаз! И вдруг все наоборот. Мама порадовалась бы, если б узнала, что я плачу, слушая Чайковского. А может, это вовсе не от музыки? Я не так уж внимательно слушаю. Я думаю. Голова полна мыслей. О чем? Обо всем. Обманываю я сама себя. Больше всего – о нем, об И. В. Странно, но ни в разговоре с мамой, ни мысленно я не могу назвать его – отец. Но думаю, как об отце. Отступили сомнения. Хочу верить всему, что рассказала мать. Хочу любить. Что ни говори – хорошо, когда у человека – пускай ему и двадцать три – есть мать, отец. И сестры. И брат. Хочу любить вас всех, мои незнакомые родичи!
Репетируем «Лявониху на орбите». А во «дворце культуры» нашем – холод. В конторе совхоза – дышать нечем, окна раскрыты настежь, чтоб прогнать духоту, а тут пальто нельзя снять. Подбивала своих актеров всей капеллой пойти к Сиволобу. Один стесняются, другие боятся. Не согласились. Зайцы. Но зато дружно насели на Толю Плющая. Бедный Толик! Он хороший парень. Старательный работник. Но робок. Дрожит перед старшими, особенно перед начальством. Боится испортить отношения с директором, с парторгом. И от комсомольцев отбиться не умеет. Он – между молотом и наковальней. Я уже ему как-то сказала: «Расплющат тебя, Плющай, когда-нибудь». Смеется: «Меня «газик» уже раз переехал». Он – автомеханик. Лежал под «козлом», а шофер не заметил, решил отогнать машину, мешала ему. Колесо проехало по Толе. Ничего, ни одного перелома. Он, дурень, решил блеснуть эрудицией: «Я – как йог». С тех пор и прилепили ему кличку эту – Йог. Толя не обижается, а мать его очень расстраивается, считает это величайшим оскорблением. Ругается с теми, кто сына так называет.
Толя расхрабрился вчера, когда налетели на него за холодный клуб. «Пойду, говорит, позвоню Сиволобу, чтоб разрешил репетировать в конторе». А у нас – принцип. «На черта нам контора, где ни сцены, ничего. Натопите клуб». Хотя вряд ли можно его натопить. С Сиволобом я уже ссорилась. Пробить его, кажется, ничем невозможно. О, это тот кадр! Еще тот! Как будто так его назвал И. В. И. В. становится для меня авторитетом. А до него я разве не знала, что такое Сиволоб? Знала!
Надо попытаться взять его обходным маневром. Говорят, молодая жена из него веревки вьет.
Так долго не заходила к Сиволобам, потому что очень уж хотелось пойти в их дом-музей. Каждый день рвалась и каждый день удерживала себя. Рассказала всем девчатам: о кружке, надеялась, что дойдет до Сиволобихи и она придет сама. Не пришла. Раза два встречала ее на улице, в магазине. Она приветливо здоровалась, но ни о чем не спрашивала. Забыла о своем обещании. Или не хочет? Если б она повторила приглашение – я пошла бы за ней, как школьница за учительницей, с сердечным трепетом.
Сам Гордей Лукич, встретив однажды, удивил вниманием и приветливостью. «Почему не заходите, Виталия Ивановна?» А раньше не замечал, проходил мимо. Может быть, и потому еще не шла, что он пригласил. У меня гонора, что у шляхтянки слуцкой – у нашей Адалины Аркадьевны. Ох, как она ненавидит меня! Боже мой! За что? Учителя говорят: Адалина считала, что холостяк-директор должен достаться ей, как самой красивой, самой образов ванной – говорит по-английски, по-немецки, по-польски.
По-белорусски, правда, разучилась, голубушка. Я однажды сказала ей об этом. Как она взвилась! Но я на нее не сержусь. Жалко ее. Ей так хочется замуж. А разве я виновата, что не она, а я понравилась Олегу? Никакая я не добрая. Я злая, хорошая язва. Каждый день поддеваю ее – Адалину. Тетка Марина, ее хозяйка, говорила матери, что квартирантка плачет по ночам в подушку. А я ее помню, когда плакала. Может, это и правда для нее трагедия? А для меня – шуточки. Разбрасываюсь я сегодня, как развесистое дерево, во все стороны. «В огороде бузина, а в Киеве дядька». Хотела только записать, как ходила к Сиволобихе, а доехала до Адалины. Ей сейчас, наверное, икается. А мне уже пора в постель, завтра – первый урок. Слышу: мама не спит, прислушивается, затаив дыхание, как будто хочет на расстоянии услышать, о чем я пишу. Она думает, что это из-за любви я так расписалась, потому что раньше ведь этого не было. Нет, мама, главная причина того, что я снова завела тайную беседу с дневником, не моя любовь, а твоя – появление И. В., открытие тайны, которую вы так долго хранили. Аминь! Доброй ночи, Виталия!
Вчера мой визит к Сиволобихе казался важным, разговор – интересным. А сегодня стыдно за это посещение. Развалилась, как барыня, на мягком диване, пейзажиками любовалась, орешки грызла, конфетки, ликерчик потягивала. Тьфу! Как мещанка. Слушала пустую болтовню. И сама всякую чепуху молола. Просидела два часа. О, эта кошечка может заморочить, заворожить, вызвать на откровенность.
«Вам хочется иметь ребенка, Маша?» «Ребенка? Я уже старуха, мне тридцать пять лет». Уклонилась от откровенного признания, хитрюга. «А вам, Вита?»
«Мне хочется иметь сына. Красивого и умного».
Сама себе никогда не признавалась в таком желании, а тут – на, любуйся, какая я. А может быть, неправду сказала? Для красного словца или ей в пику: ты не хочешь, а я хочу. Но сегодня все равно стыдно. Как можно девушке говорить такие вещи? Она перескажет мужу, даже, может быть, Олегу. Разнесут по селу. Ворона я все-таки.
«Почему же вы замуж не выходите?» «Никто не сватает»
«Мужчины глупые. Не видят, где сокровище. Вам Олег Гаврилович нравится?» Я не ответила.
«Покраснели. Значит, нравится».
Мама родная, как позорно я себя вела! Я, которая никому ни в чем не уступаю, за словом в карман не лезу, при том первом нашем посещении сиволобовского музея с И. В. и Олегом такие шпильки подпускала этой самой Маше, что ее, верно, и сейчас колет! «А собачки у вас нет?» Однако же она умеет и ответить: «У нас есть кошка. Она ловит мышей». Неизвестно еще, кто кого сильнее уколол. В конце концов, если быть справедливой, нельзя не признать, что женщина эта умеет держаться, умеет нравиться. Не случайно она меня заворожила. Да я, перед ней, что кролик перед удавом.
На мою просьбу помочь нам оформить спектакль, сделать эскизы костюмов Маша засмеялась: «Вита, милая, какие эскизы! Вы станете шить костюмы для спектакля из колхозной жизни?»
Об эскизах я, разумеется, ляпнула ради красного словца, чтоб поднять значение нашей работы. Никаких костюмов шить не будем. Кто нам даст деньги? Да и зачем, когда актеры в таком спектакле могут выйти в своем обычном виде? Но только тут, кажется, не поддалась ее гипнозу: настойчиво просила ее подобрать нам костюмы и сделать декорации.
«Да не делала я этого никогда».
«А вы попробуйте. Неужто вам не интересно побыть среди молодежи? Разве не скучно сидеть одной?»
Вопрос этот заставил ее чуть помрачнеть. Видно, все-таки скучно. Но дурацкий гонор, как у Адалины. Должно быть, чтобы отвязаться от меня, обещала попробовать.
«Только дайте мне время проверить себя. Что я умею?» Проверяй на здоровье.
А вот школой почему-то сама заинтересовалась – кружком кройки и шитья. Теперь ее не шокировало такое прозаическое занятие. «Художник не шьет». Теперь сама сказала, что без практического шитья моделирование не имеет смысла и теоретически хорошему вкусу не обучишь. Что правда, то правда. Если рассудить спокойно, в вечерней тишине, сходила я к ней не без пользы. Напрасно весь день сегодня терзалась, хотя вчера чувствовала себя победительницей. Нет, Виталия, вела ты себя все-таки во многом несоответственно твоему характеру и принципам. Согласись с этим, покайся и… ложись спать.
…Адалина давно распускает обо мне грязные сплетни. Игнорируя, как говорят, общественное мнение, я вечерами захожу к Олегу в его холостяцкую комнату при школе. Еще в институте я была злейшим врагом условностей и предрассудков. Но то, о чем чешут языка Адалина и другие кумушки, могло случиться лишь вчера. На счастье, не случилось. На чье счастье?
И раньше мы целовались. Не святые. Вчера он начал меня целовать, когда я сидела на диване. Целовал очень горячо. И мне было приятно. Я не отталкивала… пока рука его не полезла, куда не надо. Тогда я так рванулась – недаром в институте была разрядницей, – что он очутился на полу. Меня рассмешило, как он плюхнулся. А он обиделся, разозлился, бросил мне: «Дура!» Тогда и я разозлилась, наговорила черт знает чего и выскочила как ошпаренная. Мне надо было похулить где-нибудь в поле, чтоб успокоиться. Но снег занес все дороги и тропки. Мело. И я сразу пошла домой, разгоряченная, взволнованная. Вид мой испугал маму. Как она вглядывалась в меня! Долго. Молча. И как я прятала глаза! Мама не выдержала, спросила:
«Что с тобой, Вита?»
«Ничего, мама».
Я, конечно, покраснела, смутилась, как школьница. О, мама, мама, какой у тебя острый глаз! Мучительные минуты пережила я, пока не догадалась, что лучше всего сказать если не всю правду – стыдно, – то хотя бы полуправду.
«Я поссорилась с Олегом».
Мать вздохнула, показалось мне – с облегчением. Знаю: ей не очень нравится Олег и мои отношения с ним. Но я стала его оправдывать. «Не думай дурно об Олеге. Это я виновата. Ты же знаешь мой характер. Начали со спора о пустяках, а кончили тем, что поссорились. Я нагрубила». Что я могла нагрубить – в это мама поверила. Странно. И обидно. Даже мама считает, что я такая. А кого я обидело? Обижают меня. Опять-таки даже мама считает, что я очень уж современная: в поведении, во взглядах на жизнь, на людей, на искусство – во всем. И никто не знает, что я, может быть, самая старомодная.
То же было в институте с Леней. Год дружили. Все девчата были уверены, что мы поженимся. Но когда весной в лесу он вот так нахально хотел взять меня – я возмутилась и дала ему по морде. И кончилась на этом Ленина любовь. Назавтра он пошел с Ленкой Квашей, а перед выпуском они поженились. Уже дочка у них есть. А я осталась с носом. Хорошо, тогда мне было двадцать. А теперь двадцать три. Кому нужно такое целомудрие в моем возрасте? Тем более что говорят обо мне и думают совсем другое. Возможно, даже мама не уверена, что я не знала мужчины. И никого не убедишь. Мне нелегко будет пережить, если Олег отвернется так же, как Леня. Его немедленно пригреет Адалина. Она красива и, конечно, белее опытная, не такая глупая, как я.
Каюсь? Жалею? Нет! Нет! Не каюсь. Не жалею. Пойми же ты, культурный человек, интеллигент, что не могу я так. Не могу. Оскорбительно это. Гадко. Я жду, чтобы ты назвал меня женой. А ты… Думаешь, я не хочу ласки, не тоскую по ней? Но ведь ты же не назвал меня своей женой. Что же тебе надо от меня? Если ты любишь, зачем же тебе надо так грубо девушку унизить? Ты же сам перестанешь ее уважать. А может быть, как раз наоборот. Мама… Я как-то спросила у нее:
«Ты знала, что И. В. женат?»
«Он сам сказал».
«На что же ты надеялась?»
«Ни на что. Я полюбила».
Выходит, что надо полюбить до безумия, до самозабвения, чтобы всеми поступками руководили чувства, а не разум. Я, наверное, люблю слишком рационалистически. Поэтому мне суждено остаться старой девой. Не слишком радостная перспектива, но что поделаешь… У мамы моей судьба не слаще. Она полюбила женатого человека и до старости осталась верна ему, многие годы не получая никакой награды за свою любовь. Я, дура, не догадалась тогда вечером уйти куда-нибудь с Олегом, чтобы они, И. В. и мама, остались вдвоем. Они же, в сущности, так и не побыли наедине. Но мысль об их связи тоже неприятна, оскорбляет. Противно, когда такие старики милуются.
С трепетом шла в школу. Как посмотрю Олегу в лицо? Как встретит он? Ничего. Как говорится, глазом не моргнул. Встретил мягко и был, пожалуй, еще внимательней, чем всегда. Адалина синела от злости. Но сегодня это меня почему-то не радовало.
Идет снег. Третий день сыплет. Сколько его навалило! Из райцентра не могут привези кинокартину. Пророчат: будет урожайный год. Не очень верю пророкам. Наши пески просыхают за неделю, а торфяники до июня будут залиты водой после такой снежной зимы. Я ведь помню, выросла здесь. Только тогда меня мало интересовали дела колхозные. А теперь все интересует. Во-первых, я – биолог, я должна научить детей любить землю, а не все теперь ее любят так, чтоб она щедро платила за любовь и ласку. Во-вторых, не могу относиться равнодушно к радости и горю людей, удачам и неудачам в работе, к порядкам в совхозе, школе, к благородству и низости, к хорошим людям и хапугам, наживалам. Если уж я решила навсегда остаться в своем селе, которое стало мне родным, то хочу сделать что-нибудь путное. Потому и воюю за школу, за клуб, за памятник партизанам. Думала: Олег будет моим верным союзником. Напрасно я надеялась, кажется. Нет, он ничего, поддерживает. Но очень уж старается со всеми сохранить хорошие отношения, ни с кем не ссорится. А разве это возможно? Самое опасное, что под его влиянием и я сдаюсь, становлюсь такой же – моллюском бесхребетным. Мне следовало бы восстать против сиволобовского мещанского быта, а я хожу и – стыдно признаться – любуюсь и картинами, и мебелью, и сервизами. Вчера опять заходила. Правда, не сидела так долго, как в тот раз, но конфетками угостилась. И сейчас вот захотелось пойти к ним, ведь больше некуда. К Олегу не могу. И он не приходит.
Вдруг стало совсем не все равно, что обо мне говорят, думают, о чем сплетничает Адалина. А что, если пойти к ней? Удивить. Идея, заслуживающая внимания, но без моральной подготовки осуществить ее нелегко. Как-нибудь в другой раз. Зима впереди, Однако и к Сиволобам не пойду. С одной Машей еще приятно посидеть. С женщиной всегда найдешь общий язык. А сейчас, вечером, наверное, этот старый лапоть дома. О чем я с ним говорить буду? О холодном клубе? Ловлю далекие станции. Представляю города. Захотелось туда, где море огней и потоки людей. Может, в самом деле съездить к И. В.? Сперва загорелась, а потом стала потухать. Неловко будем чувствовать себя – и он, и я.
Из приемника льется такая душевная музыка, что хочется и смеяться и плакать. Не знаю даже – чья. Кажется, Григ. Мама светится – рада: наконец умнеет дочка. От джазов у мамы болела голова. Пришел Олег – серьезный, почти торжественный и при матери трагическим голосом открыл еще одну страничку своей биографии: официально он не разведен со своей бывшей женой, она не дает развода. Ничего себе страничка! Сколько еще таких страниц в его светлой биографии? Через полгода так же трагически сообщит, что у него не одна жена, а три и табун детей? Ломаю голову: почему он до сих пор молчал? С какой целью? Зачем рассказал теперь? Назло мне? Или чтоб оправдаться? Мол, рад бы в рай, да грехи не пускают; давно предложил бы руку и сердце, да вот видишь – связаны руки мои. Вскипела я. Хотелось поговорить с глазу на глаз. Но махнула рукой. Олег предложил пойти погулять. Отказалась.
«Я понимаю, – виновато склонил он голову. – Тебе больно. Прости мне малодушие. Я хотел все уладить, тогда сказать».
Мне больно? Нет. Боли не чувствую. Вру однако. Все-таки что-то треснуло вот здесь, под грудью, под моей полной и красивой грудью… она давно уже просит прикосновения нежных детских уст. Не стыдно будет, если мама читает дневник? Нет, не стыдно! Даже перед мамой. Спросила у нее, что она думает относительно признания Олега. Мама не сразу ответила. Помолчав, вздохнула. Грустно вздохнула.
«Хочешь, чтоб сказала правду? И раньше и еще сильнее теперь я хотела и хочу, чтоб ты связала свою жизнь с другим человеком… Не с ним. Не лежит мое сердце…»
Я почему-то разозлилась.
«А кого ты выбрала? С кем ты связала свою жизнь?» – чуть не вырвалось у меня. Слава богу, спохватилась. Какое я имела право так жестоко укорять ее?
Сказала мягко, как бы в шутку:
«Странно, что ты такая, мама, старомодная».
Но и это обидело ее:
«Где уж мне угнаться за вами, модными!»
Разговор этот произошел еще летом, на лугу. Мама с первых послевоенных лет, как только обосновалась в Калюжичах, помогала летом в колхозе, в особенности во время сенокоса и жатвы. Люди удивлялись: какой расчет учительнице работать? Она не всегда даже получала натурой за выработанные трудодни. Однако, видимо, и почитали ее за это. Тогда была семилетка, учителей немного, и мама, пожалуй, была самой уважаемой среди них.
Мама и меня со школьных лет приучала к работе на земле, может быть, потому и биолог из меня вышел, хотя и не слишком хороший. Не скажу, чтоб так уж я рвалась к работе на поле. Когда девчат-ровесниц бригадир посылал, шла и я, чтобы не отрываться от них. Росла животным общественным. В совхозе хватает рабочих рук, и мама не ходит уж который год – неловко, боится, не подумали бы, что из-за денег.
Но прошлым летом на субботник в сенокос подняли всю интеллигенцию. Работа так понравилась, что я осталась в лугах на целую неделю. Веселые были деньки. Наработаешься, напоешься, нахохочешься! Остались девчата, которым не надо кормить детей, доить коров. Хлопцев неженатых было, правда, немного. А где их в наше время возьмешь на каждую девушку? Но все равно вечера проводили весело. Потанцевать можно и с женатыми. Мужчины – народ удивительный. Целый день машет косой по кустам и кочкам – луга у нас запущенные. А вечером иной такого выбивает крыжачка или гопака, что земля гудит. С девчатами особенно любят покружиться. А некоторые еще и грешные мысли таят, забыв о жене и расплате. Мне было особенно весело. За мной стал ухаживать Толя Плющай, Йог этот, наш комсомольский лидер. Олега тогда еще не было. Не скажу, чтоб мне нравился Толя. Но кому из нас, Евиных дочек, не лестно, когда сын Адамов на тебя заглядывается?
Девчата подтрунивали надо мной, над Толей. И мне было смешно. Такой шумный, активный обычно, передо мной становился тише воды, ниже травы. Вел себя, как школьник, влюбленный в учительницу. Оставались наедине – двух слов связать не мог. Я подарила ему вечера два или три. Ходили но песчаному берегу обмелевшей реки, слушали дергачей и лягушек, песни и гомон у недалеких шалашей. А прикоснуться ко мне Толя не решался. И говорить в первый вечер приходилось мне одной. Но потом понемногу разговорился. И вдруг начал агитировать… вступить в партию. Можно было бы посмеяться над таким влюбленным, если б предмет разговора не был столь серьезен, если б секретарь комсомольской организации не доказывал так горячо, что я «достойна быть в авангарде».
Я потом долго думала над этим разговором. И чем больше думала, тем больше убеждалась, что Толя прав. В самом деле, почему мне не вступить в партию? Столько лет была неплохой комсомолкой. А потом что, когда перерасту? Присоединюсь к старым учителям, которые, оглядываясь, шепчутся о тех непорядках в совхозе, в школе, о которых я на собраниях говорю в полный голос? Нет. не хочу оглядываться! Хочу всегда быть в гуще жизни, помогать людям и своим трудом и своей общественной активностью! Карьера мне не нужна. Какая карьера у учительницы? Дорасти до завуча лет через десять – пятнадцать? Не высок пост и не сладок хлеб. Нет, мне нужно одно: чтоб о строительстве школы, клуба, о ремонте хат селянам, об условиях труда доярок, о том льне, который сгноили, о пьянстве некоторых «активистов» говорить не с кумушками и тетками, не в учительской па переменках, а там, где эти вопросы решаются, – в организации людей, которые взяли на себя высокую обязанность руководить жизнью.








