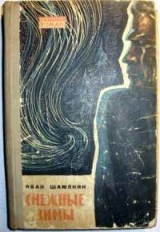
Текст книги "Снежные зимы"
Автор книги: Иван Шамякин
Жанры:
Русская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Иван Васильевич откинул капюшон, снял шапку, чтоб вытереть пот. Дождь больше не сечет, – видно, близкая гора заслонила от морского ветра. А может быть, он поднялся выше той тучи, что проливает крупный дождь? Осталась одна туманная морось. Но от этой мороси одежда сыреет хуже, чем от настоящего дождя. Дождевые капли скатились бы по плащу, туман же проникает всюду. Или, может быть, одежда отяжелела от пота? Все стало тяжелее – пальто, сапоги. А сердце… оно умное и нашло… свой ритм. Бьется часто, но без боли, без призыва к осторожности. Это вернуло хорошее настроение.
«Есть еще у тебя, Иван, запас прочности. Может, податься под старость в альпинисты?»
Однако обрадовался, когда неожиданно, как из-под земли, перед ним появился моряк, в камуфляжной накидке, с автоматом. Из-под капюшона блеснули веселые глаза.
– Стой, папаша! Гуляем?
– Гуляем.
– Отличная погодка для прогулки в горы! Верно?! – без улыбки кивнул моряк на небо.
– Ничего. В самый раз.
– Для чего – в самый раз?
– Для прогулки.
– Люблю веселых…
– …шпионов.
– Нет, дедов.
Ивану Васильевичу было жарко, и он хотел расстегнуть пальто. Но как только коснулся пуговиц, часовой поднял автомат.
– Ша, дед! Не шевелись. А то положу на землю и будешь нюхать скалу.
– Позови начальство.
– Между землей и небом я – высшее начальство.
– Что ж мне, так и стоять?
Иван Васильевич понял, что сигнализация здесь – вполне на уровне, что сигнал о его появлении давно уже.
– Неужто я похож на деда?
– Сынок, беру свои слова обратно. – И все это с деланной серьезностью. Хоть бы улыбнулся, разбойник.
– Болтун ты, брат, а не моряк.
– О-о! А это уже оскорбление особы часового.
Откуда-то сверху, как будто из туч, быстро спускались люди: сыпались из-под ног камешки, но летели не сюда, а куда-то в сторону, падали на мягкое, будто в траву.
Вынырнули из кустов двое – матрос и лейтенант, совсем молоденький, казалось – даже моложе своих подчиненных. Но зато куда более серьезный. Сразу строго потребовал:
– Документы!
Иван Васильевич подмигнул часовому, который задержал его.
– Можно залезть в карман? Лейтенант оборвал:
– Разговорчики!
– Уф ты, – сказал Иван Васильевич, протягивая паспорт.
Лейтенант покраснел – то ли от гнева, что с ним так непочтительно разговаривают, то ли от смущения, что так командует незнакомым штатским человеком.
– Антонюк, – прочитал вслух фамилию.
– Тут где-то служит мой сын, и я хочу с ним повидаться.
– Вася Антонюк? – Лицо веселого часового расплылось в улыбке.
Иван Васильевич понял: Вася его друг. Пожалел, что не сказал об этом сразу. Разговор их до прихода начальника караула мог бы пойти совсем иначе, и он, возможно, узнал бы о сыне больше, чем от него самого, от командиров. Хотя, собственно говоря, что он хочет узнать? Лейтенант бросил часовому:
– Разговорчики. Павельев! Следите за сектором! – И спросил у Антонюка уже с иронией: – Это сын вам написал, что его можно искать таким образом?
– Лейтенант, не будем играть в сверхбдительность.
– Гражданин! Я несу службу!
– Я уважаю вашу службу! Но, между прочим, хочу сказать: после того как вы познакомились с моим документом и узнали цель моего приезда, я мог бы перестать быть для вас «гражданином». Чтоб облегчить ваше положение, могу другим документом засвидетельствовать, что имею звание полковника. Вот так, товарищ лейтенант! Это чудесное слово – товарищ, оно сближает, роднит людей…
Лейтенант растерялся. Он совсем не был сухарем и педантом, но он действительно нес службу, от этого, в сочетании с его юностью, и шла вся его сверхсерьезность.
– Если вы, товарищ… полковник, то знаете, что есть места, где запрещено… А если вам надо видеть сына, то также должны знать…
– Четыре месяца назад здесь отдыхали моя дочь и жена. Дочь ходила по этой тропке, чтоб встретиться с братом. Здесь гуляли тысячи людей.
Все трое таинственно переглянулись: хоть ты, мол, и полковник, однако наивен и не представляешь, что за четыре месяца многое могло измениться. Заметив их ухмылки. Иван Васильевич, пожилой человек, проживший целую жизнь, сам почувствовал себя наивным чудаком, мальчишкой, которого двое суток вели не рассудительность, не разум, а эмоции, неосознанные желания.
– Что же мне – спускаться обратно?
– Идите за мной, – сказал лейтенант, спрятав паспорт в карман кителя.
Другой встречи Иван Васильевич и не мог ждать, разыскивая сына таким способом, а потому постарался настроиться на юмористический лад: чем больше приключений – тем интереснее. Но то, что хмурый лейтенант – он так ни разу и не улыбнулся – не вернул паспорта, ведет за собой и сзади так же молча идет автоматчик, не могло не задеть. Подумал: никогда и нигде за всю жизнь его так не вели и он так послушно не шел по чужой команде.
Хотел подшутить над собой, но мысль была слишком серьезна, чтобы над ней смеяться. Как бы он держал себя, если бы вели не свои, а враги? Странно, в партизанах никогда не приходило в голову подготовиться к тому, как бежать, если ты захвачен и тебя ведут двое или трое. Вырабатывали множество разнообразных тактических приемов действия отряда, бригады, подрывников, разведчиков, тактику штаба и даже его, командира, в разных ситуациях, на любой случай, а вот об этом не думали. Правда, в отряде Будыка обучал разведчиков приемам японской борьбы. Но он, Антонюк, смотрел на это скептически. Он признавал единственный действенный способ нападения и обороны – пулю и гранату.
Это воспоминания и размышления приглушили недоброе чувство, что шевелилось внутри, несмотря на юмористическое отношение ко всей истории с его задержанием.
Привели к воротам с проходной будкой. Поговорив по телефону, лейтенант подошел и, несколько смущенный, вернул паспорт. Сказал:
– Ждите.
Кого ждать, чего – не объяснил. Не попрощался. Ушел и автоматчик. Теперь, кажется, никому не было никакого дела до задержанного, о нем все сразу забыли. Только в окошко проходной выглядывал дежурный, но не выходил. И тогда Иван Васильевич возмутился. Теперь уже было не до шуток над собой, не до юмора. Хоть бы извинился, чертов сын, – подумал он о лейтенанте. – Ни малейшего такта! Вот молодежь пошла. Одна, на почте, рычит, другой слова человеческого не скажет…»
Почувствовал, что ноги гудят, млеют в коленях, как никогда, даже после самой трудной охоты, и сел на мокрый камень. Возможно, что, усталый, он задремал, потому что не увидел и не услышал, как в дежурку вышел сын. Пли они тут из-под земли появляются? Услышал голос сына и смех, когда тот выходил из дежурки сюда, в мир штатский. Василь увидел маленькую, закутанную в плащ фигуру отца на камне, но… не встревожился, подошел с улыбкой, будто ждал его приезда или только вчера с ним виделся. Иван Васильевич поднялся, навстречу.
– Ты приехал в санаторий?
– Нет.
– Нет? А куда?
– К тебе.
– Ко мне? – Юноша удивился.
Ивана Васильевича это задело: не верит, что отцовские чувства могли позвать в дальний путь.
– Может, поздороваемся?
Хотелось обнять сына. Но Василь засмеялся и по-мужски протянул руку:
– Здорово, отец.
– Здравствуй, Вася.
Рука у парня мозолистая, рабочая, сжал он отцовскую так, что Иван Васильевич, сам человек крепкий, не белоручка, порадовался его силе. Смотрел на сына снизу вверх: Василь на голову выше. На нем – новая фланелевка: как кусочек моря, синел из-под бушлата гюйс: брюки не широкие, не флотский клеш, как раньше, а нормальные, ботинки, начищенные до блеска, только бушлат будничный, рабочий, но пряжка па поясе горит. Эта черная одежда придавала ему элегантный вид. Иван Васильевич любовался сыном, не выпуская руки.
– Ты, правда, приехал ко мне?
– Все еще не веришь?
Василь смутился, сказал:
– Я не ожидал, – и в глазах его блеснула совсем детская радость, такая чистая, что тронула отца чуть не до слез.
Чтоб скрыть волнение, он пошутил:
– Я же вольный человек, пенсионер.
– Мама говорила, что ты тяжело переживал свою отставку. Я понимаю. С твоей энергией…
– Ну, мама наговорит! Меня зовут назад. Ситуация изменилась, и я подумал, что, если вернусь на работу, трудно будет вырваться…
Удивился такому неожиданному объяснению своей внезапной поездки. Да, он в конце концов согласится на любую должность и, конечно, накинется на работу с жадностью человека, долго изнывавшего от жажды. За время вынужденного отдыха у него появились некоторые любопытные идеи и по мелиорации, и по размещению культур, улучшению лугов… Было бы преступно не попытаться их проверить на практике, эти идеи.
Спросил у сына:
– Нам разрешили поговорить здесь на камнях?
– У меня увольнительная до восьми. Идем вниз.
– Идем.
Они зашагали по асфальтовой дороге, которая, затейливо петляя вокруг скал, огибая теснины, полого спускалась вниз. Идти по этой дороге было легко и приятно. Шли быстро, плечом к плечу и в ногу, как солдаты. Никогда не ходил так с сыном.
– Лада не знала этой дороги?
– А ты подымался там, по тропке? – Василь свистнул и засмеялся. – Лада ничего не хотела знать, ничего не хотела видеть. Она влюбилась в одного моего дружка, в Сашку Павельева. Теперь ему пишет каждый день. А мне – раз в месяц.
– Лада пишет сюда парню?
– А ты не знал?
Иван Васильевич почувствовал себя обманутым. Жил в уверенности: кто-кто, а Лада раскрывает перед ним свою душу, говорит обо всем, что думает. Единственный действительно открытый и искренний человек. Не то что молчаливая Майя, далекий Василь, зять, который болтает много, но всегда себе на уме. И вот – пожалуйста…
«И мать дуреха! «Лада каждый день бегала в горы к Васе!» Тетеря! Грела старую спину на пляже и сквозь черные очки собственной дочки не углядела. И теперь ни черта не видишь. Негр, Феликс Будыка – все это черно-белый камуфляж. А истина – вот она где. В горах. Не тот ли это весельчак, что первый меня задержал? Однако хватает времени у нее каждый день писать! На любовь всегда времени хватает». Необыкновенное чувство овладело Иваном Васильевичем: и злость на дочку, на жену, и в то же время какое-то странное удовольствие, даже восхищение: «Ах, чертовы дети, только и жди от вас сюрпризов».
– Если она держит это в секрете, то ты не выдавай меня, пожалуйста.
– Ладно. Не выдам.
– Я не хочу ссориться со своей дорогой сестрой. Она хоть редко пишет, но письма веселые и… умные.
– Что он за человек… этот твой друг?
– Сашка? Парень – душа. Лесовод. По уши влюблен в лес. У него отец лесничий. И о и поступал в Лесную академию в Ленинграде. Срезался. Ну и забрили.
Ивана Васильевича неприятно кольнуло это «забрили». Было бы больно узнать, что сын смотрит на службу как на наказание за университетские грехи. Поговорив о Ладе, о матери, он осторожно спросил:
– Ну, как тебе служится?
– «Как тебе служится, с кем тебе дружится?» – весело продекламировал сын и так же весело ответил: – Хорошо, отец. Поначалу было трудно. А теперь – ничего, даже нравится. Не надо много думать. Всё делаешь по команде.
– Не утрируй, пожалуйста. Ты не безголовый автомат.
– На своем боевом посту я думаю. У таких приборов нельзя не думать. Я могу открыть тебе секрет, товарищ полковник запаса. Если знаешь, что благодаря твоей работе в штабе флота и противовоздушной обороны каждую минуту и каждый час знают, что делается в небе, куда какой предмет летит и с какой скоростью, где, в каком квадрате стадо овец подняло слишком высокий столб пыли, так, скажу я тебе, такое чувствуешь!.. И гордость. И радость. И уверенность, что никакой гад неожиданно не плюхнет папе и маме на голову какую-нибудь игрушку, как в сорок первом. Пускай попробуют. Нам показывали, чем мы можем ответить. Правда, у меня возле этих «пушечек» похолодело внутри. Я не хотел бы нажать на эти кнопки. Но людям, которые изобрели наши приборы и все прочее, я готов в ноги поклониться. Можешь себе представить – твой сын, бездарный математик, не в пример своей гениальной сестре, здесь полюбил технику? Правда. Я даже думал: не сделать ли своей профессией работу с этими приборами?!
Это признание обрадовало отца. Говорил Василь, безусловно, искренне и серьезно, хотя и ребячился немножко, чуть бравировал. Только насчет профессии – отец не совсем понял. Спросил.
– Наш командир агитирует меня пойти в инженерное училище.
Такое намерение сына должно было бы обрадовать – вон как изменились его взгляды! Но Иван Васильевич вдруг почувствовал, что в глубине души ему не очень хочется, чтоб сын на всю жизнь остался в армии. Лучше бы скорее возвращался домой. Упрекнул себя: «Раскисаешь под старость, как его мамочка. Хочешь держать под крылом. Пускай выходит в широкий мир». Сказал:
– Что ж… недурная перспектива.
– Но если б в армии все были, как наш командир. Если б не было дураков…
Отец весело засмеялся.
– Чего захотел! Не помню, кто из великих сказал: без дураков было бы скучно.
– Это верно – с ними весело, – согласился Василь без улыбки, с мрачной суровостью. – Так весело…
Иван Васильевич вопросительно глянул сыну в лицо, сказал:
– Тебя обидел кто-нибудь?
– Нет. Никто. Но есть у нас один солдафон, все время боюсь, как бы не сорваться… А он – шишка.
– Я прошу тебя, Вася. Не от своего имени. От мамы. Я понимаю, случалось – сам давал дуракам в зубы. Но у меня было другое положение. Ты – солдат.
Василь, замедлив шаг и даже сбившись с ноги, так же пытливо посмотрел на отца, заглянул в глаза. Минуту тянулся немой разговор, который оба хорошо понимали. Наконец Василь широко улыбнулся.
– Не бойся. Не сорвусь. Научен уже.
Дождь перестал сеяться. Падали редкие капли. Облака поднялись выше. Или, может быть, так казалось потому, что все ниже и ниже спускались они. Когда дошли до поселка, Василь предложил:
– Пойдем погуляем у моря.
Волны бухали с прежней силой, только как бы реже, с большим раскатом. Они вышли но узкому переулку на берег. Море дохнуло в лицо солеными брызгами и запахом водорослей. Здесь, вблизи, белые гребни валов не казались такими грозно-фантастическими, уже не страшно было, что море водяной горой обрушится на землю. Все стало обычным. Но Антонюк увидел, как загорелись у сына глаза, раздулись ноздри, как он склонился над обрывом: вот-вот кинется в самую высокую волну. Нет сомнения: морские просторы приворожили сухопутного моряка.
– Море съело пляж, – сказал Василь с восторгом перед могуществом стихии и радостно засмеялся. – Негде будет «дикарям» отлеживать бока. Сколько их сюда наезжает летом! Лодыри!
– Ты строго судишь людей, использующих свое право на отдых. Разве твоя мать или Лада лодыри?
Василь немного смутился.
– Некоторые тут все лето сидят.
– Ты все знаешь…
– Совхоз – наши шефы. А дармоеды эти живут у совхозовцев. Правда, местные тоже научились их обирать.
– А заодно и тех, кто приехал отдохнуть на честно заработанную копейку.
– Да уж, конечно, не разбирают, с кого слупить больше, с кого меньше. Лови момент.
Такие рассуждения сына не понравились: одних он осуждает огулом, других так же огульно оправдывает, уверенный, что он – за людей трудящихся, которым можно простить такой небольшой грех, как выколачивание денег из курортников. Видно, хороши шефы эти совхозники, если такое влияние оказывают. Спорить трудно, не зная этих людей и их психологии. Он никогда не живал в таких курортных местах. Сын, между прочим, словно прочитав его мысли, сказал:
– Напрасно ты, отец, не ездил к морю. У тебя были такие возможности.
– Я не люблю курортов.
– Можно полюбить море.
– Я люблю поле и лес. Ты полюбил море?
– Полюбил. Это здорово, я тебе скажу. Даже в такую погоду – чудо. Неужели не понимаешь? А летом, когда солнце!.. Нам с горы его видно на десятки миль. Искрится все. И без конца меняет краски. Каких не бывает цветов! Когда солнце всходит, когда заходит. В полдень. Стоишь на посту – глядишь и не налюбуешься. А если б ты с аквалангом спустился под воду. Сказка! – От восторга он говорил отрывисто, как школьник.
– Ты аквалангист?
– Да. Разрядник.
– Это не рискованно?
– А ты прожил без риска?
Иван Васильевич опять рассмеялся.
– Ты парируешь, как хороший фехтовальщик. Я рискнул в последний раз в пятьдесят шесть… Правда, знал, что теперь это не смертельно.
– Ты был таким же и тогда, когда это было смертельно?
– На войне – всегда. В мирное время – не всегда. Но не потому, что не хватало мужества. Когда-то ты осудил меня…
– Теперь я не осуждаю. Нельзя бросаться в море с горы. Мне, например, хочется набить морду тому солдафону. Но что я этим докажу? Меня засудят. Теперь я тебя понимаю.
Ивана Васильевича растрогали эти слова сына, но и насторожили: а не слишком ли много взрослой рассудительности и… покорности? Кому нужно, чтобы из парня вырос безропотный исполнитель чужих команд? Конечно, армия есть армия. Однако и армия сильнее, когда состоит не из роботов, а из людей волевых, умных, свободных, которые умеют отлично выполнять разумные приказы, умеют серьезно думать не только о содержимом своего котелка и ранца, но и о самых высоких материях, о самых широких проблемах – от техники подводного плавания до космических полетов, от цен на курортном рынке до районирования посевов кукурузы, от схемы локатора до событий во Вьетнаме.
Они шли мимо белых домиков, где летом жили художники, мимо аллеи кипарисов. Иван Васильевич хозяйским глазом оглядывал строения, дорожки, тоннели из виноградных лоз, что некогда давали заманчивую тень, а теперь висели на железных опорах, как рваная сеть, неумело сплетенная, мокрая. Спросил у сына:
– Знаешь названия здешних садовых деревьев?
– Нет.
– Напрасно.
– Не всем же быть агрономами.
– Названия деревьев должен знать каждый культурный человек. Как бы ты себя чувствовал, если б не умел отличить дуб от клена?
– Сравнил!
Василя не интересовал сад. Он смотрел на море, пошел у самого обрыва, должно быть, нарочно, чтоб брызги били в лицо. Лизнул мокрую ладонь. Возможно, что сын нарочно привел к этому обелиску. Серая низкая пирамида, позеленевшая медная дощечка, надпись на которой скупо и прозаически сообщала, что здесь похоронено пятнадцать моряков-десантников, погибших 31 декабря 1941 года при высадке на берег.
Василь остановился у обелиска с таким видом, словно это была главная и конечная цель их похода. Снова начал сеяться дождь, и мелкие капельки его казались солеными, будто морские брызги взлетали в небо и падали оттуда. Корпуса пансионата отсюда, с берега, не выглядели так мрачно, как с шоссе, они смотрели на море множеством окон. Но ни на балконах, ни на дорожках – нигде ни живой души, словно место это давно и навеки покинуто людьми. От этой пустоты еще с большей силой охватывало чувство скорби перед этим простым памятником мужеству, каких тысячи на просторах от Волги до Эльбы, от Кубани до Дуная.
– Отец, скажи мне, зачем погибли эти ребята?
Иван Васильевич не понял, удивился и встревожился: почему вдруг такой вопрос?
– Как зачем? На войне погибли миллионы.
– Двадцать миллионов. Это я знаю. Но зачем был нужен этот десант?
Я не знаю, с какой конкретной целью и задачей высаживались здесь. Разведка, захват плацдарма, связь с партизанами… Разные бывали задачи. Но нельзя ставить вопрос так, как ты: зачем погибли, зачем десант? Ты – солдат, а не мальчик-школяр. Так можно задать тысячу «зачем» и «почему». А зачем я создал партизанский отряд, бригаду? Зачем к нам в тыл приходили и прилетали спец группы, диверсанты, радисты, агитаторы, даже писатели, актеры? И многие погибали. Иной раз и нелепо, случайно. Война есть война.
– Ты меня не понял. Я хочу выяснить: зачем вообще понадобилась эта массовая высадка в Крыму в последний день сорок первого года? Загнать на голый полуостров несколько дивизий, четыре армии.
– Дорогой мой сын, воевали люди. Разные. И те, кто планировал операции в стратегических масштабах, тоже были разные. Выдающиеся, посредственные, бездарные. Но и самый гениальный командующий не может все предвидеть, все рассчитать, каждый ход до самой победы. Ему противостоит противник, и тоже не глупый. Он рассчитывает свои ходы. Это как в шахматах. Ни один великий шахматист не может заранее знать, какой контрход сделает противник. Так и на войне. Иной раз из операции, на которую все возлагали надежды, тщательно готовили, получался, мягко говоря, пшик, пустой фейерверк, а не то и еще хуже – боком вылезало. Было это и у нас, у партизан, бывало и на фронте. Я не историк. А тем более никогда не занимался Крымской операцией. Если она тебя заинтересовала, ты мог бы за два года службы здесь выяснить все аспекты десанта. Теперь это уже не тайна. А ведь ты хотел стать историком…
– Я попытался. На меня чуть всех собак не повесили. Как в университете.
Иван Васильевич съежился: этот удар задевал и его. Об университете сын сказал спокойно, без обиды, сожаления, но так, что стало ясно – никогда он не согласится, что наказали его справедливо, в том числе и он, отец. Но у взрослых, у отцов, своя логика, которая в столкновениях c молодежью часто приводит не к тем выводам, которых они придерживаются в собственной житейской практике.
Иван Васильевич ответил:
– Потому что ты неправильно ставишь вопрос. Тебе хочется найти виновного в том, что не удалось.
Сын хмыкнул.
– Странная у тебя философия, отец. По-твоему выходит – нет виноватых? Никто ни за что не отвечает? Ни за предвоенные годы? Ни за сорок первый? Ни за этот десант? Ни за то, что порой дураки…
– Погоди. Не вали в одну кучу несравниваемые вещи. А почему ты не ищешь виноватых в окружении Паулюса, в Корсунь-Шевченковской операции, в Орловско-Курской битве?.. Там погибло не меньше, но там сломали зверю хребет. А штурм Берлина… Найди, кто командовал там. И может случиться, что это одни и те же люди. Положи на чаши весов их ошибки и их успехи, славу, героизм… Что перевесит? Всегда помни: судьбу народа, страны, ленинских идей решила не трагедия сорок первого, а победа сорок пятого.
– Но она могла быть добыта меньшей кровью.
– Сын мой, с такого расстояния и с такой высоты все мы умные и предусмотрительные. А осенью сорок первого в Гомельских лесах у меня – а я человек не слабый, ты знаешь, – были моменты, когда хотелось умереть, и я лез под шальные пули.
Василь помолчал. Отошел от монумента к обрыву, снова подставил лицо соленым брызгам. Когда отец стал рядом, спросил:
– Неужели до сих пор нельзя было установить фамилии этих пятнадцати и написать их?
Тут уж Иван Васильевич не просто возразил – возмутился:
– Значит, опять я виноват?
– Да нет… почему ты?
– Одним словом, отцы? Да? Ну ладно, пускай здесь сидят равнодушные люди в местном райкоме, военкомате. Но вы… вы два года тут служите. Сколько вас – я не знаю.
Наверное, не один десяток. Молодые, образованные! Рядом лежат ваши товарищи по роду войск – моряки. Почему же вы не разыскали их имена? Да вы могли бы не только разыскать имена, а вместо этого стандартного обелиска возвести здесь курган, гору славы, такой монумент, чтоб виден был с кавказского берега. Василь вздохнул.
– Ты плохо представляешь нашу службу. Не знаю, как служили в ваше время, а мне, могу теперь признаться, в первый год было не до поисков героев десанта, да и теперь не столько у нас времени, чтоб заниматься историческими исследованиями. Что ты хочешь от солдата?
– На девчат у вас хватает времени. – Иван Васильевич все еще не мог успокоиться, что Лада пишет моряку, а он. отец, ничего не знает; он подумал о том Ладином друге, когда сказал эти слова, но тут же понял, что прямо-таки жестоко бросать сыну такой упрек.
И Василь удивился. Спросил с вызовом:
– Что ж ты хочешь, чтоб мы совсем выключились из жизни?
– Жизнь – не одни девчата.
– Не будь моралистом, отец.
Тон какой! И подтекст: знаем, мол, какой ты моралист. Иван Васильевич чуть не вспыхнул. Но сдержался. Сын уже не тот, каким был два года назад, это – взрослый мужчина, и у них – мужской разговор, который естественно переходит с серьезного на мелкое, бытовое и наоборот. Однако, должно быть, смутившись, они долго молчали. Смотрели на белые гребни волн. Василь стоял так, чтоб брызги обдавали лицо, облизывал соленые губы. Антонюка-старшего тоже постепенно начало волновать море, его шум, простор, хотя он старался настроить себя против: оно может навеки заполонить сына. У Майи своя семья. Вылетит из родного гнезда Лада. С кем они, старики, останутся! Сын есть сын. Под старость начинаешь чувствовать, как это дорого и как необходимо – иметь сына. Василь спросил:
– Ты поедешь ночевать в город?
– Нет. Я хотел бы здесь. Может быть, завтра распогодится. Хочется взглянуть на горы, от которых в восторге твоя сестра. Говорит – нечто библейское.
– Если б ты вышел в море и поглядел оттуда! Это здорово, я тебе скажу! Какие глыбы! Чудеса. Описать невозможно, надо самому увидеть.
– Так можно тут переночевать?
– Летом тут ночуют тысячи. Уладим. С полным комфортом. Ты без вещей, вот так?
– Думаешь, твоя мать отпустила бы так – без двух кур на дорогу мне, без чемодана лакомств своему бедному сыну, который помирает с голоду.
Василь засмеялся.
– Я оставил чемодан на почте.
– Здесь, у нас? – Василь как будто немножко смутился, но тут же подтянул ремень на бушлате, бодро сказал: – Пошли на почту.
Девушка, которая испортила Ивану Васильевичу настроение своей невежливостью, увидев Василя, расцвела, как роза, и растаяла, как воск. Радостно вскочила:
– Вася! Ты идешь на пост?
Кажется, перескочила бы через загородку и бросилась в объятия, если б в дверях следом за высоким бравым моряком не показался небольшой худощавый человек в плаще – тот самый.
– Ко мне приехал отец. Познакомься, – повернулся Василь и представил девушку, которую такая неожиданность точно громом оглушила: – Валя.
Иван Васильевич через барьерчик протянул руку, сказал банальное, обычное: «Очень рад, очень рад», но звучало это, как издевательство, как жестокая насмешка, как суровый укор.
Больше ничего говорить и не надо было – девушка сама себя наказала. Рука ее, которую она не сразу догадалась подать, была влажной и холодной, глаза уперлись в банку с клеем. Щеки вспыхнули, а лоб пожелтел. От смущения она подурнела. Иван Васильевич подумал о сыне: «Неважный вкус у парня». Василь глянул на девушку и засмеялся.
– Валя! Тебя будто холодной волной смыло в море. Не бойся, не потонешь. Что случилось?
Она попыталась улыбнуться, но и это ее не украсило.
– Правда, чего ты морщишься?
Видно, это «морщишься» подсказало ей выход из неловкого положения.
– У меня болит зуб.
Иван Васильевич отметил ее находчивость. А может быть, и в самом деле у человека болит зуб? Тогда простим ей/ При зубной боли хочется кусаться и рычать на каждого, кто тебе докучает.
– Скажи, Валя, Иван Васильевич Антонюк мог бы переночевать у вас? Отец хочет дождаться погоды… у моря.
«Иронизируешь, прощелыга. – беззлобно подумал Антонюк. – Рад, а не хочешь показать».
Валя умеет быть любезной и приветливой. Зубная боль, верно, прошла. Она засияла солнечной улыбкой и стала довольно привлекательна.
– О, конечно! Вася, как тебе не стыдно спрашивать! Папа будет рад с вами познакомиться, Иван Васильевич. Посидите минуточку, я сбегаю предупрежу маму. Бросив на них почту, кассу, телеграф и телефон, она вылетела за дверь. Иван Васильевич с неодобрением подумал об этой девичьей беспечности. Пошутил:
– Считай, что мы захватили главный объект – почту и телеграф.
Василь не сразу понял, зная, что отец может и крепко поддеть вот так невзначай. Когда же до него дошел простой смысл шутки, весело захохотал.
– Значит, власть – в наших руках.
– Не совсем. Но налицо – половина успеха. Хотя что это я примазываюсь к твоей славе! Ты здесь обошелся без моей помощи. Давно? Она тебе нравится?
– Мы дружим…
– Так отвечают в шестнадцать. А тебе – двадцать три. И ты не из застенчивых, я знаю…
– Твой сын. «Издевается, черт».
– Напрасно ты так думаешь. Для меня в юности познакомиться с девушкой было мукой. И подвигом.
Сын скептически прищурился.
– И много у тебя было таких подвигов?
– Не дурачься. Я серьезно.
– Не бойся, жениться я не собираюсь.
– Вот этого я не боюсь. Не скажу, что при первом знакомстве мне понравилась твоя Валя. Но все же я прошу тебя никогда не забывать, что ее увлечение, ее чувство может быть глубже и серьезнее, чем твое. О, ты не знаешь, как может привязаться женщина!
– Ты это знаешь?
Иван Васильевич нахмурился.
– Даже в наше сверхдемократическое время говорить так с отцом… Что за манера? Это не делает тебе чести и не красит твой мундир.
Сын серьезно сказал:
– Но обижайся. Прости. Я ничего дурного не думал. Просто мы так привыкли. Стиль времени…
…Антонюк хороню знал и понимал женщин-крестьянок, ее взрослых дочек, их извечную заботу: как бы, упаси бог, не осталась девка вековухой. Можно простить им любые хитрости, любые уловки. Но эта мать, Валина, раньше, видно, не слишком одобряла дочкино увлечение морячком – ненадежный жених. И вдруг – приезд отца, устройство к ним на ночлег. Это меняло все представления матери, заставляло думать, что отец приехал по приглашению сына – на смотрины. В таком случае стоит постараться, не пожалеть ни добрых слов, ни щедрого угощения. Иван Васильевич чувствовал себя неловко. И смешно и глупо. Сердился на Василя, что так, не подумав, устроил его, на себя, что, человек опытный, не сообразил, какая создается ситуация. И тут же начинал разыгрывать свата, чтоб угодить наивной женщине. А она старалась вовсю, с перебором. Даже Валя почувствовала это и смутилась – исчезла из дому. Естественность во все внес хозяин. Спросил на кухне:
– Ты что стряпню затеяла, как на свадьбу? Жена зашикала на него, зашептала.
Он выругался в полный голос.
– ОДНИ женихи у вас на уме. Антонюку стало весело.
Поздоровался хозяин хмуро, руки первый не протянул. Но Ивану Васильевичу почему-то сразу захотелось получше познакомиться с этим человеком. Он пожал его большую шершавую, как кора старого дуба, руку, назвал себя:
– Иван Васильевич.
– Иван Трофимович. Тезки, значит? – Потеплели глаза усталого после работы человека. – Откуда?
– Из Минска.
– Считай, что земляки. Мы – смоленские. Сбежали в сорок седьмом из своего горемычного колхоза счастья искать.








